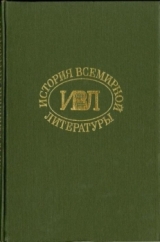
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 82 (всего у книги 88 страниц)
Как и другие романы 50-х годов XII столетия, «Роман о Фивах» – произведение переходное, точнее говоря, подготавливающее следующий этап развития средневекового рыцарского романа. Оно очень типично как попытка мифологизировать историю, приспособить античный сюжет для нужд своего времени, перелицевать его в духе идеологических представлений эпохи. Феодальная терминология встречается в «Романе о Фивах» на каждом шагу. Она обнаруживает себя не только в описании штурмов и поединков, особенностей замкового или городского быта, деталей вооружения или осадной техники. Сознание героев – сознание феодальное. Оно пронизано представлениями о вассальном долге, правах сюзерена и т. п. Нельзя также не отметить стремления вычленить из общего контекста повествования самозамкнутые любовные интриги, что было весьма продуктивным новшеством.
Акцент на подобных любовных коллизиях, также сочетающихся с псевдоисторическим фоном, окрашенным чертами феодальной повседневности, находим мы и в гигантском творении придворного историографа английского короля Генриха II Плантагенета, ученого клирика Бенуа де Сент-Мора.
Если «Роман о Фивах» восходил к хорошо известной в эпоху Средних веков «Фиваиде» Стация, то свой «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мор основывал на латинских средневековых пересказах Гомера (Дарес Фригиец, Диктис из Крита). Поэт с широким и мощным эпическим мироощущением, Бенуа де Сент-Мор начал свой «Роман о Трое» (ок. 1160) издалека – от набега аргонавтов, первых разрушителей многострадального города. Растратив свой недюжинный поэтический талант на изображение битв вокруг Трои в годы осады ее греками (этих батальных эпизодов в романе исследователи насчитали 24, и – при неизбежном однообразии – они все же достаточно выразительны и экспрессивны), оплакав участь павшей Трои, Бенуа обращается и к дальнейшей судьбе ее разрушителей. Не без характерного удовлетворения сообщает Бенуа о возмездии судьбы тем, кто особенно отличался при гибели священного города.
Наряду с бесконечными и любовно выписанными батальными сценами, из которых мы узнаем о приемах осады города в Средние века не меньше, чем из иной хроники, внимание автора привлекают любовные эпизоды, где куртуазный дух романа дает знать о себе особенно определенно. Эпизоды любви Ахилла и Поликсены, Медеи и Язона, трагическая история Троила и Бризеиды – это типичный для средневековой литературы мотив, увлекший вслед за Бенуа и по его стопам многих поэтов, до Чосера включительно.
Названные три любовные истории не занимают в романе много места, однако Бенуа именно здесь проявил не только свой незаурядный поэтический талант и изобретательность, но и настойчивые попытки создать индивидуализированный характер. Достигается это средствами во многом чисто внешними, примитивными – хотя бы неожиданными деталями портрета. Такова, например, кокетливая родинка на лбу Елены, таковы сросшиеся брови Бризеиды как символ ее роковых чар.
Бенуа пытается связать любовь с воинскими свершениями. Так, полюбив Бризеиду, Диомед становится все отважнее в бою. Однако подвиги свои герои совершают не во славу дамы, хотя молодые красавицы и наблюдают за поединками этих героев древнегреческих мифов с вполне средневековых крепостных стен и башен.
Как и в случае с Александром, герои античного эпоса у Бенуа де Сент-Мора восприняты и осмыслены как люди XII в., как сюзерены и вассалы, как бароны и дамы. Аудитория XII в. да и сам автор понимали, что это именно роман – выдумка, в отличие от жесты, хотя, быть может, короли и герои древних греков и были когда-то реальностью. Но с современными греками – византийцами, которые были достаточно известны в Европе, они соотносились в сознании французов XII в. еще более отдаленно, чем варварские короли Европы Раннего Средневековья с их наследниками, правившими в Париже, Лондоне или Ахене.
Обращение к античным темам и приобретенная ими в образованном обществе XII в. огромная популярность говорили не только о забавности и поучительности этих сюжетов. Это было и самоутверждение рыцарского сословия, которое таким образом высказывало претензии на существование еще в эти незапамятные времена, со своим «вежеством», со своими предрассудками и со своим пониманием сословного общественного строя. Это была претензия и на преемственность, на неразрывную связь нового общества с обществом древним и весьма славным. Преемственность, устанавливаемая таким образом, придавала феодальному обществу XII в. иллюзию долговременности, укорененности в далеком прошлом. Немаловажно заметить, что эта преемственность устанавливалась как бы вне счетов с религией, в некоем безрелигиозном идейном пространстве, которое вдруг появляется в поэзии XII в. Можно было оставаться добрым христианином и восхищаться подвигами язычников, грешивших много веков тому назад и за много веков до появления Иисуса Христа.
Это внерелигиозное духовное пространство, завоеванное поэтами XII в. на основе общего светского движения их времени, становится очень важной сферой относительного для тех времен свободомыслия.
Последним значительным произведением на античные темы был французский анонимный «Роман об Энее», созданный, по-видимому, в 60-е годы XII в. и вскоре же переведенный на немецкий язык Генрихом фон Фельдеке. Автором «Романа об Энее» был какой-то нормандский клирик, возможно связанный с окружением Генриха II Плантагенета и Альеноры Аквитанской. Этот поэт довольно точно изложил французскими восьмисложниками содержание «Энеиды» Вергилия. Он следует за своим источником весьма послушно, причем степень «медиевизации» пересказываемого материала в «Энее» значительно меньше, чем в других романах на античные сюжеты. Это не значит, конечно, что черт средневековой повседневности в книге совсем нет. Турн, например, здесь назван «маркизом», и владеет он типичным средневековым замком. Лавиния высматривает своего милого сквозь амбразуру донжона. Но это все частности, неизбежная дань своей эпохе. Автору романа в большей степени, чем его предшественникам, было свойственно ощущение исторической дистанции, удаленности описываемых легендарных событий, а следовательно – и их фиктивности. Появление «Энея» обычно связывают с поворотным моментом в развитии французского рыцарского романа. Здесь впервые в эволюции этого жанра (на французской почве, конечно) наивно понимавшаяся «история» отступила перед откровенно вымышленным любовным приключением: действительно, казуистике любви, ее воздействию на характер героя впервые было уделено столь значительное место. В книге нет нескольких автономных любовных интриг. В романе один протагонист и фабула четко концентрируется вокруг него.
Первый любовный эпизод книги – это роковая страсть Дидоны к Энею. Заимствовав у Овидия идею любви-болезни, автор романа подробно, в известной мере даже натуралистично изображает внешние проявления любви Дидоны: она мечется в постели, не находит себе места, почти теряет сознание и т. д. Это несколько наивное изображение любовных мук, воспроизведение страсти, терзающей героиню, было, по-видимому, первой попыткой передать сложный внутренний мир человека в наиболее тонкой области – в сфере любовных отношений.
Второй любовный эпизод романа – счастливая любовь Энея и Лавинии – был, как известно, Вергилием лишь намечен. И именно этот эпизод в «Романе об Энее» разработан наиболее подробно. Подробно – не только в смысле обилия фабульного материала, но и в раскрытии внутреннего мира протагонистов. Эней и Лавиния анализируют свои чувства, отдавая себе отчет в том, что любить можно по-разумному. Этот самоанализ, раскрываемый в пространных монологах героини, – несомненно, значительное литературное открытие безымянного автора. В монологах образ Лавинии как бы раздваивается: рядом с Лавинией, страстно и безоглядно отдающейся охватившему ее чувству и одновременно остро переживающей недозволенность этой любви, появляется Лавиния рассудительная, холодная, относящаяся к любви как к науке или искусству. Она одергивает ту, другую Лавинию и педантично наставляет ее.
Переход от романа исторического к любовному не совершился здесь окончательно. Герой романа сохраняет еще черты легендарного племенного вождя, и судьбы его народа занимают его прежде всего. Просто здесь поставлены новые акценты: любовь начинает претендовать на доминирующее положение в переживании героя. Но, в отличие от ранних куртуазных романов, здесь прослежены любовные испытания уже одного героя. В известной мере – его воспитание, чему, по существу, будут затем посвящены многие рыцарские романы. Эней сталкивается не только с охватившей его страстью к Лавинии, страстью, которую он стремится понять, но и с роковым влечением Дидоны, на которое он не может ответить. В данном случае в душе героя нет борьбы между чувством и долгом. Он, не задумываясь, покидает молодую женщину. Но следует он не воле богов, как у Вергилия, а собственному выбору: во французском романе заметно усилены личные побуждения героев. Теперь Эней не подчиняется божественным предначертаниям, уплывая на поиски желанной Италии: он все решает сам. В этой большой ответственности за свои поступки – истоки той глубокой осмысленности рыцарского свершения, чем будут отличаться герои следующих рыцарских романов. Но в «Романе об Энее» это лишь предчувствуется; здесь еще нет переплетения любви и авантюры, их взаимной обусловленности.
«Роман об Энее» продолжил и развил наметившуюся уже ранее, в первых куртуазных романах, традицию изображения внешней, красочной стороны жизни. Таково, например, описание плаща, преподнесенного спутниками Энея Дидоне, или боевого снаряжения амазонки Камиллы, предводительницы племени вольсков. Но автор романа умеет описывать и обыденное, а не только шумную охоту, веселый пир, блеск золота и переливы самоцветов, мягкость тканей или изысканность узорчатой чеканки. Не менее удаются ему и сцены повседневной жизни средневекового города. Рядом с возвышенным поэт изображает низменное, рядом с прекрасным – отталкивающее, безобразное.
Античные сюжеты пользовались популярностью среди обитателей замков (о чем говорят многочисленные поздние списки соответствующих романов). Но появление полухроник, полуроманов Васа, а затем первых рыцарских романов артуровского цикла совершенно вытеснило античные сюжеты из литературы. Классические формы средневекового рыцарского романа, как уже говорилось, сложились именно на бретонском материале. Первым и самым значительным представителем жанра романа в литературе средневековой Франции стал Кретьен де Труа.
Кретьен – характерный тип французского трувера второй половины XII в. Жизнь этого ученого поэта, хорошо знавшего латынь и в молодости переводившего Овидия, текла при дворах крупных французских феодалов (Марии Шампанской, Филиппа Фландрского), все чаще находивших полезным иметь в составе своей свиты и ученых клириков, к числу которых преимущественно относились авторы рыцарских романов. Вероятно, за плечами многих из них были годы вагантства, опыт пребывания в той или иной монастырской школе, годы утомительной службы в суде или капитуле.
Таков, видимо, был и путь Кретьена. Он начал с переводов Овидия – его «Искусства любви» и отдельных сюжетов из «Метаморфоз». Это свидетельствует о высоком уровне учености Кретьена и замечательном таланте поэтической передачи столь сложного текста, каким является текст поэм Овидия, средствами старофранцузского языка. Уже здесь можно говорить о новаторстве Кретьена, поэта, смело раздвигавшего рамки поэтической нормы своего времени и передавшего французским рифмованным стихом XII в. прихотливое течение чеканного латинского стиха. Конечно, это и Овидий, и не Овидий: в переводах сильно чувствуется французский поэт XII в. с его пониманием любви, с его представлением о «даме» и «милых», которые и близки к влюбленным Овидия, и далеки от них на целую тысячу лет. Но как бы ни был противоречив характер перевода, из него видно, какой школой изображения сложных человеческих чувств была для Кретьена, как и для многих его современников, работа над текстом Овидия, с культом которого мы повсеместно сталкиваемся в XII столетии.
Первым самостоятельным опытом Кретьена – рядом с наполненным многообразными жизненными реалиями стихотворным житием Вильгельма Английского – становится роман о Тристане, к сожалению не дошедший до нас. Сюжет, выбранный поэтом, говорит сам за себя: он воспевал ту же всепобеждающую любовь, певцом которой показал себя в переводах из Овидия. Дальнейшие произведения Кретьена – романы, написанные на основе преданий и литературных произведений Артурова цикла: роман «Эрек и Энида» (ок. 1170) повествует о ленивом рыцаре, которого верная и беспокоящаяся о его славе жена Энида возвращает в число лучших членов братства Круглого Стола; в «Клижесе» (ок. 1170) любовный сюжет бретонского цикла соединен с придворной византийской историей, что говорит об осведомленности Кретьена и в этой ветви рыцарского романа; в книге «Ланселот, или Рыцарь телеги» (ок. 1180) особенно подробно разрабатывается идеал куртуазности у Кретьена; «Ивейн, или Рыцарь со львом» (ок. 1180) славит верную супружескую любовь и говорит о характере подлинной рыцарственности, как ее понимал Кретьен. Логический и трагический конец этой сложной эволюции – в приходе к роману о Граале, к незаконченному роману «Персеваль» (до 1191). Здесь бретонские сюжеты не только переплетены с мотивами апокрифической литературы XI—XII вв., но и усилены восточными веяниями, принесенными из Крестовых походов. Здесь был отход от радужного оптимизма переводов из Овидия и от бытописательства «Вильгельма Английского».

«История Грааля» Роберта де Борона
Лист рукописи XIII в.
Париж, Национальная библиотека
Но обращение к бретонским делам и к сказанию о Граале открывало возможность для содержательной, глубокой и, главное, не контролируемой авторитетом христианства критики феодального мира. И такая позиция не случайна: в течение всего творческого пути Кретьена образ страждущего мира малых и угнетенных почти не покидал поэта. Вспомним хотя бы удивительное по своей достоверности и проникновенности изображение измученных непосильным трудом ткачих в романе «Ивейн». Но в полную меру этой возможностью Кретьен воспользоваться уже не успел. За него эту линию, крывшуюся в самом сюжете о Персевале, развил немец Вольфрам фон Эшенбах.
Образ человека в поэзии Кретьена был гораздо более сложен и богат, чем монументальные, но однозначные образы жесты, еще жившей в ту эпоху полной жизнью, чем персонажи хроник Васа, его современника, чем образы нескончаемых повествований на античные темы.
Кретьен обращается к острым психологическим конфликтам, находя в них неожиданные творческие импульсы. Такой психологический конфликт, необходимость выбора между любовью и приключениями, между супружеским долгом и рыцарской доблестью лежит, например, в основе первого романа Кретьена «Эрек и Энида». Здесь герой, делая первые шаги на рыцарском поприще – в турнирах, поединках, в лесных гонках за полумифическим белым оленем, покрывает себя славой и приобщается к рыцарскому братству Круглого Стола. Его доблесть увенчана и пышным свадебным обрядом: Эрек с благословения короля Артура становится счастливым мужем молодой, прекрасной и доброй сердцем, обладающей недюжинным умом Эниды. И вот тут, где другой, менее искусный поэт поставил бы точку, возблагодарив бога за завершение своего труда, Кретьен обостряет сюжет и усложняет характеры героев. Образ Эниды выдвигается на первый план. Это вообще характерно для поэта из Труа: женские образы в его романах (Энида, Фениса, Лодина, Бланшефлор – возлюбленная Персеваля и др.) впервые в средневековой литературе Запада получают столь углубленную и детальную разработку. Энида воодушевляет своего заленившегося мужа на новые подвиги, ибо не пристало рыцарю месяцами нежиться в замке и вскакивать в седло лишь для короткой утренней прогулки. Эрек снова в пути по бескрайним лесным просторам, по узким тропам, где не разъехаться двоим и каждый поворот, каждый перекресток могут обернуться неожиданным приключением. Энида не покидает мужа на этих глухих проселках. Здесь как бы проходит проверку не только мужество Эрека и верность Эниды, но и концепция супружеской любви Кретьена. Для него возлюбленная – это жена, подруга и дама. Высокий гуманистический смысл этой триады в пору почти повсеместного женского бесправия не подлежит сомнению. Это особенно очевидно в следующем романе Кретьена, в его «Клижесе», возникшем, несомненно, в творческой полемике с ранними обработками сюжета о несчастной любви Тристана и Изольды. Как и там, у Кретьена герой страстно полюбил жену дяди и она полюбила его. Но эта любовь лишена «смягчающего обстоятельства»: их соединило могучее взаимное чувство, а не случайно выпитый волшебный напиток. Но Фениса не хочет повторять ошибки Изольды, она сама решает, что будет принадлежать только любимому, и произносит замечательные слова, достаточно смелые для своего века: «Чье сердце, того и тело». Кретьен ставит Фенису в центр повествования: она оказывается исключительно активной и по сути дела направляет развитие действия. Роман оканчивается торжеством гуманистической триады Кретьена: Фениса становится для Клижеса и женой, и подругой, и дамой.
В «Ивейне» поэт вводит новые акценты. По-прежнему отстаивая права личности на свободу выбора и прямоту и честность в любовных отношениях, автор углубляет свое понимание рыцарской авантюры. Поэт из Шампани не только настаивает на гармонии между подвигом и любовью, этих двух непременных качеств рыцаря, но и наполняет авантюру большим общественным содержанием. В битве с драконом, с коварным карлой, с могучим рыцарем не только испытываются мужество и мастерство героя, не только формируется его характер, но и складывается комплекс взглядов на цели и задачи рыцарства. Ивейн защищает слабых, мстит обидчикам, освобождает пленниц, снимает злое заклятие с целой страны. Его подвиги осмысленны и целенаправленны (в отличие, например, от подвигов гедониста Говена в том же романе). Эта тема противостояния миру зла, как уже говорилось, была продолжена Кретьеном в его «Персевале», оборванном где-то на полпути.
Особой трагической сложности разработка характера героя достигает у Кретьена в романе о Ланселоте. Слушатель и читатель Кретьена де Труа знал, что Ланселот Озерный, друг короля Артура и самый верный его вассал, любящий его всем сердцем, имел несчастье полюбить так же верно и на всю жизнь жену своего коронованного друга и повелителя – королеву Геньевру (Гвениверу из «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского). Отношения Ланселота и Геньевры составляют печальную и сложную линию истории рыцарей Круглого Стола, во многом – линию стержневую: здесь все – и злорадные наушники, разбивающие дружбу короля и Ланселота, и расчетливые политики, добивающиеся ссоры между королем и его рыцарем из-за королевы лишь затем, чтобы ослабить короля и, оттолкнув от верного вассала, ввязать его в войну с Ланселотом, в которой рухнет могучее рыцарское братство. Изо всего этого возникают три душевные трагедии: трагедия обманутого друга, продолжающего в душе любить виновников своего несчастья, трагедия благородного обманщика, который чувствует себя обманщиком невольным, трагедия слабой, но доброй и прекрасной женщины, чье сердце принадлежит обоим.
Но Кретьен не пожелал заниматься всей этой длинной и трудной историей в пределах романа. Он рассказал только о любви Ланселота к его королеве. Сначала по своему положению придворного Ланселот был ее рыцарем. Но «служба» постепенно превратилась в жгучее чувство, и гордый рыцарь был уже готов на любое унижение во имя любви к Геньевре. Вот он, первый рыцарь короля Артура, трясется, как жалкий простолюдин, на убогой телеге, управляемой гнусным и насмешливым карлой, который наслаждается выпавшей ему возможностью поиздеваться над рыцарем. Зато как счастлив Ланселот, когда Геньевра становится его возлюбленной. Но это еще большее мучение для подлинного рыцаря, чем пребывание в телеге: забыт и растоптан рыцарский обет верности другу и короне.
Наряду с мастерским раскрытием захватывающих приключенческих и сказочных мотивов, увлекавших наивную аудиторию XII в. не менее, чем самые серьезные этические моменты повествования, внимание поэта сосредоточено на изображении душевного состояния и переживаний героев. Здесь-то и раскрывается сущность рыцарского романа XII в. – поэта интересует прежде всего тот или иной этап в развитии чувства любви рыцаря и дамы. Это не означает, что в романе нет места для иных чувств. Рассуждения о самых различных моральных проблемах, включая критическую оценку феодального общества XII в., а также сдержанные, но довольно частые упоминания о грехах богатеев и о горе простого люда можно порой встретить в том или ином памятнике жанра. Однако это все – орнаменты вокруг центральных сцен романа, касающихся прежде всего дамы и рыцаря.
В «Ланселоте» значительное место уделено и рыцарской доблести героя, как и в большинстве рыцарских романов XII в. Ланселот побеждает на турнире злодея, похитившего королеву, а не только домогается ее сладкими речами и великодушными поступками. В творчестве Кретьена появляется живой человек, а не закованный в латы монумент. Перед нами более сложное, богатое ви́дение человека; новое искусство изображать его стоит в связи с рождающимся в XII в. скульптурным мастерством портрета у художников ранней готики. Вместе с тем искусство Кретьена передавать настроения и чувства, как этого и следовало ожидать от ученого поэта XII в., во многом напоминает трактаты его времени, сдобренные красноречием книжной традиции. Кретьен изображает любовь как возвышающее и облагораживающее человека переживание.

Миниатюра из рукописи французского прозаического «Романа о Ланселоте»
XIII в. Париж, Национальная библиотека
Романы Кретьена – это повествовательная поэтическая форма, насчитывающая около семи тысяч стихов, хорошо организованных, с довольно богатой рифмой. В пределах такого большого стихотворного массива Кретьен проявляет замечательную легкость и гибкость стилистических конструкций, нередко он обращается к разговорному языку XII в., что не мешает роману быть и высоко торжественным, и эпичным, и патетическим, и лирическим. В пределах этой гибкой и богатой системы есть и отступления, что придает ткани романа небывалое до того разнообразие и живость.
Соединение любовного и приключенческого элементов в повествовании открывает возможности для включения большого количества вставных эпизодов, ретардирующих действие и позволяющих искусно дразнить любопытство слушателей. Богатый фантастический материал рыцарского романа (у Кретьена – преимущественно кельтского происхождения) придает произведению при всей его острой проблемной современности черты декоративной архаики, властно напоминает о том, что слушатель остается в мире вымысла, что это – прекрасная выдумка, однако содержащая в себе поучительный урок. В таком виде рыцарский роман выгодно дополнял суровую героику жесты, давая уму и сердцу не только отдых от ее кровавых и жестоких сцен, но и занимал сложными моральными проблемами более личного, но не менее важного характера.
Современником Кретьена был французский трувер Тома (или Томас), перебравшийся в Англию и, очевидно, там изложивший для местной англо-нормандской знати историю Тристана и Изольды. Этот роман о Тристане, полностью до нас не дошедший, в очень близких к Кретьену тонах трактовал историю мучительных отношений короля Корнуэльского Марка, его племянника Тристана и Изольды Белокурой, жены короля Марка, которая стала возлюбленной Тристана. Трагический узел, навеки связавший этих людей, усугубляется здесь еще и тем, что Тристан и Изольда полюбили друг друга на всю жизнь не только по зову сердца, но и по злой силе приворотного зелья, случайно выпитого ими. Кого же тут винить, как не судьбу, зло посмеявшуюся над несчастными и прекрасными, любящими друг друга людьми? Весьма интересен один из центральных эпизодов романа (он, к сожалению, не сохранился в трактовке Тома, но известен в изложении Беруля и поздних подражателей Тома – немецких, норвежских и др.): король Марк задумчиво стоит над спящими Тристаном и Изольдой, а затем, не нарушая их покоя, берет разделяющий любовников меч юноши и заменяет его своим мечом – знак того, что он был властен отнять их жизнь, но не сделал этого. По глубокой сердечной мудрости, по состраданию – это один из самых ярких образов мировой литературы. У Беруля читаем:
И вот король у шалаша.
Лесник, от страха чуть дыша,
С земли не смеет приподняться.
Король велит ему остаться,
А сам в шалаш заходит к ним,
Стоит безмолвен, недвижим,
Со спящих не спуская глаз.
Ужель прольется кровь сейчас?
Она рубашки не сняла,
Раздельны были их тела,
И меч меж ними обнаженный.
Стоит король, как пригвожденный,
На меч глядит в раздумье он
И думает, душой смятен:
«Что это значит, боже мой?
Они лежат передо мной,
А я не знаю, как мне быть —
Помиловать или убить.
Они в лесу живут давно,
И знаю твердо я одно, —
Когда б обоих похоть жгла,
Изольда б голая легла,
И меч из смертоносной стали
Между собой бы класть не стали».
.............
Тристанов меч из доброй стали
С их ложа Марк-король берет,
Взамен меж ними свой кладет
Бесшумной, бережной рукою...
(Перевод Э. Липецкой)
Таких светлых эпизодов в легенде о Тристане и Изольде немного. Особенно в той ее версии, что принадлежит Тома, а не Берулю. Действительность в представлении нормандского поэта трагична, лишена гармонии, в ней царят неправда и жестокость. Темные силы, воплощенные, например, в драконе, держат людей в постоянном страхе, требуют дани и человеческих жертв. По дорогам движутся горестные толпы прокаженных. Придворные выслеживают и наушничают. В таком мире нет места для чистой и благостной любви. Любовь для героев неизбежно связана с обманом, с хитростями и плутнями, даже с черствой неблагодарностью и жестокостью.
Трагизм действительности подчеркнут и усилен печальным рассказом о родителях Тристана, настраивающим читателя на определенный эмоциональный лад. Уже рождение Тристана связано с трагедией. И жизнь юноши нелегка. Это – завоевание своего места в обществе, затем тяжелый ратный труд, не раз ставивший героя на край могилы. Наконец, трагическая любовь.
Тристан и Изольда сознают незаконность и трагическую безысходность своей любви. Они то бездумно предаются страсти, то борются с ней, стремясь ее преодолеть, расстаются, бегут друг от друга. Брак для героев священен. Священно и вассальное служение. Но они нарушают и то, и другое. И делают это легко. По крайней мере, не долго сетуют и страдают, обманывая трагически доверчивого Марка. Любовь их преодолевает внутренние препятствия (победить внешние им не составляет труда): ревность, подозрительность, внезапно нахлынувшую антипатию, жестокое желание побольнее отомстить за мнимое предательство.
Отчасти этим продиктована женитьба на второй Изольде – Изольде Белорукой. Но бегство от возлюбленной – это одновременно и неудержимое стремление к ней. Обе Изольды прекрасны, и обеих несравненных красавиц зовут одинаково – Изольдой.
Краса и имя прежней милой —
Вот что в другой его пленило.
За два достоинства он к ней
И тянется душою всей:
Когда б ее иначе звали,
Он воспылал бы к ней едва ли;
Не приглянулась бы она
Тристану, будь собой дурна.
(Перевод Ю. Корнеева)
Гуманизм Тома сказался, в частности, в том, что он не осуждает своих страдающих героев. Страдают не двое (Тристан и Изольда), а четверо (и король Марк, и Изольда Белорукая). Трудно сказать, кто из них страдает больше. Стихия страдания пронизывает роман. Любовный напиток – это оправдание и символ дальнейшей судьбы Тристана и Изольды. Их трагическая участь открывается им уже в море, полюбили же они друг друга раньше, и это ясно им обоим еще до отплытия к королю Марку, по крайней мере они осознают это в тот момент, когда Изольда открывает в Тристане убийцу Морхольта, открывает и – отказывается от мести. Стихия страдания вовлекает в свою орбиту все новые жертвы. Страдает король Марк, страдает служанка Бранжьена, тихо скорбит Изольда Белорукая, печалится верный Горвенал. Страдания достигают апогея после женитьбы Тристана. Молодость и красота другой Изольды влекут его, но он отказывается от любовных утех с женой. Тома последовательно отстаивает концепцию трагической любви, несовместимой со счастьем. Любовь и нежность в этом мире могут привести только к страданиям и смерти.
Роман Тома обычно называют «куртуазной версией» легенды о Тристане и Изольде. Однако куртуазность книги весьма относительна. Концепция куртуазной любви (т. е. возвышенной, утонченной и недозволенной) присутствует в романе, но она лишена идеальности, столь типичной для большого числа произведений куртуазной лирики, да и куртуазного романа. Изольда для Тристана – не предмет для поклонения, стоящий где-то на грани обожествления. И любовь молодых людей реальна и зрима, она знает простые чувственные радости и не стыдится своих проявлений. Книга поразила современников изображением трагической несправедливости жизни, раскрытием парадоксальной логики любви и человеческих взаимоотношений, своим печальным выводом о невозможности счастья.

Лист рукописи «Басен» Марии Французской
XIII в. Париж, Национальная библиотека
Роман Беруля сохранился также далеко неполностью. В нем больше событийности, больше напряженных ситуаций; разработка некоторых из них (например, сцена с мечом, разделяющим спящих Тристана и Изольду) достигает высокой поэтичности и силы. Однако психологически произведение Беруля не столь глубоко. Так, не умея объяснить метания героев, их разлуки и новые встречи, поэт ограничивает действие любовного напитка тремя годами, хотя их любовь после этого срока не проходит. Есть в сохранившихся фрагментах и прямые противоречия (это объясняют иногда тем, что перед нами произведение не одного, а двух авторов). Но, главное, в романе слишком многое утрачено, и общий замысел Беруля не до конца ясен.
Среди многочисленных обработок сюжета о любви Тристана и Изольды выделяется маленькая лирическая поэма (лэ) «Жимолость» англо-нормандской поэтессы второй половины XII в. Марии Французской. В ее кратком рассказе —
отношения героев приобретают особую остроту и трагическую силу.
Эта сгущенность лирического переживания – вообще отличительная особенность жанра лэ, генетически более близкого к своим бретонским первоисточникам, чем современный лэ рыцарский роман.








