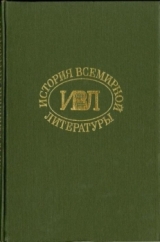
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 88 страниц)
Однако средневековая литература непрерывно накапливала опыт все более глубокого и адекватного воспроизведения действительности, познания мира и человека. Этот процесс накопления реалистических черт сопутствовал и непрерывному – в масштабах всемирной литературы – расширению состава литературы как за счет постоянного возникновения новых направлений, жанров и форм, так и благодаря включению в общий процесс все новых молодых литератур.
Средневековая литература была столь богата и многообразна, что без опоры на ее опыт не смог бы осуществляться литературный процесс в следующие за Средневековьем эпохи. Поэтому полного отрицания традиций Средних веков не могло произойти. Да в большинстве регионов Старого Света такого отрицания, открытого, сознательного и прокламированного, и не было. Для многих литератур Востока традиции Средневековья, пусть в очень трансформированном виде, просуществовали практически до первой половины XIX столетия. Для таких литератур эти традиции были национальной классикой. На Западе полного отказа от подобных традиций также не произошло. Здесь было отброшено лишь все косное и застылое, что содержалось в средневековой культуре. И хотя средневековая литература знала периоды несправедливого забвения и предвзятых оценок, благодаря усилиям не одного поколения ученых-медиевистов эта культура оценивается теперь по достоинству, с учетом всех ее достижений и утрат как один из существеннейших этапов в литературном развитии человечества. Советской наукой поставлен вопрос о правомерности и необходимости изучения литературного процесса в эту эпоху в масштабах литературы всемирной.
РАЗДЕЛ I.
-=ЛИТЕРАТУРЫ ЮЖНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ [III—XIII ВВ.]=-
ВВЕДЕНИЕ(П.А.Гринцер)
В процессе распада старых и образования новых культурно-исторических зон, происходившем на последнем этапе периода Древности, индийская литература (точнее, литература народов Индостанского субконтинента, на котором в настоящее время расположены независимые государства Индия, Пакистан, Непал и Бангладеш) выделяется в самостоятельный литературный регион. Генетические связи, существовавшие некогда между древнеиндийской литературой и древнеиранской, давно уже потеряли свое значение, и, когда в начале II тыс. н. э. в результате мусульманского проникновения в Северную Индию возобновляются контакты между двумя культурами, их взаимодействие происходит на совершенно новой основе: скрещиваются и взаимно обогащаются независимо друг от друга сложившиеся средневековые литературные традиции, и в ряде случаев (например, в литературе урду) создаются условия для возникновения так называемого индо-мусульманского культурного синтеза. В то же время в самой индийской литературе все более усиливаются дифференцирующие тенденции. Наряду с санскритской литературой, доминирующей на Севере Индии, на Юге – уже в первых веках нашей эры ширится влияние литературы тамильской, а со второй половины I тыс. начинают складываться многочисленные новоиндийские литературы, в первую очередь на дравидских, а затем и на индоарийских языках. Поэтому применительно к эпохе Средневековья мы уже не вправе исходить, как это было ранее, из представления об одной, более или менее целостной индийской литературе, но должны говорить об индийских литературах, которые имеют много общего, но которые многое и разъединяет. Развиваются эти литературы не всегда синхронно, но они постоянно контактируют друг с другом и в целом сходны по своим историческим судьбам.
Существенной особенностью индийского литературного процесса в рассматриваемый период является также то, что понятия «литература Средних веков» и «средневековая литература» в нем не совпадают. Средние века, или период господства феодальных отношений, наступают в Индии, согласно точке зрения большинства специалистов, в середине I тыс. н. э. Между тем санскритская литература, которая в этом тысячелетии успешно развивается и как раз к его середине достигает наибольшего расцвета, принадлежит по своему характеру и свойствам к литературам древнего типа. Не случайно ее – вместе с произведениями на языках ведийском, пали и пракритах – с полным правом называют также литературой древнеиндийской. И только в конце I тыс., с появлением новоиндийских литератур, в Индии на авансцену литературного процесса выдвигаются литературы собственно средневековые.
Санскритскую литературу на всем протяжении ее существования – и в Древности, и в Средневековье – отличает четко выраженное внутреннее единство, последовательная преемственность эстетических принципов и традиций. Ее, безусловно, следует считать типологически целостным явлением, сопоставимым в своих основных чертах с литературами европейской античности и других народов Древнего мира. В этой связи показательно, что, подобно многим литературам Древности, санскритская литература и I тыс. до н. э., и I тыс. н. э. играла роль своего рода «античного» наследия по отношению к литературам новоиндийским и, более того, многим литературам Южной и Юго-Восточной Азии: яванской, малайской, тайской, лаосской, кхмерской, бирманской, сингальской. Среди этих литератур яванская достигла высокой ступени развития уже к началу II тыс. н. э.; о становлении других мы располагаем немногими сведениями и, как правило, их первые дошедшие до нас художественные тексты датируются более поздним временем. Но всякий раз мы убеждаемся, что древнеиндийские религиозные и светские памятники – как в переводах, так и в санскритских или палийских оригиналах – имели для истории этих литератур значение, сходное со значением памятников греческой и римской античности для Европы.
Первый этап развития древнеиндийской литературы, рассмотренный в первом томе «Истории всемирной литературы», был связан в основном с формированием четырех грандиозных литературных комплексов: ведийского, буддийского, джайнского религиозных канонов и санскритского эпоса. В первых веках нашей эры начинается новый ее этап, который по аналогии с развитием иных древних литератур правомерно назвать классическим. Если ранее подавляющее большинство памятников древнеиндийской словесности были устными (или по крайней мере, устного происхождения), то теперь художественное творчество становится в основном письменным. Если литература вед, эпоса, религиозных канонов буддистов и джайнов была по существу анонимной и литературное произведение выступало скорее как одно из проявлений жизнедеятельности коллектива, чем как творение отдельной личности, то теперь все развитие индийских литератур связано с именами реальных и чтимых в культурной традиции авторов, таких, как Ашвагхоша, Калидаса, Дандин, Бхартрихари, Бхавабхути и др. Если, наконец, древнейшая индийская литература была по преимуществу литературой синкретической, то в литературе I тыс. н. э. эстетические, собственно художественные задачи выдвигаются на первый план.
Эти принципиальные изменения в характере литературы были в конечном счете связаны с глубокими изменениями в политической и духовной жизни Индии и так или иначе обусловлены ими. Борьба с иноземными вторжениями на рубеже старой и новой эры, с одной стороны, содействовала выводу Индии из состояния относительной культурной замкнутости, а с другой – способствовала внутренней консолидации индийского общества, вступавшего на путь феодального развития. Консолидация сказалась и в расширении сферы употребления санскрита как делового, культового и литературного языка, и в утверждении общих социальных и правовых норм, и в укреплении в качестве господствующей религии индуизма, постепенно вытеснившего буддизм за пределы Индии, и в складывании больших государств, одно из которых, империя Магадхи при династии Гуптов, в IV—V вв. распространило свою власть на всю Северную и Центральную Индию. Гуптскую эпоху иногда называют «золотым веком» древнеиндийской культуры. Именно тогда или во всяком случае в близкое той эпохе время были сформулированы основные доктрины индийской классической философии, значительных успехов (часто на много веков опережающих развитие науки в Европе) добились естествознание, математика, астрономия и медицина; наивысшего расцвета, насколько можно судить об этом по многим сохранившимся до наших дней памятникам Аджанты и Санчи, Матхуры и Эллоры, достигли изобразительные искусства: архитектура, живопись и скульптура. Тогда же, по-видимому, жил и творил Калидаса, чье имя впоследствии стало как бы олицетворением идеала и духа древнеиндийской культуры.
Калидасой были созданы классические произведения во всех трех основных жанрах санскритской литературы: так называемом литературном, или «искусственном», эпосе, лирической поэме и драме. Одно это показывает, какой путь прошла древнеиндийская литература от тех синкретических сводов, какими она была представлена в I тыс. до н. э., до времени жизни Калидасы. Этот путь потребовал нескольких веков (I – начало IV в. н. э.), составивших начальный период истории классической санскритской литературы. В течение начального периода завершилась автономизация литературы среди других видов творческой деятельности, произошла дифференциация литературных жанров и стилей, появилась литературная теория. Достижения литературы этого периода воплотились в таких широко известных памятниках, как «Натьяшастра» и «Панчатантра», в творчестве таких выдающихся писателей, как Ашвагхоша и Бхаса, Хала и Гунадхья.
Следующий период, начало которого совпадает с гуптской эпохой, приходится на IV—VIII вв. Санскритская литература этого времени развивается на базе уже сложившегося литературного канона, который был зафиксирован в пользовавшихся заслуженным авторитетом трактатах по поэтике (Бхамахи, Дандина, Ваманы, Удбхаты и др.) и получил образцовое воплощение в поэмах и драмах Калидасы.
То обстоятельство, что произведения санскритской классики опираются на устойчивый канон изобразительных средств, имеет весьма существенное значение для их оценки и понимания. Санскритская литература, как и вообще любая древняя или средневековая литература, была литературой по преимуществу традиционной. В ней господствовали традиционные темы, традиционные сюжеты, традиционные образы (восходящие в значительной части к древнему эпосу), которые оставляли, казалось бы, мало места для самовыражения писателя. Руководствуясь современными литературными критериями, можно было бы представить себе, что читатели средневекового индийского поэта ждали не столько нового и неожиданного, сколько знакомого и привычного. Однако такое представление на самом деле односторонне и неточно. Совмещение, диалектика «привычного» и «нового» – необходимое условие читательского восприятия в любую эпоху, только содержание и соотношение этих понятий постоянно меняются, их границы расширяются или сужаются. Средневековый поэт, действительно, творит по канону, а не вопреки ему, и традиционалистский характер его произведений очевиден и неоспорим, но, если он поэт истинный, традиционные мотивы, характеры, образы всякий раз приобретают в его творчестве необычное наполнение или интерпретацию, раскрываются в неожиданных ракурсах и оттенках. В средневековой Индии высоко ценилось изобразительное мастерство писателя, особенно рельефно выступающее на фоне сравнительно ограниченного набора канонических приемов, однако дело здесь не просто в писательской технике: за этим мастерством, как правило, стояла индивидуальность художника, индивидуальность его стиля и мировосприятия. Поэтому мы всегда отличим гармоничного и философичного лирика Калидасу от страстного и противоречивого проповедника Бхартрихари, изящного и утонченного Харшу от динамичного и демократичного Шудраки, остроумного и трезвого Дандина от неторопливого и щедрого на вымысел Баны. Произведения этих писателей, так же как и других поэтов, драматургов и романистов IV—VIII вв., разнообразны и оригинальны, и в то же время они созданы в согласии с нормами традиционного эстетического канона, каким он сложился в классический период санскритской литературы.
Однако с конца VIII в. в условиях углубления противоречий общественной жизни и усиления феодальной раздробленности Индии творческие возможности санскритской литературы начинают ослабевать. Неизменность и устойчивость традиции, бывшие положительным фактором, пока сохраняли актуальность ее социальные и культурные источники, становятся тормозом литературного развития, когда эти источники иссякают. Санскритские эпика, лирика, драма по-прежнему представлены широким кругом произведений, но попытки нетривиальной интерпретации традиционных жанров и тем в большинстве случаев выливаются лишь в формальную изощренность или демонстрацию авторской эрудиции. В этой связи не случайно на первый план выдвигаются как раз те жанры, которые в классический период находились как бы на периферии литературы. В таких жанрах, как псевдоисторическая хроника, сатирическая поэма или фарс, обрамленная повесть, отдельные санскритские авторы (Хемачандра, Кшемендра, Калхана, Сомадева и др.) и сейчас добиваются больших успехов; добиваются их потому, что это были жанры более демократичные и менее регламентированные. Но, несмотря на частные достижения, санскритская литература в целом теряет доминирующее положение в литературном процессе. И одновременно в истории индийских литератур намечаются сдвиги, пожалуй еще более значительные, чем изменения, происходившие на рубеже старой и новой эры.
Сдвиги эти были обусловлены тем, что вследствие внутреннего социального и политического развития: укрепления феодализма, распада обширных империй (таких, как империя Гуптов или империи Харши и Яшовармана из Канауджа в VII и начале VIII в.) и образования многочисленных феодальных государств, мусульманских завоеваний первых веков II тыс. и т. п., – в Индии формируются новые народности и закладываются основы для возникновения разноязыких и разнохарактерных культур. Соответственно появляются и новые литературы, причем санскритская литература, утрачивая стимулы собственного развития, становится для них мощным источником традиции. Но при том, что эти литературы – речь идет о литературах Севера Индии на языках индоарийских, родственных санскриту, и литературах Юга на языках дравидских – складываются под воздействием санскритского наследия, им по существу свойственна принципиально новая ориентация, они отражают идеологические потребности и эстетические нормы развитого феодального общества. В сравнении с классической древнеиндийской литературой они в своей совокупности представляют собой литературы нового, средневекового типа, и, таким образом, период с конца VIII по XIII в., согласно основным тенденциям литературного процесса, может быть по праву назван периодом формирования собственно средневековых индийских литератур.
Среди таких литератур необходимо оговорить положение дравидской тамильской литературы. Ее реальная история начинается задолго до возникновения других новоиндийских литератур – в первых веках I тыс. н. э. Ранние памятники тамильской литературы (панегирики и лирические поэмы) создаются, по-видимому, вне сферы североиндийского влияния; тем не менее, формируясь в сходных с классической санскритской литературой условиях, тамильская литература долгое время оставалась близка ей типологически. Со второй половины I тыс. тамильская литература, сохраняя очевидное своеобразие, проявившееся, например, в создании обширного цикла философско-дидактичеких поэм с буддийской или джайнской окраской, как бы подключается к синхронным процессам, происходившим в североиндийском литературном ареале. Наряду с собственной традицией, в ней все большую роль начинает играть традиция санскритской литературы, рассматривавшейся как общее культурное достояние.
Если не считать тамильской литературы, процесс становления большинства новоиндийских литератур со всей четкостью обозначился лишь на рубеже I и II тыс. н. э. Повсеместно он был стимулирован обострившимся чувством национального самосознания народов Индии, но протекал с разной степенью интенсивности и далеко не синхронно. Так, самостоятельное развитие средневековых литератур индийского Юга началось несколькими веками раньше, чем на Севере. Одной из причин этого было влияние на южные литературы сложившейся рядом и уже достаточно развитой литературы тамильской. Другая, по-видимому, состояла в том, что потребность в собственной литературе была здесь большей, поскольку на дравидском Юге разрыв между литературным санскритом и народными языками ощущается значительно резче, чем на Севере, где санскрит был генетически родствен местным разговорным языкам и имел более широкую сферу употребления. Во всяком случае, уже в X—XII вв. существовали как таковые дравидские литературы каннада, телугу и малаялам, от раннего периода которых сохранились, с одной стороны, джайнские дидактические поэмы типа тамильских, а с другой – жанры, восходящие к санскритским: эпические поэмы на сюжеты «Махабхараты» и «Рамаяны» и так называемые чампу – повествовательные сочинения, написанные частично стихами, частично прозой.
О североиндийских литературах (на языках хинди, бенгали, маратхи, пенджаби и т. д.) говорить как о сложившихся явлениях по отношению к периоду VIII—XIII вв. еще рано. Эти литературы существовали тогда только как преднациональные литературные общности, и произведения этих литератур создавались в основном на апабхранше и иных переходных языках. Санскритская литература оказывала на их становление не меньшее влияние, чем на литературы дравидские. Многие ранние памятники индоарийских литератур представляли собой переложения древнеиндийского эпоса, и иногда целые жанры, как, например, чампу или героическая поэма пенджабцев – вара и раджастанцев – расо, формировались по образцу соответствующих санскритских. Однако санскритское влияние далеко не исчерпывало собою факторы, определившие специфику новых литератур. Большую роль в их развитии играли всякого рода оппозиционные демократические течения, принимавшие, как это было свойственно Средневековью, форму религиозных ересей. Так, в истоках пенджабской литературы можно обнаружить стихи участников сектантского движения натхов, в истоках литературы хинди – стихи на апабхранше поэтов-сиддхов, у истоков бенгальской литературы – сборник ритуальных гимнов «Чорджапод», созданный буддистами-тантристами. Подобного рода тексты, как правило, были тесно связаны с местным фольклором. И именно эта связь с живой фольклорной традицией, а также актуальная идеологическая ориентация новоиндийских литератур, отличающие их от поздней санскритской литературы, обусловили их последующие художественные достижения, когда начиная с XIII в. они вступают в пору своей зрелости.
*ГЛАВА 1.*
КЛАССИЧЕСКАЯ ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(П.А.Гринцер)
САНСКРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВЫХ ВЕКОВ Н. Э.
После падения империи Маурья (ок. 180 г. до н. э.) Индия, как это нередко и позднее случалось в ее истории, стала объектом иноземной экспансии. Весь Северо-Запад и Запад страны на долгое время оказались под властью сменяющих друг друга завоевателей. Сначала бактрийскими греками была захвачена долина Инда, и они основали здесь так называемые индо-греческие царства (ок. 190—50 гг. до н. э.). Затем скифы, или шаки, разгромив индо-греческие царства, продвинулись далеко на юг и в I—II вв. н. э. установили свое господство почти над всей Центральной и Западной Индией. Наконец, на Севере страны в I в. н. э. шаков сменили кушаны, ветвь кочевого племени юэчжи, вторгшиеся в Индию из Восточного Туркестана. Правители кушанов Кадфиз I, Кадфиз II и в первую очередь Канишка (вероятно, начало II в. н. э.) создали могучую империю со столицей в Пурушапуре (Пешавар), включавшую Афганистан, Бактрию, Хотан – за пределами Индии – и Пенджаб, Кашмир, Синд, Уттар Прадеш и часть Бенгалии – внутри ее границ. Империя кушанов распалась лишь в III в. н. э. под ударами соседних, в том числе и индийских, племен и народов.
Не только кушаны, но и другие иноземные завоеватели столкнулись с растущим сопротивлением индийских государств. Так, уже греческий правитель Менандр, когда он попытался захватить новые провинции, был разгромлен Пушьямитрой Шунгой, основателем династии Шунгов, правившей в Магадхе с 180 по 70-е годы до н. э. Почти весь Юг Индии в течение двух или трех столетий (вероятно, в I—III вв. н. э.) был объединен под властью династии Сатаваханов, упорно и нередко успешно боровшихся с продвижением шаков. Наконец, в III и IV вв. в Центральной Индии сложились сильные государства Нагов и Вакатаков, нанесшие несколько серьезных поражений кушанам и шакам и подготовившие почву для изгнания чужеземцев и объединения страны в последующую эпоху империи Гуптов.
Сопротивление завоевателям стимулировало растущее стремление индийского общества к внутренней консолидации. В начале I тыс. н. э. стала заметной ориентация на прошлое Индии, которое ретроспективно представляется «золотым веком», веком мудрецов и героев. В связи с этим в тех частях страны, которые были менее затронуты нашествиями извне, происходит постепенное падение влияния буддизма и возрождение старых культов брахманизма, который становится официальной религией при династиях Шунгов и Сатаваханов, Нагов и Вакатаков. Однако древняя ведийская религия предстает теперь в новом обличье, и в возрожденном брахманизме складываются два основных направления: вишнуитов, поклонявшихся Вишну-Кришне, и шиваитов, признававших верховным богом Шиву.
Ориентация на прошлое выразилась также в стремлении освятить и утвердить древние правовые и социальные нормы. Литература ведийских дхармасутр была продолжена так называемой литературой смрити (буквально «воспоминание», «предание»), сборниками законов, касающихся чуть ли не всех сторон религиозной, общественной и семейной жизни. Среди этих сборников наибольший авторитет и распространение получили «Манусмрити», или «Манавадхармашастра» («Законы Ману»), приписанные легендарному прародителю людей и созданные, как полагают, между II в. до н. э. и II в. н. э. «Законы Ману» исходили из представления о незыблемости древнего социального устройства: принадлежность к той или иной варне (касте) определяла, по Ману, цели, способ и характер жизни каждого индивидуума. Однако и «Законы Ману», и иные ранние смрити («Яджнявалкьясмрити», «Вишнусмрити») рисовали, по-видимому, нарочито архаизированное, идеальное общество, пренебрегая нередко реальным положением вещей. Судя по косвенным указаниям тех же смрити, а также других памятников индийской культуры, в Индии наряду с кастовой все большую роль начинает играть имущественная и профессиональная дифференциация общества: бедные брахманы нередко оказывались на положении шудр, а шудры, если им удавалось добиться богатства, добивались и власти; и теперь уже не жречество, а царский двор и чиновная бюрократия приобрели решающее влияние на все стороны жизни.
Сила внутреннего сопротивления иноземным завоевателям сказалась в Индии также в том, что даже в захваченных частях страны не индийцы подчинились чуждым им традициям и вере, но, наоборот, победоносные пришельцы подверглись – вольно или невольно – почти полной духовной ассимиляции. Так, шакские сатрапы очень быстро приняли ведийскую религию и сделали санскрит своим официальным языком. Шиваитами и вишнуитами были некоторые из кушанских царей. Но наиболее привлекательным для чужеземцев, в силу своей свободы от внешних связей с национальными культурами, оказался буддизм. Одно из выдающихся произведений древнеиндийской прозы II—I вв. до н. э., дошедшее до нас в палийской версии, но первоначально созданное, видимо, на санскрите или каком-либо из североиндийских пракритов, – «Милиндапаньха» («Вопросы Милинды») содержит диалог философа Нагасены с неким царем Милиндой о сущности буддийского учения. Современные исследователи обычно отождествляют Милинду с греческим царем Менандром (II в. до н. э.), первым из завоевателей принявшим буддизм.

Бодхисаттва с лотосом
Стенопись. Аджанта. Конец V в.
Еще более популярен буддизм был при дворе кушанских правителей и особенно у его ревностного почитателя и покровителя Канишки. Как полагают, в царствование Канишки жили великий поэт буддизма Ашвагхоша, крупнейшие буддистские философы Нагарджуна и Васумитра, автор известного трактата по медицине буддист Чарака. В империи кушанов зародилась новая, северная школа буддизма – махаяна, которая включила в буддизм как некоторые чужеземные культы (например, поклонение статуям), так и отдельные брахманические доктрины (например, идею бхакти – личной преданности богу как способа его познания). Махаяна превратила Будду из учителя в божество и, в отличие от южного буддизма – хинаяны, выдвинула на первый план учение о бодхисаттвах – просветленных существах и будущих буддах, к числу которых мог быть причислен уже не только монах, но и любой добродетельный и преданный Будде мирянин.
Способность буддизма приспособлять в своих целях местные верования и обычаи содействовала его широкому распространению за пределами Индии. Поэтому при кушанах, империя которых служила как бы местом встречи культур Индии, Китая, Ирана и греко-римского мира, буддизм широкими волнами начинает проникать в Центральную и Восточную Азию.
Культурное влияние шло, конечно, и в обратном направлении. Следы греческих учений можно обнаружить в индийской астрономии и математике, а выдающаяся по своей художественной ценности скульптура Гандхары (северо-западная окраина Индии, входившая в Кушанскую империю) примечательна тем, что в ней индийские буддистские сюжеты трактуются с помощью изобретательной техники, заимствованной от эллинистического искусства Малой Азии. Однако в целом иноземное влияние на индийскую культуру первых веков н. э. не следует преувеличивать. Вторжения извне ввиду быстрой ассимиляции чужестранцев, усвоения ими индийских языков, религии и обычаев не смогли нарушить преемственный характер индийской цивилизации. И в числе иных ее аспектов это касается и древнеиндийской литературы, которая, хотя и вступила в новую фазу развития, продолжала опираться на художественные достижения своего прошлого.
В предшествующую эпоху древнеиндийская литература при всем своем тематическом и стилистическом разнообразии исчерпывалась, как мы уже говорили, четырьмя обширными литературными комплексами: ведийским, буддийским, джайнским и эпическим. Эти комплексы охватывали гетерогенный материал, сочетали религиозные, философские и дидактические цели с чисто эстетическими установками и принципами, но по существу представляли собою еще не литературу в узком смысле этого слова, а своего рода энциклопедические своды, стремящиеся осветить все стороны жизни, ответить на любые ее запросы. В связи с ними мы можем говорить об элементах литературных жанров, но отнюдь еще не о жанровой дифференциации, об индивидуальном вкладе безвестных авторов, но не о полнокровном и законченном индивидуальном творчестве.
Эпоха конца I тыс. до н. э. и первых веков н. э. вносит в развитие древнеиндийской литературы принципиально новые черты. Только теперь в строго очерченных формах возникают отличные друг от друга жанры эпической поэзии, драмы и лирики. Только теперь мы впервые сталкиваемся не с анонимными произведениями, но с определенными авторами. Только теперь эстетический критерий становится доминирующим в литературном творчестве.
Удивительным при этом оказывается то обстоятельство, что уже первые дошедшие до нас произведения индийского литературного эпоса, драмы и лирики – речь идет о произведениях Ашвагхоши (II в.), Бхасы (III—IV вв.) и Халы (III—IV вв.) – были не робкими попытками создания новой формы, но вполне законченными образцами классических жанров. По своей композиции и методам изображения они немногим отличаются от более поздних памятников, и их авторов по праву ставят рядом с такими великими их преемниками, как Калидаса, Шудрака и Бхартрихари. Однако это явление не столь поразительно, каким оно кажется при первом взгляде. При рассмотрении развития древнеиндийской литературы, пожалуй, в еще большей мере, чем в иных древних литературах, нужно считаться с тем, что уцелела лишь незначительная часть общего числа литературных памятников, и потому приходится прибегать к косвенным данным, к догадкам и к гипотезам, чтобы хоть сколько-нибудь убедительно реконструировать последовательность историко-литературного процесса, преемственность его традиций.
Для эпической и лирической поэзии начала I тыс. н. э. проследить эти традиции легче, чем для драмы. Лирические строфы, повествовательные эпизоды и диалоги, гномические стихи и эмоциональные описания встречаются и в ведах, и особенно в классическом эпосе. При этом один из двух эпосов, «Рамаяна», для индийцев был уже не просто итихасой (сказанием о древности), но и образцом кавьи, т. е. поэзии в собственном смысле этого слова, а его легендарный автор Вальмики – адикави (первым поэтом). В процессе создания «Рамаяны» наметился переход от классического к литературному эпосу,
от дидактико-религиозной к эстетической концепции творчества. А о некоторых утраченных памятниках, которые составляли как бы звенья развития от «Рамаяны» к поэмам Ашвагхоши, мы можем судить по нескольким косвенным свидетельствам.
Так, грамматику Панини (между VI—IV вв. до н. э.) отдельные санскритские авторы приписывают не дошедшую до нашего времени поэму «Джамбаватиджая» («Покорение Джамбавати») – о нисхождении Кришны в подземный мир – и семнадцать стихов в антологиях. Грамматик Патанджали (II в. до н. э.) в своем известном грамматическом трактате «Махабхашья» («Большой комментарий») указывает, что его предшественник Вараручи также был автором эпической поэмы (кавья). Кроме того, Патанджали упоминает названия трех несохранившихся повестей (возможно, в стихах): «Васавадатта», «Суманоттара» и «Бхаймаратхи» – и, что особенно важно, цитирует сорок отрывков из современной ему поэзии. Среди этих отрывков много панегирических, гномических, эротических и описательных строф, которые написаны уже не ведийскими или эпическими метрами, но размерами, принятыми в классической санскритской поэзии.
Более детальную информацию об эволюции стиха дает современник Патанджали – Пингала, автор специального трактата по метрике. Большинство размеров, которые он объясняет, также хорошо знакомы классической поэзии последующих веков, и их названия, которые Пингала приводит (например, манджари – «бутон цветка», бхрамаравиласита – «веселый, как пчела», танви – «стройная», манджубхашини – «сладкоречивая», шашивадана – «луноликая» и т. д.), сами по себе свидетельствуют о распространенности лирических жанров.








