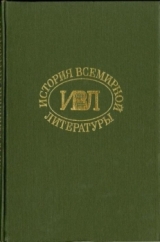
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 75 (всего у книги 88 страниц)
подвиги смирения, отречение от мира и т. д.; некоторые эпизоды стандартизировались настолько, что переходили из жития в житие дословно, менялись только имена. Развлекательная тенденция преобладает с XII в., сказываясь в стремительном накоплении фантастических рассказов о чудесах, творимых святыми и их мощами; такие рассказы отвечали не только вкусам публики, но и интересам монастырей, куда с XII в. все многолюдней стекались паломники на поклонение этим мощам. Рассказы о чудесах, легко вбиравшие в себя фольклорный сказочный материал, получили такую распространенность, что к XIII в. стали выделяться из житий и образовывать самостоятельные своды, – таковы были популярнейшие «Чудеса пресвятой девы Марии» (быстро перешедшие во французскую литературу) и сборник Цезария Гейстербахского (ок. 1180—1240) «Диалог о чудесах», где пестрый набор сказочных эпизодов циклизировался по темам (об обращении, о покаянии, об искушении, о демонах и т. д.) и был снабжен дидактическими выводами, преподносимыми старым «монахом» молодому «послушнику». Сами жития тоже рано стали предметом циклизации: в XI в. извлечения из них, предназначенные для чтения в церкви («легенды»), стали собираться в богослужебные сборники, в XII в. рост ученой любознательности повел к собиранию полных житий в огромные, до сих пор полностью не изданные своды; в XIII в. эти своды вновь стали излагаться в сокращении, но уже не для церковных служб, а для индивидуальных читателей. Самый знаменитый такой свод – «Золотая легенда» доминиканца Иакова Ворагинского (ум. 1298) – сборник 180 житий, рассчитанный на самую широкую публику, сразу получивший неслыханную популярность, переведенный (с обильными дополнениями) на все народные языки и за первые 50 лет книгопечатания изданный 90 раз. Эта своеобразная «народная книга» Позднего Средневековья послужила источником бесчисленных позднейших переработок агиографического материала, вплоть до «Легенды о Юлиане Милостивце» Флобера и «Таис» А. Франса.
Жанр чудес родствен жанру видений: по существу, видение есть то же чудо, раскрывающее ясновидцу судьбу грешных и праведных душ и тем наставляющее его и читателей на путь истинный. Жанр видения вполне сложился в раннесредневековой литературе: мы находим в нем и стандартный план, и стандартный набор образов и мотивов (в том числе почти постоянные встречи с реальными историческими лицами, караемыми на том свете за недостойную жизнь, что давало простор выражению политических пристрастий автора). Литература Зрелого Средневековья продолжает разрабатывать жанр в том же направлении, детализируя картины и совершенствуя стиль; среди других произведений латинской литературы XI—XIII вв. видения занимают сравнительно скромное место, но читательская популярность их была велика: и прозаическое «Видение Тнугдала» (XII в.), и стихотворное «Видение Фулберта» (нач. XIII в.) сохранились во многих рукописях и новоязычных переводах. Центральный художественный прием видений, «откровение во сне», был быстро взят на вооружение и куртуазной, и городской дидактической литературой («Роман о Розе», «Видение Петра Пахаря»), а общая схема видения стала основой для монументального синтеза средневековой европейской культуры – для «Божественной Комедии» Данте, стоящего уже на пороге Ренессанса.

«Золотая легенда» Иакова Ворагинского
Лист рукописи XV в.
Следующим шагом в область чистой дидактики является аллегорическая поэзия. Вкус к аллегории был общей чертой средневекового мировоззрения,
мир осмыслялся как система соответствий, в которых за каждым единичным явлением стоял его религиозный и нравственный эквивалент; поэтому ничего не было естественнее, чем изобразить вместо носителей добродетелей и пороков сами эти добродетели и пороки в олицетворенном виде. Такое изображение могло быть представлено двояко: в эпической и в драматизированной форме. Для эпической аллегории образцом была «Психомахия» Пруденция; заданный ею мотив борьбы добра и зла за душу человека присутствует во всех средневековых произведениях этого жанра, то развернутый в широкую картину войны по всем вергилианским правилам, то сжатый до рудимента. Высшее достижение аллегорического эпоса – поэма «Антиклавдиан» цистерцианского философа Алана Лилльского (ок. 1128—1202), мастера изысканно-вычурного риторического стиля; здесь рассказывается, как Природа творит идеального человека (Природа творит его тело, а Бог повелевает божественному Уму сотворить совершенную идею человека, и с этой идеи чеканится его душа, – платоническое представление, характерное для гуманизма XII в.), сонм Добродетелей его одаряет, но вергилиевская фурия Аллекто выводит против него рать пороков, следует непременная война Добродетелей с Пороками, победа и наступление нового Золотого века.
Такова была эпическая форма аллегорической поэзии; драматизированной формой ее стали эклога и дебат. Эта форма родилась от скрещения поэтики вергилианской диалогической буколики с содержанием школьного диалогического учебника-катехизиса; образцом для нее явилась «Эклога Феодула» (IX в.), где пастух Псевстий («Лживец») из Афин и пастушка Алития («Истина») из давидова рода обменивались четверостишными пересказами античных и библейских мифов. Зрелое Средневековье слагало такие дебаты во множестве; в них спорили душа и тело, смерть и человек, ангел и дьявол, вера и разум, церковь и синагога, фортуна и философия, богач и Лазарь и многочисленные добродетели с противоположными пороками. Популярность этого жанра поддерживалась его народными корнями (прения весны с зимой на майских праздниках) и имела следствием обильные пародические подражания (прение воды с вином или вина с пивом; прения о том, кто достойнее любви, клирик или рыцарь). Как аллегорическая поэма, так и аллегорическая эклога имели сильнейшее влияние на новоязычную литературу Средневековья: от первой пошел «Роман о Розе» и другие поэмы, густо населенные олицетворениями, от второй – весь жанр театрального моралите.
Если житие давало образец победы добра над злом, а аллегорическая поэзия – схему борьбы добра со злом, то конкретное изображение этой борьбы в жизни и душе человека было предметом следующего жанра – автобиографии. Античность, как известно, этого жанра не знала, она воспринимала человека во всей его законченности; внимание к душевному развитию человека пришло с христианством, для которого переломом в этом развитии было обращение автора (в первые века христианства) или его вступление в духовное звание (в последующие века). Для европейской литературы это стало очень важной школой психологизма. Образцом нового жанра была знаменитая «Исповедь» Августина; но, конечно, произведения позднейших веков далеко отставали от этого образца. У Отлоха Эммерамского (ок. 1010—1070) автобиография растворяется в патетической наставительности (характерны сами заглавия его «исповедных» сочинений: «Книга видений» и «Книга искушений»), у Гвиберта Ножанского (1053—1121), известного историка крестоносцев, автобиография перерастает в историю его аббатства и окрестной епархии. Эпохой в развитии жанра стала лишь «История моих бедствий» неизменного новатора – Абеляра. Писанная около 1132—1134 гг., она должна была служить апологией перед возвращением Абеляра из очередного изгнания в Париж; в соответствии с этим покаянные ноты в ней почти не звучат, из самобичевания она превращается в самоутверждение; Абеляр откровенно гордится и своими успехами в школе и преподавании, где он всегда лучше всех, и своими успехами у женщин, где он «ни от единой не страшился отпора», а причиною всех бедствий оказывается лишь низкая зависть его неудачливых соперников. Этот образ героя уже порывает с августиновской традицией и предвещает образы ренессансных автобиографий; неудивительно, что именно по автобиографии Абеляра и по дополняющей ее переписке Абеляра с его возлюбленной Элоизой романтизированный образ этого философа стал достоянием позднейшей литературной традиции.
Наконец, наиболее полное выражение дидактическая литература находила в двух жанрах: зерцале и проповеди. Зерцалом в средневековой литературе назывался вначале краткий и удобо-обозримый свод материала по любой науке; название это стало традиционным, и еще в XIII в. Винценций из Бовэ озаглавил свою исполинскую тройную энциклопедию всех наук (около 10000 глав, целиком составленных из выписок, очень систематичных, но почти неотредактированных, – «Зерцало природы», «Зерцало истории» и «Зерцало учености», т. е. философии).
Но особенно привилось это заглавие к трактатам по этике. В них единообразно излагались высокие нравственные требования, завещанные христианам отцами церкви, а затем с пафосом показывалось, как далеко до этого идеала современному обществу. Обличению подвергались алчность и тщеславие, распущенность и невежество; тон был самый суровый, образцами служили библейские пророки и античные сатирики. Но при всей этой резкости обличения звучали достаточно отвлеченно (под Ювенала), а выводы из этих обличений всегда выдерживались в духе традиционной христианской морали: это была не критика, а как бы «самокритика» феодального общества, хотя, конечно, при случае в ней могли прорываться и отголоски оппозиционных еретических учений. Основное внимание латинских моралистов было обращено, конечно, на собственное, духовное сословие, много пыла в их пафос вносило традиционное соперничество белого духовенства с монашеством, цистерцианского монашества с клюнийским и т. д.; примером может служить «Перл церковный», сочинение Гиральда Камбрийского, одобренное папой Иннокентием III. Но не оставались без внимания и мирские сословия: лучшее произведение средневековой моралистики, «Поликратик» цицеронианца Иоанна Сольсберийского (ок. 1120—1180), в критической своей части обличает «забавы двора» – охоту, игры, музыку, зрелища, гадания, предрассудки и пр., а в положительной части развивает очень зрелую для своего времени политическую теорию, по которой королевская власть подчинена божественному закону, и отступающий от него король-тиран может быть низложен и убит. Это не единственный в дидактической литературе плод тесного взаимодействия духовного и рыцарского сословия: к той же литературе зерцал принадлежит знаменитый трактат «О любви» (между 1174 и 1186 гг.) Андрея Капеллана, служившего при французском дворе, – составленное в трех книгах по овидиевскому образцу (как добиться любви, как сохранить любовь, как избавиться от любви) самое систематическое изложение куртуазной этики любви, вплоть до пересказов «постановлений» легендарных «судилищ любви». Здесь религиозная назидательность уступает место куртуазной этике.
Последний из дидактических жанров, проповедь, была самым массовым жанром средневековой литературы; она стояла ближе всего к народной жизни, и в ней можно было бы ожидать наиболее конкретные отголоски действительности. Это, однако, не так; проповедь неожиданно крепко держалась за свои древние образцы. Кроме того, существовала значительная разница между проповедью на латинском языке, обращенной к узкому кругу духовенства (братии монастыря или капитулу церкви), и проповедью на народном языке, обращенной к мирянам; записывались, как правило, лишь проповеди первого типа с более отвлеченным содержанием. Однако жизнь все же проникала в проповедную литературу, только не с наставительной, а с развлекательной стороны: чтобы привлечь интерес слушателей, проповедник должен был использовать в качестве примера житийные эпизоды, рассказы о чудесах, а также притчи, имеющие любое содержание, лишь бы оно давало возможность для моральных выводов или аллегорических толкований. Сборники таких притч рано стали составляться для нужд проповедников, и в них сразу начал проникать фольклорный материал. Первый такой сборник (под заглавием «Учительная книга клирика») составил в начале XII в. испанец Петр Альфонси, широко используя в нем притчи, почерпнутые из знакомой ему арабской дидактической литературы; с арабского же были переведены «Калила и Димна» и «Книга о семи мудрецах»; оживился интерес к эзоповским басням. Использование подобного «смехотворного» материала в проповедях первоначально встречало осуждение, но с XIII в., когда развернули свою массовую деятельность францисканцы и доминиканцы, такое дидактическое применение притч, новелл и анекдотов стало общепринятым.
Среди многочисленных сборников такого материала, сложившихся в XIII—XIV вв., наибольшую славу приобрела книга, получившая заглавие «Римские деяния» (действие большинства ее рассказов произвольно приурочивалось ко времени того или иного «римского царя»). Это свыше полутораста рассказов, каждый из которых состоит из двух частей – повествования и нравоучения. Сюжеты повествований – античные мифы и исторические эпизоды (пересказанные фантастически вольно), бытовые новеллы, сказки, чудесные истории, шутки; а в нравоучениях все персонажи и ситуации этих рассказов, до мелочей, оказываются обозначающими бога-творца, Христа, человека, дьявола, церковь и т. д. Контраст развлекательных сюжетов и поучительной аллегоризации так разителен, что обыгрывание его едва ли не было нарочитым средством художественного эффекта. В латинской дидактической литературе получил свою закалку и такой ведущий жанр будущей ренессансной литературы, как новелла. Сюжетами «Римских деяний» пользовались и Боккаччо, и Чосер, и Шекспир, книга была переведена на все европейские языки, а в XVII в. в переводе с польского она дошла и до русского читателя.
СВЕТСКИЕ ЖАНРЫ
Между клерикальными и светскими жанрами средневековой латинской литературы переходным является историография. Она служила одновременно и дидактическим целям (как картина божьего попечения над судьбами человечества), и научным (как свод фактической информации), и художественным (как материал для занимательного чтения).
Средневековая историография имела два истока – хронику и летопись (анналы). Жанр хроники был унаследован от античности: это был краткий обзор истории древности, от «сотворения мира» приблизительно до конца античности; наряду с позднеримскими образцами (Флор, Евтропий) здесь важнейшим источником стал Евсевий (в латинской переработке Иеронима), впервые установивший искусственную синхронизацию событий библейской и античной истории. Именно здесь демонстрировалась несложная христианская «философия истории» (шесть возрастов мира по числу дней творения, от «младенчества» до «дряхлости»; четыре мировые державы, от Мидийской до Римской; три религиозные эпохи: до Моисея, до Христа и после Христа; по любому членению современность оказывалась в последнем периоде, недалеко от конца света и Страшного суда). Жанр летописи был заново создан Средневековьем: как когда-то римские летописи выросли из жреческих записей на «белых досках», так средневековые летописи выросли из монашеских записей на полях церковных календарей о неурожаях, войнах и сменах аббатов. Постепенно эти две формы сращивались: хроника сокращалась до введения к летописи, летопись расширялась до продолжения хроники. Центрами летописания были монастыри: паломники доносили сюда больше вестей о событиях, чем гонцы до королевских дворов. Расширить круг этих сведений, научиться их систематизировать – в этом состояло постепенное развитие историографии. В XI в. летопись Радульфа Глабра представляла лишь хаос разрозненных заметок; в XII в. хроники француза Сигеберта из Жамблу (ок. 1030—1112), англо-нормандца Ордерика Виталиса (1075—после 1142), англичанина Вильяма Мальмсберийского (ок. 1090 – после 1142), немца Оттона Фрейзингенского (ок. 1114—1158) становятся подлинными историческими сочинениями. Труд Ордерика построен по образцу монастырской истории, труд Оттона – как всемирная история, находящая свое завершение в Священной Римской империи и уже близящаяся к своему концу. Особое место занимали хроники отдельных событий, прежде всего крестовых походов: первый крестовый поход нашел своего историка в Гвиберте Ножанском (1053—1121), второй – в Гийоме Тирском (ок. 1130—1186), четвертый – в Гунтере Пэрисском (ум. после 1210 г.); но уже здесь новоязычная историография начинает соперничать с латинской, и сочинение Гунтера отступает на второй план перед сочинением Виллардуэна.
Собственно литературный интерес латинской историографии проявляется не столько в ее художественных особенностях, сколько в ее содержании. Здесь историография часто оказывается средством сохранения и распространения национальных литературных и фольклорных сюжетов, которые через латынь делаются общеевропейским достоянием. Так, сюжеты романских сказаний о Карле Великом (в том числе и «Песни о Роланде») пересказываются в Псевдо-Турпиновой «Истории Карла Великого и Роланда», сочиненной ок. 1165 г., когда католическая церковь причислила Карла к святым. Так, сюжеты германских и скандинавских (норвежских и исландских) сказаний, в значительной части записанных впервые, составили половину больших «Деяний датчан» Саксона Грамматика (ок. 1150 – ок. 1220), к которым восходит, между прочим, и сюжет шекспировского «Гамлета». Так, славянские предания о возникновении Польши и Чехии вошли в первые латинские хроники этих стран, писанные в начале XII в. Галлом Анонимом и Косьмой Пражским, а полабские и поморские сказания нашли отражение в немецких хрониках Адама Бременского и Гельмольда. Но самым важным вкладом латинской историографии в сюжетный запас средневековой литературы были кельтские легенды, пересказанные валлийцем Гальфридом Монмутским (ок. 1100—1155) в его «Истории королей Британии» со ссылками на фантастическую «древнейшую книгу» кельтов; именно отсюда растеклись по Европе сюжеты романов о Мерлине, Артуре и его подвигах.
Историческая тематика была предметом не только прозаической, но и стихотворной обработки. Здесь, конечно, задачи научные отходили на задний план, а задачи дидактические заменялись публицистическими. Главным местом сочинения злободневных исторических поэм была Италия, где знание латыни было распространено не только среди клира, но и среди мирян, и поэтому латинские поэмы находили достаточно широкую аудиторию. Такова поэма Вильгельма Апулийского (ок. 1100) о деяниях Роберта Гискара, основателя норманнского государства в Южной Италии; таковы анонимные поэмы о победах пизанцев над арабами («Стих о победе пизанцев», 1088; «Книга о войне с Майоркой», 1115) и о междоусобных войнах ломбардских городов («О войне Милана с Комо», «О разрушении Милана», «Деяния Фридриха I» и др.); все они стилизованы под батальные образцы Вергилия и Лукана. Получали стихотворную обработку и легендарные сюжеты истории, но большой художественностью эта обработка не отличалась; так, одновременно с прозаической «Историей Карла Великого и Роланда» Псевдо-Турпина сложилась и стихотворная «Песнь о предательстве Гвенона»; так, в XIII в. Эгидий Парижский переложил латинскими стихами Псевдо-Турпина, а Одон Магдебургский – сказание о герцоге Эрнсте; наиболее любопытна здесь, пожалуй, поэма Стефана Руанского (конец XII в.) о происхождении и подвигах норманнов под заглавием «Норманский дракон».
Гораздо больший интерес представляют собой латинские эпические обработки фольклорных сюжетов, не пересказывающие новоязычных писаных текстов, а созданные прямо на материале устного народного творчества. Как было сказано, в эпоху Зрелого Средневековья подобный интерес к фольклору редок; однако все же он дал такие замечательные памятники средневековой латинской литературы, как романическую поэму «Руодлиб» (XI в.) и животный эпос «Изенгрим» (XII в.).
Поэма «Руодлиб» неизвестного автора была написана в южногерманском монастыре ок. 1030—1050 гг., сохранилась не полностью и, по-видимому, осталась незавершенной. Ее герой – небогатый рыцарь, служивший сперва князьям, а потом и королю и получивший от короля в награду богатые подарки и двенадцать добрых советов; с ними он отправляется вновь искать счастья, встречает и побеждает короля гномов, должен сам стать королем, но здесь поэма обрывается. В этом содержании слились в необычайном для средневековой литературы единстве три культурных элемента: клерикально-дидактический (двенадцать советов), феодально-предкуртуазный (живописание подвигов на войне и на охоте, «вежества» в переговорах и роскоши в быту) и народно-сказочный (история с гномами, вставная новелла о рыжем прелюбодее и др.); и все это растворяется в плавном повествовании, так любовно рисующем всякую подробность, что, будь поэма дописана до развязки всех намеченных сюжетных линий, она доросла бы до размеров рыцарских романов. По существу, это и есть первый рыцарский роман – первое в новоевропейской литературе большое эпическое произведение не с историческим или псевдоисторическим, а с откровенно вымышленным сюжетом. Так и этот характернейший жанр рыцарской литературы, оказывается, получил первую разработку на латинском языке.
Поэма «Изенгрим», написанная ок. 1148 г. архидиаконом Нивардом Гентским, была первой разработкой того животного эпоса, который в позднейшей городской новоязычной литературе сложился в «Роман о Ренаре». Здесь в семи книгах излагаются злоключения волка Изенгрима, обидевшего и ограбившего когда-то лиса Рейнарда и за это поплатившегося: монахи, к которым он поступает в обитель, колотят его за обжорство и пьянство, король-лев сдирает с него шкуру, лис бесчестит его волчицу, а сам волк позорно погибает под копытами стада свиней-монахинь во главе со свиньей-аббатисой. В своем обращении к животным-героям Нивард не одинок – это была общая тенденция дидактической литературы, питаемая школьным чтением эзоповских басен; еще лет за сто до него безымянный лотарингский клирик сочинил поэму «Бегство узника, аллегорически описанное» (середина XI в.), в которой судьба монаха, сбежавшего из монастыря, представлена в бедственных похождениях теленка, сбежавшего из родного хлева, а в следующем после Ниварда поколении сатирик Нигелл Вирекер из Кентербери (ок. 1130—1200) в поэме «Зерцало глупцов» с тяжелой едкостью изображает клирика, мечтающего о карьере аббата или епископа, под видом осла Бурнелла, бражничающего среди студентов и сочиняющего устав нового монашеского ордена, где можно будет вести совсем привольную жизнь. В отличие от этих писателей Нивард не увлекается ни дидактической, ни сатирической тенденцией (хотя, конечно, сатирических нот в его книге много). Его поэма прежде всего развлекательна, язык изящен и местами разговорно-жив, а нелегкое для поэта нанизывание сказочных эпизодов обнаруживает большое композиционное искусство. Нивард, как и безымянный автор «Руодлиба», не имел перед глазами никаких новоязычных образцов и опирался только на устное творчество; зато его поэма послужила хорошей опорой для позднейших французских, нидерландских и немецких сочинителей «Романа о Ренаре».
Гораздо чаще латинский эпос использовал для переработки не фольклорные, а книжные сюжеты; но художественный интерес их значительно меньше. Важным источником сюжетов продолжала оставаться Библия; стихотворные упражнения на библейские темы писали очень многие поэты; венцом таких занятий был огромный сборник библейских переложений Петра Риги (вторая половина XII в.) «Аврора, или Писание в стихах». Вслед за Библией источником сюжетов была античность; но она не могла обогатить латинский эпос так, как французский и немецкий, хотя бы потому, что у латинского читателя уже были и «Энеида», и «Фиваида», и «Фарсалия», соперничать с которыми средневековые поэты не помышляли. Правда, досадным пробелом ощущалось отсутствие цельного эпоса о троянской войне (здесь латинская поэзия располагала лишь «Латинской Илиадой», кратким пересказом Гомера – I в. н. э.); заполнить этот пробел Средневековье пыталось неоднократно, с наибольшим успехом – в поэме Иосифа Эксетерского (ум. ок. 1210) «О Троянской войне»: в основе его рассказа лежала «История падения Трои», основной источник средневековых троянских сюжетов, но сухой конспект Дареса Иосиф сумел превратить в поэму, написанную в лучших традициях Вергилия и Стация.
Однако высшим достижением средневековой латинской поэзии на античные темы стала «Александреида» Вальтера Шатильонского (ок. 1135 – после 1200), одного из талантливейших эпиков и лириков своего века. Написанная ок. 1178—1182 гг., она была далеко не первой средневековой обработкой истории Александра Македонского, интерес к которой так ярко вспыхнул в эпоху Крестовых походов – ей предшествовали новоязычные версии Альберика Безансонского, Лампрехта Немецкого и Ламбера ле Тора; но Вальтер решительно уклонился от использования поздних, сказочных повествований об Александре, положил в основу своего рассказа текст Квинта Курция (с небольшими добавлениями по христианским и талмудическим источникам); он искусно сократил второстепенные эпизоды, чтобы выделить главные столкновения Александра с персидским царем Дарием и индийским правителем Пором, эффектно развернул в начале поэмы картину воспитания своего идеального героя мудрым Аристотелем, а в конце – картину космического заговора Левиафана, Природы и Предательства против Александра, чьи подвиги грозят нарушить мировое равновесие, потом смерть Александра и ожидающий его апофеоз на Олимпе. Христианские мотивы полностью отсутствуют в поэме, действием правят боги и судьба; и если для Средневековья характерно двойственное отношение к образу Александра, клерикально-моралистическое – как к носителю мирской гордыни, наказанному ранней смертью, и куртуазно-апологетическое – как к средоточию всех рыцарских доблестей, то Вальтер, хотя и клирик, решительно принимает рыцарскую точку зрения на своего героя. Поэма Вальтера была встречена современниками с восторгом, изучалась в школах наравне с «Энеидой» и послужила важнейшим источником для всех позднейших обработок легенды об Александре, вплоть до исландских и чешских.
Такова была латинская эпическая поэзия Зрелого Средневековья; но едва ли не усердней разрабатывалась в эту эпоху латинская лирическая поэзия светского содержания. Питомником ее была школа: здесь изучение грамматики и риторики непременно сопровождалось упражнениями в сочинении метрических стихов. Вкус к такому стихотворству оставался у просвещенных клириков и по выходе из школы, и они с удовольствием продолжали обмениваться стихотворными посланиями, посвящать знатным покровителям стихотворные панегирики и оттачивать свой стиль в эпиграммах и элегиях на латинском языке. Главным образцом этой поэзии был Овидий: самый изящный и светский из римских поэтов, он был ближе всего по духу клирику куртуазной эпохи. Если поэзия каролингского времени с ее пафосом трона и меча условно называется «вергилианским возрождением», а поэзия X—XI вв. с ее правописательным морализмом – «теренцианским и горацианским возрождением», то поэзия XII в. с ее культом красоты, любви и дружбы обычно именуется «овидианским возрождением». Популярность Овидия в XII в. была огромна, по его «Метаморфозам» учились античной мифологии, по элегиям и посланиям – светскому поведению и чувствам, по «Лекарству от любви» – нравственности. Подражания Овидию были столь многочисленны и искусны, что многие из них ходили под именем самого Овидия. В начале XII в. эти вариации на овидиевские темы писались еще сравнительно сдержанно, с оглядкой на христианские нравственные идеалы; к концу XII в. они становились все вольнее и вольнее, далеко превосходя Овидия в эротике и вольнодумстве; на рубеже XIII в. предел этого развития был достигнут, и овидианское творчество разом иссякает.
Виднее всего эта эволюция выступает в жанре элегии. Здесь поэты начала XII в. разрабатывали по преимуществу традицию философских элегий Овидия – его раздумий о превратности собственной судьбы, перекликавшихся с христианскими медитациями о суетности всего земного. Лучшим образцом такой тематики могут считаться две элегии Хильдеберта Лаварденского (1056—1133), гармоничнейшего из поэтов раннего овидианского возрождения, ставшего образцом для бесчисленных подражателей; эти элегии были ему внушены видом Рима, лежавшего в развалинах после войны Генриха IV с Григорием VII, и впоследствии не раз сравнивались с сонетами «Древностей Рима» Дю Белле. А в конце XII в. вместо философских элегий в центре внимания овидианцев оказываются любовные; ученые клирики бравируют игрой в эротику, далеко оставляя позади даже свои античные образцы. Предела здесь достиг Серлон Вильтонский, преподаватель грамматики и риторики в Париже, величайший виртуоз стиха; его элегию, начинавшуюся «Где – неважно, неважно – когда, и неважно, с которой Девушкой был я один...», еще издатели XIX в. не решались напечатать до конца. В своем вольнодумстве Серлон доходил до высказываний, редких для его эпохи:
Ежели дух в сокрушенье – я в вере ищу утешенья;
Если конец сокрушенью – «прощай» говорю утешенью!
(Перевод М. Гаспарова)
Но главным жанром овидианской лирики XII в. была не элегия, а послание – панегирическое послание к высшим, дружеское – к равным, наставительное – к младшим. Все эти формы культивировались еще в монастырской поэзии Раннего Средневековья; сейчас они наполняются новым, светским содержанием. Если в раннесредневековых посланиях господствовало поучение, то теперь на смену ему приходит описание. Больше всего удовольствия доставляют поэтам XII в. описания обстановки красивой светской жизни; так, современник и друг Хильдеберта Бальдерик Бургейльский (1046—1130), обращаясь к графине Адели Блуаской со скромной целью попросить у нее для себя ризу, превращает свое послание в целую поэму, подробно описывая спальню графини с гобеленами на стенах, изображавшими всю библейскую и античную мифологию, с аллегорическими статуями вокруг постели и т. д. Столь же пространны в посланиях поэтов-овидианцев описания их поездок, занятий, которым они предавались (например, охоты, которой тешился Гвидон Базошский). Дружеские послания превращаются в любовные, причем образцом, конечно, служит опять Овидий: Бальдерик Бургейльский пишет прочувствованные послания к знакомым монахиням, заверяя их в своей любви, но, конечно, любви христиански возвышенной и братской; сохранился даже ответ одной из монахинь на такое его послание (может быть, им же и сочиненный), безукоризненно выдержанный в том же стиле, – настоящее подобие монастырских «Героид». А когда послания пишутся на скорбные темы (опять-таки соединяя христианскую и овидиевскую традицию), то предметом скорби все чаще служит не только падение нравов, но и падение знаний, не только забвение христианских идеалов, но и отсутствие почтения к учености и особенно к поэзии.








