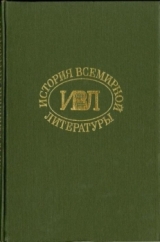
Текст книги "История всемирной литературы Т.2"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 88 страниц)
Переводные (с латинского) памятники старославянско-чешской письменности в большей своей части были истреблены католическим духовенством, но некоторые из них сохранились, и только в древнерусских списках: таковы обработки гумпольдовой легенды о Вячеславе, «Беседа на Евангелие» Григория, жития св. Витта (патрона Саксонии), Аполлинария Равенского, Анастасии Римлянки, Хрисогона, Георгия, папы Климента. Оригинальные чешские жития Вячеслава и Людмилы уцелели только благодаря тому, что вошли в состав русской литературы. Киевская Русь оказалась такой же хранительницей известной доли старочешской литературы, какой она была по отношению к литературе болгарской, а отчасти и византийской («Девгениево деяние», греческий вариант «Повести об Акире Премудром»).
Таким образом, первоначальное развитие древнерусской литературы протекало в благоприятных для нее условиях тесного общения с родственными ей более старыми литературными традициями соседних народов.
Переводная литература, по мере осуществления и распространения таких переводов в XI—XIII вв., обогащала древнерусскую литературу множеством религиозно-философских и социально-политических идей, историко-географических и естественнонаучных сведений, облегчала русским книжникам освоение традиционных для всего средневековья жанров, распространенных сюжетов, эстетических представлений.
При сопоставлении древнерусской переводной литературы с переводами, которые делались в других славянских странах, обнаруживаются различия. Самостоятельная инициатива древнерусских книжников позволила им выйти за пределы церковно-учительного книжного обмена, наиболее принятого в границах греко-славянского культурного мира. Заинтересовавшись сюжетами средневековых повестей-романов, русские переводчики сумели удовлетворить потребности своих читателей и в занимательном чтении. Они ввели в древнерусскую литературу такие типы произведений (легендарно-исторических, сказочно-нравоучительных и др.), которых не было на Руси в оригинальной литературе.
Деятельность русских книжников отличалась творческим характером. Если церковную книжность они старались воспроизводить со всей возможной точностью, то в переводах светских произведений допускали значительную самостоятельность. При этом в одних случаях преобладало введение русских бытовых деталей в сказочно-нравоучительный сюжет (например, в «Повесть об Акире Премудром»), в других – военно-историческое повествование насыщалось русской феодальной терминологией и некоторыми художественными образами русских воинских повестей («История иудейской войны» Иосифа Флавия), в третьих – греческое эпическое в своей основе произведение («Девгениево деяние»), бытуя в древнерусской рукописной традиции, постепенно вновь фольклоризировалось приемами русской народной поэзии. Благодаря такой литературной обработке переводные памятники свободно вливались в русскую рукописную книжность, содействовали развитию русской оригинальной литературы, укрепляли ее связи с литературным процессом Средневековья.
Вместе с тем эти литературные связи Киевской Руси были ограничены возможностями ее литературного развития. Уже рассмотренные материалы показали, что идейно-тематический характер византийско-болгарско-русских литературных связей был односторонним. При отборе для переводов памятников византийской литературы болгарские, а затем и русские книжники сосредоточили свое внимание главным образом на переводах «отцов церкви» – классиков греческой христианской литературы (IV—VI вв.) и не затронули современную им весьма богатую греческую художественную литературу (светскую прозу, поэзию). Славянские книжники исходили из повседневных церковно-феодальных нужд своих христианизируемых стран и действовали в пределах своего раннехристианского мировоззрения и просвещения, далеко не достигавшего образованности византийских писателей этого времени. Византийская литература XI—XII вв. начинала обращаться к предренессансным тенденциям с характерным для них стремлением к освобождению внутреннего религиозного мира человека от подавлявшего его церковно-догматического мировоззрения, к осознанию независимости личности от всепоглощающих интересов имперской государственности, к скептической снисходительности писателя по отношению к миру и к самому себе.
Убеждения же первых русских книжников основывались на еще не омраченной вере во всемогущество христианского учения и монархической государственности, призванных вознести Русь к вершинам мировой «славы» и обеспечить «вечное» блаженство всех исповедников веры, этих «новых людей», каковыми они сами себя считали и называли, следуя, впрочем, древнейшей апостольской традиции.
В такой патетической атмосфере мудрость «ветхих» византийцев и казалась, и действительно была враждебной настроениям славянских неофитов. Новейший литературный опыт старой культуры не мог быть положен в основу культуры зарождающейся.
Так, древнерусские книжники обратили главное внимание на публицистическую проповедь и на историографию в широком смысле, т. е. на осмысление истории человечества, народа и человека (переводные и оригинальные хроники, летописи, а также жития князей и монахов), как на жанры и темы, наиболее связанные с интересами государственности. Вместе с тем они почти совсем не восприняли религиозной лирической поэзии. Раннехристианская гимнография отбиралась и ограниченно распространялась на Руси преимущественно в той мере, в какой она была необходима для церковной службы. Оригинальное творчество в этом направлении развивалось мало и со значительным опозданием (например, канон и несколько молитв Кирилла Туровского XII в.). Обширная внецерковная византийская религиозная поэзия осталась в Киевской Руси неизвестной. Если древнерусские книжники весьма ценили учительные прозаические сочинения «отцов церкви» (их слова, проповеди, церковно-исторические произведения и др.), то они проходили мимо их же стихотворного наследия. Ефрем Сирин (IV в.), Григорий Назианзин (IV в.), Иоанн Дамаскин (VIII в.) были хорошо известны древнерусским читателям как проповедники и полемисты, но не как поэты. Христианская поэзия Нонна (поэма «Деяния Диониса», переложенное гекзаметром Евангелие от Иоанна; V в.), как и поэтическое творчество Романа Сладкопевца (VI в.), родственное народным духовным стихам, не были перенесены на Русь. Первые опыты христианизированного мифологическо-политического романа и трактата, например сочинения Синесия «Египетские рассказы, или О провидении», «Дион, или О жизни по его примеру» (конец IV – начало V в.), остались незамеченными у славян вообще. В древнерусском феодальном обществе не сложилось ни церковных, ни светских внелитературных условий, которые могли бы подготовить сначала заимствование иностранного, а затем и создание своего литературного стихотворства. С одной стороны, заимствование на Руси церковной поэзии было незначительным, а религиозная лирика отсутствовала, с другой – не было и светского рыцарского ритуала с культом дамы и связанной с ним лирической поэзией. Фольклорно-песенная лирика в литературу не проникла и оказала на нее, видимо, только локальное влияние (в «плачах»). В древнерусской литературе всегда господствовала проза, но и в ней лирическая, в особенности любовная, тема была представлена крайне ограниченно.
В киевском храме Софии звучала роскошная торжественная проповедь, построенная по всем правилам виртуозной старовизантийской риторики, а софийская фреска даже изображала представление скоморохов. Но византийская церковная драма, разыгрывавшаяся в эти же времена в константинопольском храме Софии (изображение крещения Иоанна Предтечи, страстей Христовых и др.), оказалась для Руси неприемлемой.
Весьма обширная византийская историография подчинялась тем же принципам отбора со стороны древнерусских книжников. В их среде не привились не только новые и выдающиеся литературно-исторические монографии типа «Алексиады» Анны Комнин, повествовавшей о деяниях своего отца-императора (XII в.), но и старые исторически обстоятельные и стилистически изощренные труды Прокопия и Агафия Схоластика (VI в.) о царствовании Юстиниана. Зато на Руси получил признание перевод популярной среди византийцев хронографии, как, например, перенесенной из Болгарии «Хроники»
Иоанна Малалы (VI в.), которая основывалась на живом пересказе библейских преданий, легендарных историй Ассиро-Вавилонии, Египта, Греции, Рима и Византии. Этой хронике подражали и в Сирии, и в Западной Европе («Палатинская хроника» на латинском языке, VIII в.), ее перевод был сделан в Грузии (XI в.).
Такой исторически ограниченный, но целеустремленный и строгий отбор древнерусскими книжниками определенного фонда византийско-болгарско-чешской книжности даже в пределах собственно церковной и церковно-исторической традиций оказал влияние на идейную направленность, жанровый состав и общую структуру литературы Киевской Руси, как и последующей древнерусской литературы (до XVII в.).
ЛИТЕРАТУРА РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Оригинальная древнерусская литература возникает как литература общественно-публицистическая, поставленная на службу интересам бурно развивающегося Киевского государства. Проблемы государственного единства и борьбы за независимость от церковно-политического византийского влияния, задачи укрепления власти киевского князя и ограничения власти других князей, принадлежавших к одному роду, возвышения международного престижа Киевской Руси, покорения соседних племен и отражения внешних врагов, необходимости всеобщего внедрения православного христианства и борьбы с язычеством в народных массах были центральными для русского раннефеодального общества конца X—XI в., и эти проблемы имели решающее значение для зарождавшейся русской литературы. Первоначально этим задачам служила переводная церковная письменность, но вскоре стала появляться и оригинальная литература. Литература Киевской Руси, как переводная, так и оригинальная, была литературой феодальной и в начальный период своего существования, наряду с религией и политикой, стала важнейшей идеологической формой раннефеодального процесса.
Первым образцом такой древнерусской литературы является «Слово о законе и благодати» Илариона, которого князь Ярослав поставил в 1051 г. первым митрополитом из русских (до и после него киевскими митрополитами были греки). В форме торжественной проповеди, структурно разделенной на три части, Иларион развивал три основные проблемы: о духовном превосходстве Нового Завета («благодати») над Ветхим Заветом («законом»), о мировом значении крещения Руси и высокой миссии великих князей Владимира и Ярослава, о величии Русской земли, занявшей равноправное место среди христианских народов.
В раннехристианской Византии «Жизнеописание блаженного царя Константина» известного писателя Евсевия Памфила (IV в.) представляло собой похвальное слово, опиравшееся на античную риторику, но прославлявшее своего христианского монарха как непобедимого и боголюбивого «нового Моисея». В таком же типологически близком историософском соотношении «Слово» Илариона, опираясь на византийскую риторику, превозносило киевского князя Владимира, как «нового Константина». В византийской традиции император Константин Великий, принявший христианство, признавался «равноапостольным». А теперь Иларион объявил христианский подвиг Владимира равным деяниям апостолов. В обстановке борьбы Киевской Руси за политическую и церковную независимость уподобление Владимира императору Константину Великому и апостолам не могло быть воспринято в Византии иначе, как полемический выпад против нее. Владимир, по мысли автора, слышал о «благоверной» Греческой земле, но принял христианство самостоятельно – по божественному внушению. Иларион славил Владимира и за государственную деятельность, за военные успехи. Автор-христианин отдавал дань мужеству и славе предков Владимира – князей-язычников – «старого» Игоря и Святослава. Иларион намеренно обращался только к верхам феодального общества, к слушателям не «неведущим», а «преизлиха насыщьшемся сладости книжныя». Изощренный стиль «Слова» изобилует олицетворениями отвлеченных понятий, символическими параллелями, антитезами и другими приемами риторического красноречия.
Возникновение «Слова» как зрелого произведения, не подготовленного отечественной литературной традицией, оказалось возможным в условиях освоения развитого старославянского языка и византийской проповеди с целью борьбы русских писателей против византийского церковно-политического влияния. Высокие идейные и литературные достоинства «Слова» определили его воздействие на ряд позднейших памятников: на проложную «Похвалу» Владимиру (XII—XIII вв.), «Житие Леонтия Ростовского»
(XIV в.), «Житие Стефана Пермского» (XV в.). В XIII в. «Слово» стало известно южным славянам и повлияло на сербские жития Семиона и Саввы, написанные афонским хилендарским монахом Доментианом.
Подобно «Слову» Илариона, первоначальное русское летописание было проникнуто стремлением осознать государственные идеи своей современности путем обращения к прошлому Руси. Зарождение древнерусской историографии обнаруживает такое же типологическое соответствие со старинной византийской литературой, какое только что отмечалось в отношении торжественной проповеди. Если началом византийской историографии послужила «Церковная история» того же Евсевия, то древнерусское летописание возникло при киевской митрополии во времена Ярослава, как предполагает Д. С. Лихачев, в виде «Сказания о распространении христианства на Руси». Однако церковно-историческая тема летописания уступила место светской тематике, как только летопись обратилась к отечественной старине. Интерес монахов-летописцев к истории родины, как это наметилось уже и в «Слове» Илариона, побудил их прославить военные подвиги князей-язычников и даже их победы над православной Византией. Для этого летописцы обратились не только к византийско-литературным источникам, но и к древнерусскому фольклору. Когда во второй половине XI в. летописное дело было перенесено в Киево-Печерский монастырь, им занялся игумен Никон, который ввел в летопись дружинные предания о походах на Царьград (Константинополь) Аскольда и Дира, Олега и Игоря, о войнах Святослава с греками, болгарами, печенегами.
Новгородское летописание втягивалось со второй половины XI в. в сосредоточенный в Киеве процесс летописания общерусского. Объединение летописных сводов было предпринято киево-печерским монахом Нестором (ок. 1113), создателем крупнейшей летописи – «Повести временных лет».
Потребности развивающегося государственного самосознания ставили перед летописью проблемы, которые Нестор обозначил в ее заголовке: «...откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть». Для определения происхождения Руси и ее места в мировой истории летописец должен был пересмотреть традиционную схему феодально-генеалогического древа народов, корни которого уходили в библейское предание. К решению этой проблемы Нестор пришел через осознание единства происхождения восточнославянских племен и их родства с теми народами, которые объединялись под именем «славян». Он создал «балканскую» теорию славянского этногенеза, которая в XIII—XIV вв. распространилась во всей славянской историографии, в том числе чешской и польской. Нестор добавил славян к балканским иллирийцам («Иллюрик, Словене...»), которые в составе европейских народов, согласно генеалогии, почерпнутой из «Хроники» Георгия Амартола, были потомками внука Ноева Иафета и после «вавилонского столпотворения» перешли из Малой Азии в Европу. Затем, по Нестору, «сели суть словене по Дунаеви», откуда и пошло их дальнейшее расселение.
Отношение летописца к прошлому Руси было проникнуто эпическим пафосом. Он воссоздавал в оригинальной манере русского летописного рассказа общеизвестные в его время эпические предания. Развивая мысль о том, что княжеская власть установилась на Руси до призвания трех братьев-варягов (Рюрика, Синеуса и Трувора, только первый из них – лицо историческое), летописец разработал более ранний традиционный для некоторых народов сюжет о трех братьях, в данном случае Кие, Щеке и Хориве, которые вместе с сестрой их Лыбедью основали Киев. По-видимому, это предание типологически соотносится с армянской исторической легендой, записанной в «Истории Тарона» (IV—VII вв.), о Куаре, Мелтее и Хореане и городе Куаре в стране Палуни. Дружинное предание о гибели князя Олега Вещего, отвергнувшего предсказание волхва о смерти от собственного коня и наступившего на череп его – «и выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу» (912 г.), – видимо, перешло в скандинавские саги и претворилось в сказание о гибели норвежского витязя Орвара-Одда от его коня Факси.
Рассказы летописи о мести княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа Игоря насыщены фольклорными мотивами многих народов. Осадив древлянский город Искоростень, Ольга потребовала от горожан вместо дани по три голубя и по три воробья от двора. По ее приказу птицы были отпущены с привязанным к каждой из них зажженным трутом и, вернувшись в свои гнезда, сожгли город. Подобные рассказы изложены Титом Ливием в повествовании о Ганнибале, в исландской саге о Харальде Суровом (зяте Ярослава), в монгольской летописи о Чингисхане.
Летопись была насыщена эпическими преданиями, тесно связанными с отечественной исторической действительностью. Таков дружинный рассказ о князе Святославе Игоревиче, который «легъко ходя, аки пардус [гепард], войны многи творяше. Ходя воз по себе не возяше, ни котъла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испек ядяше... И посылаше к странам, глаголя: „Хочю на вы ити“» (964 г.). От этих рассказов веяло духом языческой старины. Когда мать Святослава, княгиня Ольга, вернувшись из поездки в Византию уже христианкой, советовала ему «бога познать», он отвечал: «Како аз хочю ин закон прияти един? А дружина моа сему смеятися начнуть» (955 г.).
Для стиля летописания характерна прямая речь героев, нередко и живой диалог. Образцом для позднейших княжеских речей служила образная речь Святослава к дружине перед битвой с превосходящими силами византийцев: «Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу. Да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам...» (971 г.).
Главной темой летописания была тема Русской земли, ее единства и могущества. Эта тема получила различные формы выражения: эпическую и публицистическую. По представлениям летописцев, история вершилась по воле божьей деяниями князей, а эти деяния оценивались так или иначе в зависимости от того, насколько они отвечали государственно-патриотическим идеалам эпохи. Отдаленное прошлое отражалось в эпически-идеализированных повествованиях о первых князьях. Современная действительность получила в летописи острые нравственно-политические оценки, в которых осуждались княжеские феодальные раздоры, начавшие со второй половины XI в. угрожать целостности империи. Летописцы тщательно собирали материалы, относящиеся к этой теме. В завещании Ярослава к его сыновьям уже звучит призыв к единству: «И будете мирно живуще. Аще [если] ли будете ненавидно живуще, в распрях [...] то погыбнете сами, и погубите землю отець своих и дед своих, юже налезоша [устроили] трудомь своимь великым» (1054). Когда феодальное расчленение Киевской Руси стало признанным фактом, общерусские государственные идеи стали проявляться в летописи еще более ясно. На княжеском съезде в Любече говорилось: «Почто губим Русьскую землю, сами на ся котору [раздор] деюще? А половцы землю нашю несут розно, и ради суть, оже межю нами рати. Да ноне отселе имемся в едино сердце, и блюдем Рускые земли; кождо да держить отчину свою...» (1097). Тема обороны Руси от половцев связывалась в летописи не только с протестом против междоусобной борьбы князей, но и с оценкой положения крестьян, страдавших от набегов внешних врагов.
В зависимости от темы и жанра летопись каждый раз по-разному, но всегда живописно отражала различные обстоятельства исторического прошлого и современности. Примером сказочно-анекдотического повествования может служить вошедший в летопись рассказ о том, как осажденные печенегами жители Белгорода обманули врагов, показав им, что взять их измором невозможно. Белгородцы вставили в один из колодцев кадку с киселем, а в другой – с медом. Они угостили печенежских послов этими яствами, заявив им. «Почто губите себе? Коли можете престояти нас? [...] Имеем бо кормлю от земле». Князья печенежские «подивишася» и «въсвояси идоша» (997 г.).

Святослав принимает побежденных вятичей.
Святослав побеждает хазар
Миниатюры из Радзивилловской рукописи XV в.Ленинград, ГПБ
Наряду со множеством церковно-книжных цитат летопись пользовалась народными поговорками и пословицами, которые, например, характеризовали военные отношения: «Мир стоит до рати, а рать до мира»; «Толи не будеть межю нами мира, елиже камень начнет плавати, а хмель грязнути [тонуть]». Некоторые пословицы намекали на политические обстоятельства: «Не идеть место к голове, но голова к месту»; «Аще ся волк в овця ввадит, то выносит все стадо, аще не убиют его» – так объяснили древляне Ольге причину убийства ими князя Игоря, обложившего их чрезмерной данью.
«Повесть временных лет», как и продолжающее ее летописание, занимает очень высокое место в средневековой хронографии. Широта исторического и политического кругозора, осознание родства славянских народов, понимание государственных интересов Киевской Руси, стремление осмыслить современность при помощи сопоставления ее с прошлым, высокий патриотический пафос – все эти особенности выделяют «Повесть временных лет» среди хронографических памятников в плане идеологическом. В отношении литературно-стилистическом особенностью «Повести временных лет» является ее многожанровая и многостилевая структура, охватывающая все богатство изобразительных средств древнерусской письменности. Она вобрала в свой состав дружинно-эпические предания, записи устных исторических рассказов и родовых легенд, народно-сказочные повествования, пословицы и поговорки, воинские повести и повести о феодальных преступлениях, библейские изречения, фрагменты переводных сочинений, рассуждения о пользе книг, поучения церковные (Феодосия) и светские (Владимира Мономаха), жития первых русских святых (Бориса и Глеба), произведения ораторские (речь философа о греческой вере, речи князей), записи государственных договоров (договоры Олега и Игоря с Византией) и политических завещаний (завещание Ярослава), и т. п. Благодаря универсальности своего содержания и богатству стилистических средств древнерусская летопись отличается от западноевропейской хронографии меньшей исторической схематизацией излагаемого материала, а также не столь односторонней придворно-феодальной или церковной тенденциозностью. Если западноевропейская и византийская хронография при наличии многих художественно-литературных жанров весьма тщательно разрабатывались как особый вид письменности, то древнерусская летопись, напротив, стремилась совместить задачи исторического, публицистического, религиозно-нравоучительного и литературного повествования. Важнейшей особенностью летописи, сближающей ее с византийской хронографией (на греческом языке) и отличающей ее от других европейских (латинских) хроник (в том числе и от славянских – чешских, польских), был ее национальный язык – в основе своей древнерусский с элементами старославянского. Написанная живым и образным языком «Повесть временных лет» была доступной и интересной книгой для чтения на протяжении всей истории Древней Руси.
Почти одновременно с летописанием и торжественной проповедью развивается связанная с ними по своей идейной направленности древнерусская житийная литература. Входя в состав христианских государств, Киевская Русь должна была позаботиться о создании культа своих святых с их жизнеописаниями.
Славянская агиография возникла как своеобразное явление в литературном процессе Средневековья. Этот старинный церковно-литературный жанр стал орудием идеологической борьбы за укрепление молодой славянской государственности. Поэтому в Чехии, а затем на Руси первоначально писались жития князей, а не монахов. Героями начальной чешской агиографии стали княгиня Людмила и ее внук – князь Вацлав (Вячеслав), убитый в 929 г. по наущению его брата Болеслава, русской – Борис и Глеб, убитые в 1015 г. по приказу их брата Святополка. По-видимому, «Житие Вячеслава» послужило примером для формирования русских княжеских житий. Первым памятником русской агиографии был летописный рассказ «О убиении Борисеве». По словам летописца-агиографа, «блаженный» Борис отклонил советы дружины занять престол после смерти своего отца Владимира. Он проповедовал необходимость подчинения старшему князю в роде – Святополку. Но подосланные «окаянным» Святополком убийцы бросились на Бориса, «акы зверие дивии». Потом повар зарезал и юного Глеба, «акя агня [ягненка] непорочна». Посмертная «похвала» этим первым святым была проникнута патриотической тенденцией: они подают «целебныя дары» не только отдельным людям, но всей «Русьстей земли», они «еста заступника Русьстей земли».
Этот своеобразный житийно-летописный рассказ возникает в тот период, когда Ярославу Владимировичу, победившему Святополка, удалось добиться от византийской патриархии канонизации своих братьев (видимо, в 20-х годах XI в.). Культ Бориса и Глеба быстро распространился по Руси, был признан также в Византии, в чешском Сазавском монастыре. «Сказание о Борисе и Глебе» в XIII в. было переведено на армянский язык.
Однако для борьбы с сильным византийским агиографическим влиянием и для удовлетворения нужд русского богослужения вскоре возникла необходимость создания нового жития Бориса и Глеба, выполненного по традиционной византийской схеме, но насыщенного отечественным материалом. Эта задача была осуществлена Нестором в «Чтении о житии и о погублении блаженную страстотерьпицу Бориса и Глеба» (видимо, в 80-х годах XI в.), которое следовало обычной житийной схеме. С детства Борис будто бы увлекался чтением церковных книг, а Глеб благоговейно слушал его чтение; Борис женился, только уступая воле отца, и т. п.
Братья рисовались не князьями-воинами, а смиренными подвижниками. Вместе с тем Нестор, подобно Илариону, говорил о том, как, постепенно распространяясь, христианство дошло до Руси, и она была крещена «мужем праведным» Владимиром непосредственно по божественному внушению. В начале XII в. возникло еще одно произведение на ту же тему – «Сказание о Борисе и Глебе». Хорошо зная греческие жития Дмитрия Солунского, Варвары, Никиты-мученика, а также «Житие Вячеслава Чешского», автор «Сказания...» построил свое изложение по обычному трехчастному плану – житие, похвала, повесть о чудесах. Однако в рассказе о жизни Бориса и Глеба он отошел от принципов византийской агиографии и создал оригинальную житийно-историческую повесть. Эмоциональная напряженность стиля «Сказания...» проступала сквозь традиционную риторику, например, в словах отрока Глеба, умолявшего своих убийц: «Не пожьнете мене от жития не созьрела, не пожьнете класа [колоса], не уже созьревша, но млеко безълобия носяща». Типичный образец древнерусского литературного портрета представляла собой хаарктеристика Бориса, рисовавшая его не святым аскетом, а прекрасным князем: «Теломь бяше красень, высок, лицемь круглом, плечи велице, тонок в чресла, очима добраама, весел лицемь, борода мала и ус, млад бо бе еще, светяся цесарьскы, крепок телом, всяческы украшен, акы цвет цветый в уности своей, в ратех хоробр, в советех мудр и разумен при всемь, и благодать божия цветяаше на немь».
Наряду с княжескими житиями на Руси начали составляться жития монахов-подвижников. Таково написанное Нестором «Житие Феодосия Печерского», одного из основателей Киево-Печерского монастыря. Это «Житие» подражает греческому «Житию Саввы Освященного» и другим агиографическим сочинениям, в частности чешскому (старославянскому) переводу латинской легенды Гумпольда о Вацлаве. Вместе с тем «Житие Феодосия...» воспроизводит бытовой колорит русской жизни, рисует духовный конфликт героя с его матерью, женщиной властной, стремившейся сломить волю сына и устроить его судьбу по своему усмотрению, но потерпевшей поражение в этой семейной борьбе.
В дальнейшем развитии древнерусской литературы летописание и агиография получают особенно широкое распространение. Торжественная проповедь распространяется за пределами Киевской Руси в меньшей мере и постепенно вытесняется различными видами социальной публицистики.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
С начала XII в. наметились новые тенденции в истории древнерусской литературы, проявившиеся в постепенном ослаблении ее былого идейного единства и господства трех крупных и рано созревших жанровых форм (летопись, житие, проповедь). Литература переходила на пути более сложного и противоречивого развития.
В первой половине XII в. усилился процесс феодального дробления Киевской Руси. Развитие производительных сил привело к выделению из некогда единого государства ряда княжеств, стремившихся к независимости: самого Киевского княжества, княжеств Владимиро-Суздальского, Смоленского, Галицкого и других, а также боярских республик (Новгородской, Псковской). В связи с этим возникли новые литературные центры, и в литературу начали проникать местные политические интересы, особенности культуры, быта и языка. Реальные возможности политической централизации государства постепенно уходили в прошлое, но общерусские публицистические тенденции литературы временами еще более усиливались, так как писателей тревожило тяжелое положение, в котором оказалась Русь в результате разраставшихся внутренних столкновений, отсутствия единства в борьбе с натиском половцев и входивших в традицию русско-половецких союзов, которые использовались для междоусобной борьбы князей.
Великий князь киевский Владимир Мономах (внук Ярослава и византийского императора Константина Мономаха) энергично стремился вновь объединить Киевскую Русь под своей властью и отразить внешнюю опасность. Деятельность его освещена и в летописи, и в его собственном «Поучении» к детям (и князьям вообще), написанном им на склоне лет (видимо, в 1117 г.). Мономах требовал от князей трудолюбия и правдолюбия, заботы о хозяйстве и воинской доблести, призывал их к верности взаимным договорам. От изложения принципов христианской морали он переходил к описанию собственной жизни как образца для подражания. Впервые в русской общественной мысли и литературе возникло произведение, в котором государственный деятель – автор задался вполне осознанной целью идеализировать себя в качестве справедливого правителя, опытного хозяина, примерного семьянина. Стремясь ограничить притязания феодалов, Владимир с гордостью говорил: «Тоже и худого смерда и убогые вдовицы не дал есьм сильным обидети». Он требовал от князей, чтобы они не позволяли своим слугам-«отрокам» причинять вред «ни в селах, ни в житех [нивах]». Выразительны описания отважных охот Владимира: «...конь диких своима рукама связал есьм в пущах»; «олень мя один бол» [бодал]; лось «ногами топтал [...] вепрь ми на бедре мечь оттял, медведь ми у колена подклада [потник седла] укусил».








