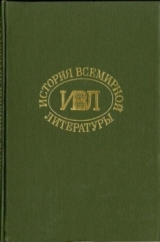
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 89 (всего у книги 109 страниц)
ЛИТЕРАТУРА XIV —ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV в.
После распада Сельджукского султаната на отдельные княжества (бейлики) зарождающаяся письменная культура стала сосредоточиваться при дворах местных феодалов, где переводились с арабского и фарси книги религиозного и светского (например, «Калила и Димна», «Марзбан-наме») содержания. Однако письменных центров было немного. Не только фольклор, но и творчество индивидуальных поэтов распространяется преимущественно устно. Продолжается процесс циклизации огузских сказаний вокруг легендарного сказителя – деда Коркута.
Большое место в репертуаре сказителей (меддахов, пришедших на смену певцам озанам), занимает воинская повесть, например «Баттал-наме» («Сказание о Баттале»), «Данышменд-наме» («Сказание о Данышменде») и др. Исторической основой первой являются отголоски событий, связанных с арабо-византийскими войнами (IX—X вв.), а вторая посвящена основанию малоазиатского тюркского государства Данышмендидов (XI в.). Богатырский в своей основе образ героя воинской повести вбирает в себя новые черты – частью от средневекового рыцаря, частью от мусульманского святого; в героические сюжеты и мотивы вплетаются любовно-романические, богатые сказочной фантастикой. Культовую литературу в репертуаре меддаха представляют мусульманские легенды, восходящие к арабским источникам (апокрифические сказания о жизни и чудесах пророка Мухаммада, о подвигах халифа Али и его «священных походах» – газаватах и т. д.), а также жития суфийских подвижников. В образе героя житийной литературы (Хаджи Бекташ, Байрам Вели, Сары Салтык, Ахи Эврен и др.), использующей как местные предания, так и идущие из иранской и среднеазиатской суфийской агиографии традиции жизнеописания суфиев, совмещаются или выделяются черты пророка, борца за веру, отшельника-аскета, подвижника в быту.
Со второй половины XIV в. в турецкой литературе прочно утверждается любовно-романическая поэма, по своим тематическим (возвышенная любовь, рыцарские подвиги) и жанровым признакам близкая европейскому рыцарскому роману. Ее сюжетика носит в основном традиционный характер, составлена из «набора» определенных мотивов, не выходящих, как правило, за рамки общей схемы: заочная влюбленность, в зарождении которой участвуют вещее сновидение, любовный напиток, рассказ очевидца и т. п., последующая поездка за невестой (действие обычно развертывается в далеких экзотических странах – Индии, Китае, Египте, Магрибе, Йемене), преодоление на пути к ней всевозможных препятствий (кораблекрушение, похищения, пленение врагами, появление неожиданных соперников) и т. д. Таковы восходящие в своей значительной части к персидским источникам поэмы «Сухейль и Невбахар» (1350) Месуда ибн Ахмеда, поэма Фахри «Хюсрев и Ширин» (1367) – назире на одноименную поэму Низами, «Варака и Гюльшах» (1368) Юсуфи, «Хуршид и Ферахшад» (1387) Шейхоглу, «Ишк-наме» («Поэма любви», 1398) Мехмеда и др. При всей условности сказочно-экзотической обстановки, характерной для этих поэм, в них проникали и реальные приметы современной авторам действительности в ее конкретной национально-исторической, бытовой и религиозной специфике, а изображение внешнего действия дополнялось показом чувств и переживаний героев, получало внутреннюю мотивировку.
Меддахи, исполнявшие произведения любовно-романического эпоса, а иногда являвшиеся их авторами, не ограничивались изображением придворных кругов, вводили в свое повествование представителей простого народа. В поэмах звучат мотивы социального и имущественного неравенства, осуждается деспотическая власть родителей. Сосуществование в репертуаре меддаха произведений различных жанров – героического и любовного эпоса, сказочной и житийной литературы, а позднее городской прозы – обусловило многое в специфике этих жанров, формы их взаимодействия и трансформации.
Наряду с романическим эпосом в XIV – начале XV в. получает свое дальнейшее распространение философско-дидактическая литература, в которой особенно ярко отражена идейная борьба эпохи, проявлявшаяся, в частности, в религиозной полемике. Таковы арабоязычные суфийские трактаты Бедреддина Симави, вождя крестьянского восстания начала XV в., поэма «Мевлид» («Рождение пророка») Сулеймана Челеби (1409) и др. Большой популярностью, особенно в хуруфитских кругах, пользовалась лирика азербайджанского поэта Имадеддина Насими.
В условиях образования Османского государства, его централизации (XIV—XV вв.) и консолидации турецкой народности местные литературы, создававшиеся на анатолийско-тюркских диалектах, складываются в единую турецкую литературу, оформляется единый письменный язык. В литературе усиливаются светские тенденции, их развитие идет как в русле придворной поэзии, так и внутри религиозной, прежде всего суфийской, литературы, которая начинает постепенно «обмирщаться». Вырастая внутри религиозного, светское начало исподволь разрушает религиозную символику, возвращает образам их реальное содержание, а словам – их первоначальный смысл.
Значительными достижениями отмечены лирика и эпическое творчество Ахмеди (ум. 1412),
автора поэм «Искандар-наме» (назире на поэму Низами) и «Джемшид и Хуршид», и Шейхи (ум. 1428), создавшего «Хюсрев и Ширин» – одно из лучших турецких назире на поэму Низами «Хосров и Ширин». В поэзии Ахмеди и Шейхи намечается новое, жизнеутверждающее ощущение бытия. Шейхи принадлежит также небольшая сатирическая поэма «Хар-наме» («Поэма об осле»), восходящая к распространенной басне и содержащая много колоритных деталей и острых, злободневных намеков.
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV—XVI в.
Со второй половины XV в. литература вступает в эпоху интенсивного подъема, достигшего своей вершины к середине XVI в. Это период наибольшего могущества Османской империи, которая после взятия Константинополя (1453) и многочисленных завоеваний, приведших к колоссальному расширению территории государства (Малая Азия, страны Балканского полуострова, Северная Африка, Ближний Восток), становится одной из крупнейших мировых держав. Развитие экономики, рост городов, торговли и международных контактов обусловливают общий подъем науки и культуры. В Турции создается новая светская жизнеутверждающая литература, поставившая в центр внимания человека и борющаяся за его освобождение из оков средневекового мироощущения.
Новые тенденции обращения к реальной жизни и конкретному человеку ранее всего появляются в лирике. Полнокровным ощущением бытия, земных страстей пронизана поэзия Ахмед-паши (ум. 1497). Суфийские образы в его лирике десимволизируются и наполняются реальным содержанием. Следуя за своими любимыми поэтами – Хафизом и Алишером Навои, на газели которых Ахмед-паши создает назире, он провозглашает культ свободной личности. Тонкий и остроумный полемист, мастер экспромта, поэт обогащает свое творчество идеями и образами городской поэзии: «Пойду-ка по городу я поброжу, красавиц моих о тебе расспрошу: здорова ли, пери моя, бодра ли?» Некоторые стихи он создает в форме мурабба – своего рода городского романса, ставшего в эту эпоху особенно популярным. Прославился Ахмед-паша и своими касыдами, например касыдой, посвященной новому стамбульскому дворцу, известному в Европе под названием Сераля.
Радостям жизни и любви с ее драматическими коллизиями посвящена лирика Исы Неджати (ум. 1508). В его стихах много свежих наблюдений, конкретности в передаче чувств и мыслей лирического героя.
О своем праве на духовную свободу заявляют поэтессы Зейнеб (ум. 1474) и Михри-хатун (ум. 1512). Лирика Михри – это гимн всепобеждающей силе земной любви. Поэтесса славит взаимную любовь, неодолимость страсти, сметающей все преграды, радость любовных свиданий. Многие стихи Михри носят автобиографический характер. И своими стихами, и независимым образом жизни (Михри оставалась незамужней и сама выбирала своих поклонников) поэтесса бросала вызов нормам феодальной морали. В своих вольнодумных стихах Михри высказывает сомнения в божественной справедливости. Выступая против узаконенного религией представления о женской «неполноценности», она гордо заявляет, что «одна с светлым разумом женщина лучше тысяч мужчин неразумных».
Новые тенденции появляются прежде всего в городской среде, противостоящей официальным установлениям и феодальной косности. Такой средой была, в частности, своеобразная городская богема. Веселый кабачок переманил из султанских хором поэта Мелихи. Радость винопития и чувственных наслаждений славил в своих стихах, популярных у стамбульских горожан, Иса Месихи (ум. 1512). Его поэма «Шехренгиз» («Городские смутьяны»), вызвавшая многочисленные подражания и давшая начало новой разновидности городской поэмы, посвящена адрианопольским юношам из ремесленной и торговой среды (сын кузнеца, аптекарь, шелковод, сын банщика, портной, чесальщик хлопка и др.), которых Месихи «кощунственно» сравнивает с ангелами и библейскими пророками. Рассказывая в поэме о своих похождениях, Месихи шутливо раскаивается в грехах, столь многочисленных, что от них «весы сломаются в день Страшного суда». Поэт Джафер Челеби – султанский фаворит, кончивший жизнь на плахе (1514), в поэме «Хевес-наме» («Поэма страсти») также повествует о своих любовных похождениях. Герой совершает путешествия не в сказочно-экзотическую страну, а из одного квартала Стамбула в другой, он восторгается красотами города и наблюдает его кипучую жизнь. В описаниях своих похождений он откровенно пародирует рыцарские поэмы. Вызовом господствующей морали и религиозным предписаниям была полная авантюр жизнь и поэзия Ильяса Ревани (ум. 1524). Его «Ишрет-наме» («Поэма винопития») – смелая пародия на религиозно-нравоучительные поэмы. Поэт воссоздает здесь яркую картину городской жизни, утверждает радость бытия; многие сцены написаны с натуры, содержат автобиографические подробности. Новые тенденции «возрождения» языческого жизнелюбия, реабилитации духа и плоти, характерные для того периода, отметил еще в 30-х годах прошлого столетия востоковед Хаммер-Пургшталь, назвав Михри-хатун «османскою Сапфо», а Ревани – «турецким Анакреонтом».
Значительное воздействие на развитие традиционных форм турецкого романического эпоса, формировавшегося в XIV – начале XV в. под влиянием идейно-художественных достижений Фирдоуси и Низами, начинают со второй половины XV—XVI в. оказывать эпические традиции Джами и Алишера Навои, что проявляется уже в одной из ранних турецких «Хамсе» («Пятериц») у поэта Хамдуллаха Челеби (1448—1509), особенно в его «Лейли и Меджун», «Юсуфе и Зелихе», «Тухфет уш-ушшак» («Даре влюбленных»), а также в поэмах Лямии (1471—1509) «Вамик и Азра», «Вис и Рамин», «Эбсаль и Селаман» и др. В этих поэмах, задуманных как суфийские иносказания, реальный план, изображенный с большой художественной достоверностью, зачастую побеждает аллегорический. Герои и их чувства, подчас бессознательно для автора, воспринимаются как утверждение бытия, реальных земных страстей. Полную победу светского начала в турецком любовном эпосе ознаменовала собой поэма «Шем и Перване» («Свеча и Мотылек») поэта из ремесленных кругов Иваза Зати (1471—1546), где переосмысляется суфийская аллегория о бабочке, сгорающей в огне свечи. От мистических иносказаний демонстративно отказался в своей «Пятерице», выросшей на традициях городской литературы, Ташлыджалы Яхья или Яхья-бей (ум. 1582). Албанец по происхождению, служивший в янычарах, он рассказывает в поэме «Шах у Гыда» («Шах и Нищий») историю любовных похождений Нищего – ученого дервиша и Шаха – рекрута из янычар. Действие развертывается в Стамбуле, многие эпизоды носят автобиографический характер. В поэме «Юсуф и Зелиха» библейско-кораническая история Иосифа Прекрасного выливается у поэта в гимн торжествующего чувства, восставшего против аскетических запретов. Гуманистическим пафосом проникнуты и дидактические поэмы Яхья-бея, где поэт смело выступает в защиту личности, критикует власть и силу имущих.
В XVI в. культурная жизнь в Османской империи достигает наибольшего подъема. Это касается, также развития наук, в том числе естественных и точных дисциплин – географии (Пири Реис, Сиди Али Реис, Али Акбар и др.), астрономии и математики (ученик Улугбека Али Кушчи, Лютфи Токатлы, Ибн Кемаль и др.), медицины. Делают успехи историография и филология. Турецкий язык, вытесняя арабский и фарси, постепенно утверждается во всех областях государственной и общественной жизни, в науке и культуре.
Прогрессивные тенденции эпохи ярко проявляются в искусстве. Особенного расцвета достигает зодчество, ассимилировавшее архитектурные традиции, сложившиеся как на Ближнем и Среднем Востоке, так и в бывшей Византии, прежде всего архитектуру Константинополя. На XVI в. приходится творчество известного архитектора Синана (1490—1588), прославленного сотнями созданных им сооружений, и среди них – стамбульская мечеть Сулейманийе и знаменитая мечеть Селима в Эдирне (Адрианополе), один из шедевров восточной архитектуры. Обогащается новой тематикой турецкая миниатюра, в ней осваивается новый подход к изображению человека. Стремление к конкретизации, портретному сходству, раскрытию внутреннего мира характерно для искусства Нигяри. Жанровая миниатюра XVI в. представлена прежде всего творчеством крупнейшего мастера жанровой живописи – Османа.
Меценатство государственной власти, хотя и продолжало стимулировать развитие литературы, в то же время значительно сковывало личную и творческую независимость поэта. Однако, несмотря на это, основной тенденцией литературы была ее гуманистическая направленность, противостоящая феодально-клерикальной идеологии. Лирическим героем в поэзии эпохи становится хафизовский ринд, обретший в Турции свою новую родину, личность всесторонне яркая, «богатая сердцем и умом», смело попирающая феодальные установления. Среди эпических жанров получают широкое распространение поэмы, восходящие к «Шехренгиз» Месихи. Действие, в котором почти неизменно присутствует элемент любовной авантюры, развертывается и на стамбульских площадях, и в пригородах Эдирне, на улицах Бурсы, базарах Манисы и Енишехира. Авторы словно стараются перещеголять друг друга в хвастовстве, преподносящемся в форме шутливой исповеди, своими «греховными» похождениями и в то же время славословиями в честь своих героев – подлинных хозяев города – ремесленного и трудового люда (поэмы Нихали, Факири и др.). Особое место занимает тема моря и морских странствий (морские касыды и др.).
Значительными успехами отмечено развитие турецкой прозы. Наряду с переводной – «Хикяйят-и кирк везир» («Рассказы сорока везиров»), «Фарадж бад аш-шида» («Радость после горя») и т. д. – развивается и оригинальная проза. К «высокой» прозе предъявляются повышенные стилистические требования, язык ее усложняется – «Муназере-и султан-и Бахар ве шехрияр-и Шита» («Прения султана Весна и государя Зима») Лямии (1471—1531), «Хумаюн-наме» («Августейшая книга») Али Веси (ум.
1543), «Ахляк-и алаи» («Возвышенные нравы») Кыналы-заде (1511—1572) и др. В условиях подъема городской культуры и укрепления гуманистических тенденций появляются авторские сборники анекдотов-латифе и городских рассказов, носящих по сравнению с собраниями средневековой литературы качественно новый характер. Это свидетельствует о возросшей популярности латифе с их демократическим содержанием и широко представленными бродячими анекдотическими сюжетами (например, в турецких латифе можно встретить прямые параллели западноевропейским фацетиям и шванкам). В них утверждается победа городского вольнодумия с его карнавальной «вседозволенностью», пафосом разоблачения господствующей идеологии и морали. Создавались эти сборники, как и типологически родственные им на Западе, людьми гуманистического склада, большой и разносторонней образованности (Лямии, Мухаммед Челеби, Газали, Дженнани и др.) и, как и на Западе, долго оставались в силу своей «скабрезности» за пределами литературы. К XV—XVI вв. можно, очевидно, отнести и начало циклизации анекдотов вокруг имени Хаджи Насреддина.
Важным событием в литературной жизни эпохи, свидетельствующим о возросшем интересе к поэту, к его личности и творчеству, о признании за наукой и искусством права высшей ценности, стало появление тезкире – специальных собраний типа антологий, включающих характеристики творчества поэтов и фрагменты их сочинений. Таковы создававшиеся не без воздействия «Маджалис ан-нафаис» («Собрания утонченных») Навои турецкие тезкире «Хешт бехишт» («Восемь раев» Сехи, 1538), тезкире Лятифи Кастамонулу (1582), Ашыка Челеби, Кыналызаде Хасана Челеби (1586), «Жизнеописания художников» Мустафы Дефтери (1587) и др.
Развитие драматического искусства эпохи идет в русле народной зрелищной культуры, тесно связанной с городской литературой. Празднества сопровождаются представлениями, которые устраивались на городских площадях и длились беспрерывно в течение суток (ночью – при факелах и свечах), иногда – несколько недель. Излюбленными зрелищами были карнавальные шествия (маски, ряженые), театрализованные военные игры с декорациями, костюмами и т. д. Анекдот, городская повестушка разыгрываются в серии бытовых жанровых сценок комического характера. Буффонада нередко перерастает в политический фарс. Повышается сценическое искусство меддахов и потешников (таклидчи), представления которых по репертуару, типажам и приемам игры смыкались с теневым цветным кукольным театром Карагёз (букв. черный глаз). Народное предание относит появление театра Карагёз к XIV в., а первое письменное упоминание о нем датируется 1490 г. В образах основных персонажей этого театра – Карагёза-«простачка» и Хадживата-«грамотея», а также других постоянных типажей (мот Челеби, неверная жена и др.) ярко отразились вкусы и настроения широких демократических кругов. Любимое народное зрелище – театр Карагёз, где смело обличались общественные устои, навлекал на себя гонения светских и духовных властей.
Народные чаяния и устремления того времени отражала также бунтарская поэзия певцов-ашыков, участников многочисленных народных восстаний, которыми отмечен в Османской империи «золотой» XVI век. Ярким поэтическим выразителем антифеодальной борьбы был ашык Пир Султан Абдал. Его поэзия поднимала боевой дух восставших, вселяла веру в торжество справедливости. Разделявший шиитские воззрения Пир Султан Абдал верил в скорый приход мессии, который призван покарать творящих беззаконие и возвысить униженных. Выходец из крестьян, Пир Султан Абдал представлял утопическое царство справедливости как цветение возделанной и орошенной земли. Наступление этого царства связывалось им с торжеством шиитов над ортодоксальными суннитами. В песнях Пир Султана Абдала содержатся призывы к единению и борьбе: «Кто делает зло нам, пусть будет наказан, пусть трон падишаха в прах разлетится!» Поэзия Пир Султана Абдала – это взволнованная летопись народного движения, повествующая о его надеждах, победах, поражениях и жестоких расправах над побежденными, но непокоренными мятежниками. О жизни поэта и его мученической смерти (Пир Султан Абдал был повешен) в народе слагались легенды и песни-плачи.
ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XVI в.
Если для литературы второй половины XV – середины XVI в. характерны интенсивный подъем, утверждение гуманистических идей, во многом типологически родственных ренессансным, то со второй половины XVI в., наряду с дальнейшим распространением этих идей, намечаются некоторые признаки их перерождения. Впрочем, этот рубеж отнюдь не является четким и определенным не только для различных сфер турецкой культуры (например, расцвет турецкого искусства приходится как раз на вторую половину XVI в.), но и для самих внутрилитературных процессов, где сосуществовали типологически разнородные явления.
В лирике, ставшей во второй половине XV в.
провозвестницей новых, гуманистических идеалов, начинают постепенно сказываться кризисные черты: в светскую поэзию вторгаются религиозные настроения, упадочнические мотивы. Возврат к суфийским исканиям, которыми в первой половине века была отмечена лирика Хаяли (ум. 1556), находит свое продолжение у Неви (1533—1598) и др. В то же время появляется немало поэтов-эпигонов, распространяется увлечение манерностью, вычурностью, изощренностью формы. Усложнение языка и словесное витийство наблюдаются и в прозе, например в «Тадж ат-таварих» («Венец летописей») Саддедина (ум. 1599) и др. Во второй половине XVI в. начинает доминировать вычурная поэзия. Ее влияние испытали на себе многие поэты, из которых самым крупным был Махмуд Абдул Бакы (1526—1600).
Сын бедного муэззина, отданный на обучение к седельнику, Бакы с отроческих лет увлекается поэзией. Будучи впоследствии приближен ко двору, он был признан «султаном турецких поэтов». Творчество Бакы – один из художественных итогов, с которым пришла турецкая поэзия к концу бурного столетия, и, как итог, оно отразило и ее завоевания, и потери.
Бакы – лирический поэт, прославившийся во всех формах лирической поэзии. Большую известность принесли ему его касыды и мерсие (элегии). Но полнее всего талант Бакы раскрылся в газелях. В них поэт прославлял земную любовь и винопитие как высшие радости бытия. Его идеал возлюбленной – гармоничная, высокоодаренная личность – «владычица моря совершенства, корабль знаний, пристань поэзии». Характерный мотив его стихов – призыв наслаждаться благами быстротечной жизни, «сменять весной мечеть и медресе на розовый цветник и кабачок»; лирический герой поэта – ринд называет себя «наставником святым в святыне кабачка», он высмеивает ханжество аскетов, наперекор церковникам выражает сомнения в посулах райского блаженства. То, что такого рода стихи выходили из-под пера Бакы, человека верноподданнических взглядов, занимавшего высокие должности, свидетельствует о прочности гуманистических завоеваний. Вместе с тем лирика Бакы лишена той наступательной силы, которую несла в себе подрывавшая средневековые догмы лирика второй половины XV в. Главный эстетический критерий, провозглашенный Бакы, – «изяществе и грациозность». Блестящий мастер стиха, он довел до совершенства искусство построения газели, применяя различные типы ее композиции, звуковой инструментовки, метрического рисунка. Однако при всем своем мастерстве Бакы не смог вернуть газели ее утраченную свежесть. В своем творчестве он шел уже не от непосредственного восприятия, а от канонизированного идеала, которым стали рожденные веком ранее идеи и образы.
Со второй половины XVI в. в литературе заметно усиливаются сатирические тенденции. Сатирические мотивы, связанные с настроениями разочарования и трагического бессилия против всемогущества зла, с большой силой выражены в творчестве Рухи Багдади (ум. 1605). Жалобы на жестокую судьбу поэт переплетает с осуждением «несправедливостей этого мира». Обличая общественные пороки, падение нравов, он обрушивает гневные проклятия на свой жестокий, погрязший во зле век, грозит наступающим «концом света». Традиции Рухи были продолжены в литературе начала XVII в., вошедшего в историю турецкой литературы как «век сатиры», и прежде всего у поэтов Вейси (ум. 1628) и Омера Нефи, блестящего сатирика, поплатившегося в 1634 г. жизнью за свои сатирические инвективы.
В конце XVI в. начинается новый подъем бунтарской ашыкской поэзии, связанной с народными антифеодальными движениями. Героико-эпические песни народных повстанцев легли в основу оформившейся к середине XVII в. турецкой версии героического дестана о народном мстителе и поборнике справедливости – Кёроглу.








