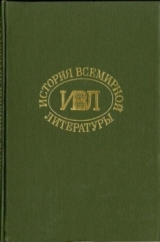
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 109 страниц)
ЛИТЕРАТУРА НОРВЕГИИ И ИСЛАНДИИ
В Норвегии гуманистическое движение, также слившееся с Реформацией (многие носители его были видными деятелями лютеранской церкви), было слабее, чем в Дании. В этом отражался общий упадок общественной жизни в Норвегии, за исключением, может быть, Бергена, оживленного международного порта.
Гуманисты из Осло (Франс Берг, Хальвард Хуннарсон, Йенс Нильсон) были связаны с Данией, Германией, вообще с литературным движением эпохи Возрождения. Нильсон и Хуннарсон испытали свои силы в области неолатинской поэзии; Нильсон составил сборник проповедей и оригинальный дневник, который он писал во время поездок по стране.
Гуманисты Бергена и некоторых других городов направили усилия прежде всего на изучение и прославление родной Норвегии, ее национальных сокровищ. Бейер был ближайшим учеником Гебле Педерсона – первого лютеранского епископа Бергена, горячо сочувствовавшего новому культурному движению. Побывав в Виттенберге у Меланхтона и в Копенгагене, Бейер унаследовал от своего учителя преподавание теологии в бергенской кафедральной школе. В его дневнике живо описаны культурная обстановка в Норвегии, атмосфера общественного и морального хаоса, взаимоотношения с иностранцами из Ганзейского союза, деятельность гуманистов. Его главное сочинение «Относительно норвежского королевства» (написано в 1567 г., опубликовано только через двести лет) рисовало былое культурное и общественное величие Норвегии и было проникнуто патриотическим чувством, мечтой о возрождении страны. Бейер также писал пьесы на библейские темы.
Национально-патриотический характер носила деятельность и других представителей бергенского гуманистического кружка: Л. Ханнсон пытался перевести знаменитый исторический труд Снорри Стурлусона «Круг земной», Ханнсон и Стерссен издали пересказы норвежских саг под названием «Норвежская хроника». Из той же среды вышли анонимная «Рифмованная хроника Бергена» и «Привилегии Бергена», направленные против иностранного влияния в городе.
Крупнейшим знатоком и любителем древнеисландского языка и норвежско-исландских древностей был пастор Педер Клауссон Фрис из Ставангера (1545—1614). Он перевел Снорри и среди других сочинений оставил географическое «Описание Норвегии», в которое вкраплены живые пересказы местных легенд и преданий.
В Исландии снижение тонуса литературы в XIV—XVI вв. было, пожалуй, еще более глубоким, чем в Норвегии. В предреформационный период (до 1552 г.) известное оживление внесла деятельность епископа Иёна Арасона, с именем которого связано начало книгопечатания в Исландии (1530). Сам Арасон был врагом Реформации, но впоследствии книгопечатание было использовано в интересах именно этого движения. Первый исландский перевод Ветхого Завета был сделан Оддом Гудискалкссоном (напечатан в Дании в 1540 г.), а полный перевод обеих частей Библии – Губбрандом Торлакссоном (изд. в 1584 г.).
ЛИТЕРАТУРА ШВЕЦИИ
Реформация в Швеции была введена не сразу, как в Дании, а как бы в два приема: в 1527 г. при Густаве Вазе (который быстро оценил значение реформы для борьбы за национальную консолидацию и укрепление королевской власти) и в 1593 г. по воле риксдага перед коронованием Сигизмунда. Пропаганду Реформации начал еще в 1519 г. Олаус Петри (1497—1521) – ученик Лютера и Меланхтона, смело порвавший с официальной церковью и демонстративно нарушивший католический обет безбрачия священников, а также Лаурентиус Петри (1499—1573), брат Олауса, и Лаурентиус Андреа (1482—1522), нашедший поддержку у Густава Вазы. Все три писателя прикосновенны к переводу Библии на шведский язык (Новый Завет в 1562 г., а весь текст – в 1571 г.), но главную роль, безусловно, играл Олаус Петри.
Этот шведский перевод Библии написан исключительно ясным и богатым языком, с широким использованием национальных элементов в языке, народной лексики и т. п. Роль этого перевода в создании шведского литературного языка велика. С тех пор шведский язык почти не изменился. Олаус Петри создал также ряд полемических сочинений против католицизма, учебники, катехизис, составил сборники проповедей, молитв и песнопений, «Правила судей» и многое другое. Ему часто приписывают и самую старую из дошедших до нас шведскую пьесу – «Комедию о Товии» (1550).
Особое значение имеет его «Шведская хроника», охватывающая исторические события до начала царствования Густава Вазы. Хроника эта проникнута дидактическими тенденциями и одновременно критическим духом по отношению к легендам о величии шведского государства в прошлом.
На другом полюсе – история Швеции последнего шведского католического епископа Иоганнеса Магнуса (1488—1544), напечатанная на латыни в 1500 г. в Италии. В этой фантастической истории, начинающейся от Потопа, Ноя и Магога, Швеция связывается с готами и рассматривается как колыбель германских народов, низвергнувших Римскую империю. Эта националистическая концепция, известная под названием «готицизма», вдохновляла шведскую экспансию XVII в.
К тому же направлению принадлежит и Олаус (Олав) Магнус. В его «Истории северных народов» (1555), также созданной в Италии, описываются древнесеверные нравы и обычаи, излагаются сказки и легенды. Книга эта служила для Западной Европы источником полулегендарных и исторических сведений о Руси.
Во второй половине XVI в. в Швеции, так же как в Дании (хотя и в меньшем объеме), создаются школьные комедии, причем школьная драма вытеснила широко распространенные полуфольклорные «пляски с играми», которые сами по себе могли бы стать почвой для развития драматического искусства. Школьные комедии писались на библейские темы. Таковы упомянутые выше «Комедия о Товии» (ср. датскую пьесу на тот же сюжет), «Комедия о Юдифи и Олоферне» (лучшая из произведений такого рода благодаря серьезной драматической обработке библейского текста) и др.
*Глава пятая*
ЛИТЕРАТУРЫ ШВЕЙЦАРИИ
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЛИТЕРАТУРЫ XIV—XVI вв.
Швейцария начала складываться в самостоятельное государство в эпоху Позднего Средневековья. Расположенные как бы на «перекрестке Европы», швейцарские земли (кантоны) занимали выгодное географическое положение. С открытием Сен-Готтардского перевала и оживлением торговли особенно возросла роль «лесных» кантонов – Швица, Ури и Унтервальдена, которые и стали колыбелью конфедерации. Заключенный между ними в конце XIII в. «вечный союз» креп и расширялся в борьбе с аннексионистскими притязаниями Габсбургской монархии. Сначала к нему примкнули другие немецкоязычные кантоны (Люцерн, Цюрих, Цуг, Гларус, Берн), позже на правах «союзных земель» в его состав вошли и франкоязычные кантоны – Женева, Вале, Невшатель. История формирования конфедерации – это, по существу, история борьбы кантонов против феодальных притязаний соседних государств. Благодаря исторически сложившимся условиям в Швейцарии народу удалось быстрее освободиться от феодального гнета. Победами над Австрией и особенно над Бургундским герцогством городские и сельские жители свободных кантонов убедительно продемонстрировали свое военное превосходство над закованными в латы рыцарями. К конце XV в. Швейцария добилась полной независимости. Но швейцарцы, создавшие, по словам К. Маркса, «первую независимую республику в Европе», «сейчас же обратили в деньги свою военную славу. Все политические соображения исчезли; кантоны превратились в конторы по вербовке наемников... к тому, кто больше платит» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 414). Военное наемничество, ставшее доходным промыслом, особенно процветало в отсталых кантонах. В городских кантонах (Цюрих, Берн, Базель) бюргерство выступало против наемничества, лишавшего города рабочих рук, а также против лихоимства католического духовенства.
Если в лесных кантонах идеи Реформации не встретили благоприятной почвы, то кантоны городские стали колыбелью цвинглианства и кальвинизма. Ульрих Цвингли был выразителем интересов укоренявшегося бюргерства, сторонником республиканского принципа правления. Но он призывал возвратиться к чистоте нравов и простоте жизни «доброго старого времени», выступал за изоляцию от других европейских государств. В отличие от кальвинизма, сыгравшего значительную роль в жизни Европы, цвинглианство не вышло за пределы немецкоязычной Швейцарии. После поражения в 1531 г. оно утратило свой боевой дух, превратилось в бюргерскую Реформацию и застыло в провинциальной узости. Национальное объединение, которое надеялись провести в жизнь сторонники Цвингли, задержалось на целые столетия.
Для национального самосознания швейцарцев было характерно противоречие между постепенным политическим сближением германских и романских кантонов и культурной разобщенностью страны, которая оставалась конгломератом провинций, связанных с духовной жизнью родственных по языку соседних государств. Однако длительное сосуществование разнородных элементов в рамках единого государства вело, хотя и крайне медленно, к складыванию подобия духовной общности и формированию национального характера швейцарца, независимо от того, на каком языке – немецком или французском – он говорит. Применительно к XIV в. еще трудно говорить о швейцарской литературе в собственном смысле слова, но с середины XV в. произведения швейцарских авторов уже далеко не во всем вписываются в литературные процессы Германии и Франции. У них своя судьба, своя специфика, во многом общая как для алеманских, так и для романдских кантонов. Не случайно в немецкой Швейцарии переводится и ставится пьеса Теодора де Беза, а после поражения Цвингли многие его сторонники бегут не к Лютеру, но находят убежище в реформированных кантонах французской Швейцарии, где их принимают как «своих» по вере и по государственной принадлежности. Поэтому литературы Швейцарии на немецком и французском языках уже с эпохи Позднего Средневековья правомерно рассматривать как явление в известной мере самостоятельное – как складывающуюся швейцарскую литературу.
ЛИТЕРАТУРА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Отделение от империи вначале неблагоприятно сказалось на немецкоязычной швейцарской литературе, которая была тесно связана с культурным развитием Германии. Однако постепенно начинает оформляться своеобразие этой литературы, которое проявляется в исторических хрониках и народных героических песнях, прославлявших борьбу за независимость (легенды о Вильгельме Телле и Арнольде Винкельриде). Первые ростки этого своеобразия пробиваются уже в прозе мистиков XIV—XV вв., швейцарскими представителями которых были доминиканец Генрих Сузо (Зойзе) и его ученица, монахиня Элизабет Штагель. В «Жизнеописании», начатом «духовной дочерью» Сузо и законченном им самим ок. 1362 г., религиозные излияния и призывы к активной роли человека в деле «спасения души» приобретают почти эротическую окраску. Вопреки декларированной отрешенности авторов от мира сего их описания поражают остротой и интенсивностью переживания, чувственной осязаемостью образов и картин. Крайняя степень экзальтации, истовость самоистязания и нравственная аскеза были для них своего рода протестом против распущенности и дикости нравов, господствовавших в Швейцарии времен разгула наемничества. Придавая решающее значение активизации внутренней жизни человека, мистики подготавливали почву для идей гуманизма и Реформации.
В XV в. взгляд верующего обращается к земным, житейским делам. Церковный идеал аскезы в монастырской келье смывается мощным потоком грубой, реальной жизни. Этот процесс затронул и духовную литературу: XV век выдвинул крупного поэта-клерикала Генриха Лауфенберга (ок. 1400—1450), сочинившего около ста песен, среди которых были переводы на немецкий латинских гимнов, смешанные латино-немецкие стихи и так называемые контрафактуры – переложения светских, народных песен на церковный лад. Сохраняя начальные строки песни, ее размер, ритмику и мелодику, Лауфенберг заменяет светское содержание религиозным. Идя навстречу запросам бюргерства, он приближал веру к понятиям народа, ратовал за упрощение обряда богослужения – и тоже прокладывал дорогу Реформации.
Начиная с XIV в. глубокие сдвиги происходят и в светской литературе. Изысканная галантность рыцарской лирики уступает место более трезвому взгляду на жизнь. Поэты заняты уже не воспеванием рыцарских доблестей, а воспитанием бюргерских добродетелей. Литература миннезанга, расцветавшая на территории Швейцарии в XIII в., вырождается. Новые тенденции находят интересное решение у цюрихского поэта, бюргера по происхождению, Иоганнеса Гадлауба (ум. ок. 1340). В его творчестве традиционные мотивы рыцарской лирики переплетаются с бытовыми штрихами и зарисовками, материализуются в конкретных образах, отмеченных чертами исторической достоверности и местного (цюрихского) своеобразия. Его поэзия обогащается новыми приметами эпичности и живописности, в ней чувствуется влияние мейстерзанга. Но импульсы этого литературного течения в Швейцарии XIV—XV вв. заглохли – отчасти вследствие изоляции от культурных очагов Германии. Зато получила распространение сатирико-дидактическая поэзия. Поэты, охваченные жаждой наставлять ближних, развертывали перед ними широкую панораму их достоинств и пороков. В их благочестивых, дидактических сочинениях звучали мотивы обличения церкви и общества, предварявшие сатиру Реформации.
Излюбленным жанром дидактической поэзии в XIV в. стала басня, сочетавшая аллегоричность с назидательностью и демократическими тенденциями; она лучше всего соответствовала практическому складу ума бюргерских поэтов. Швейцария дала баснописца, неотделимого также от немецкой литературы этой эпохи, – Ульриха Бонера (род. ок. 1280 г., упоминается в бернских документах 1324—1349 гг.). В его книге «Самоцвет» около ста басен, собранных из различных латинских источников и воспроизведенных в немецкой версии. Среди басен Бонера есть и произведения, написанные на оригинальные сюжеты («Лихорадка и блоха») и свидетельствующие о наблюдательности и изобразительном мастерстве автора. Бонер – служитель бога и учитель народа, басня для него – средство нравоучения, проповеди христианских добродетелей. В занимательно изложенных назиданиях чувствуется опыт проповедника. Наряду с баснями сборник включает короткие нравоучительные истории из средневековой жизни («Еврей и кравчий», «Король и брадобрей»). Бонер не просто переводил, а перерабатывал латинский материал, придавая ему новую форму. Заключительную сентенцию, мораль басни он часто развивал в новом образе, создавая как бы басню в басне. Так, в басне «О козе, быке и овце», которые вместе со львом охотились за оленем и не получили своей доли добычи, мораль излагается в такой форме: с высокими господами плохо есть вишни за одним столом – они бросают косточки в глаза своим соседям. При всей бюргерской ограниченности нравоучений басни Бонера согреты сочувствием к простому народу и пронизаны духом демократизма.
По преимуществу переводчиком был и деревенский пастор Конрад из Амменхаузена (фогтство Тургау). Источником его аллегорической стихотворной «Книги о шахматах» (1337) послужила латинская книга ломбардского доминиканца Иакова Кессолийского (XIII в.). Крестьянин по происхождению, Конрад был не очень образован, но много путешествовал и знал жизнь народа. Поэтому в его социальной аллегории (шахматные фигуры уподобляются сословиям – от короля до бюргеров и крестьян) особенно удачны главы, написанные в добавление к латинскому оригиналу и посвященные жизни простого народа. О популярности книги говорят многочисленные списки.
Выдающимся произведением не только швейцарской, но и всей немецкоязычной литературы Позднего Средневековья является гротескно-комическая дидактическая поэма Генриха Виттенвейлера «Кольцо» (ок. 1420), где кольцо символизирует противоречивость мира и двойственность человеческой натуры, а также извечное стремление к достижению гармонического равновесия между плотью и духом, действительностью и идеалом. Поэма Виттенвейлера – это своеобразная энциклопедия средневековой народной жизни, она искрится грубоватой шуткой, пропитана иронией как в изображении крестьянского быта, так и в описании рыцарских идеалов. Но «Кольцо» – не сборник шванков и не «зерцало» добродетелей, оно отмечено стремлением к художественному постижению диалектических противоречий жизни. Наставления чередуются в книге с грубокомическими выходками, растворяются в плутовских оргиях. Центральное место в образном строе поэмы занимает распространенный в сатирической литературе эпохи образ чудака, глупца. В основу комического сюжета положено изображение деревенской свадьбы. Простоватый крестьянский парень сватается к «даме сердца» – уродливой горбунье. Он ухаживает за ней по всем правилам рыцарского искусства: устраивает в ее честь турнир, на котором забавно дерутся деревенские парни, вооруженные вместо копий и щитов кочергами и лоханями; сочиняет для своей дамы любовные послания, причем одно из них, брошенное в окно вместе с камнем, разбивает ей голову. Шумная крестьянская свадьба заканчивается традиционной потасовкой. В заключительной части поэмы изображена кровопролитная война между крестьянами из двух соседних деревень. Незадачливый крестьянин теряет всех своих близких и становится отшельником. Возобладавшие в финале черты трагикомического гротеска придают произведению мрачное звучание. В комическом свете изображая крестьянскую жизнь, Виттенвейлер отнюдь не издевается над крестьянами. Смысл поэмы подчеркнуто антикуртуазен: время турниров и рыцарской галантности безвозвратно миновало, у бюргерства и крестьянства иные задачи, иные идеалы.
«Кольцом» Виттенвейлера заканчивается средневековый период немецкоязычной литературы. На исходе этого периода окончательно оформился политический разрыв Швейцарии с империей, но духовные связи с Германией остаются важным фактором культурной жизни немецкоязычных кантонов. Если в сатирико-дидактической литературе рост национального сознания запечатлен как бы изнутри, в своеобразии конфликтов и народных характеров,
то в исторических хрониках и героической народной песне находит воплощение поэзия борющихся за свои права городов и сельских общин Швейцарии. Следов влияния древнегерманского героического эпоса в швейцарской литературе к этому времени почти не осталось.
Социальные потрясения начала XVI в. расшатали могущество церкви в Швейцарии. Города становятся средоточием гуманистической мысли, прибежищем для протестантов. В Базеле создавал свою знаменитую сатиру «Корабль дураков» Себастиан Брант; здесь же с 1521 г. жил и творил Эразм. Мятежный Ульрих фон Гуттен нашел там последнее прибежище у Цвингли; в Швейцарии трудился крупнейший врач Теофраст Парацельс и другие гуманисты. Ульрих Цвингли, выдающийся швейцарский гуманист, стал в то же время и известным реформатором. Он сочинял не только церковные проповеди, отличавшиеся энергичностью слога и демократизмом содержания, но и боевые песни и музыку к ним. Реформаторские идеи Цвингли оказали воздействие на швейцарскую литературу, прежде всего на библейскую драму XVI в.
В эту эпоху на первое место выходит именно драма: она стала органическим выражением движения Реформации. За ее религиозными одеяниями проступает повседневная жизнь народа – социальная, политическая, военная. Представления разыгрывались в общественных местах, на городских улицах и площадях; в них принимал участие простой люд, границы между игрой и действительностью почти не существовало. Для швейцарской драмы характерна широта охвата, экстенсивность действия, а не глубина внутренних мотивировок. Персонажи, сменяя друг друга, высказываются по актуальным вопросам религии и политики. Серьезные места чередуются с комическими. Популярностью в реформированной части Швейцарии пользовались масленичные карнавальные комедии – фастнахтшпили. Серию пьес на светскую тематику открыла политическая комедия Бальтазара Шпросса «О старых и молодых конфедератах» (1513). Это еще не драма, а драматический диалог на темы дня, выдержанный в форме карнавального представления.
В швейцарской литературе XVI в. различаются два периода – до и после Капельского мира 1531 г. Первый период – это время активной реформаторской деятельности и подъема драмы, давшее таких мастеров этого жанра, как П. Генгенбах, Н. Мануэль и их католический антипод Ганс Залат. После поражения политическая активность затухла, а вместе с ней увяла и драма. Поэтому следующий период отмечен утверждением уже завоеванных позиций, постепенно переходящим в духовное оцепенение XVII в.
Талантливым драматургом Реформации был базелец Памфилус Генгенбах (1480—1526) – автор драм «Десять возрастов этого мира» (1515) и «Отшельник» (1517), в которых нашли отражение конфликты швейцарской действительности, а также популярной комедии «Лужок любодеев» (1521) – остроумной и едкой сатиры на испорченность нравов. Действия как такового в ней еще нет, но быстрая смена персонажей и веселый комизм ситуаций (изображается праздник любви, на котором Венера с помощью шута и куртизанок «приручает» представителей всех сословий) придают ей динамизм и драматическую напряженность. В стихотворной сатире Генгенбаха «Пожиратели мертвецов» (1522) подвергается осмеянию весь клир – от папы до простых священников, живущих за счет отпевания мертвых, месс, поминовений и т. д. Здесь, как и в сатире «Новелла», направленной против сторонника католической партии Томаса Мурнера, Генгенбах выступает в защиту новой веры – протестантизма.
Значительным драматургом был бернец Никлас Мануэль (1484—1530). Этот гуманист был не только поэтом, но и художником, архитектором, государственным деятелем. Его произведения возникли в короткий промежуток между 1522—1526 гг. Как только религиозное обновление было проведено в жизнь, он оставил перо и стал государственным деятелем, чтобы на практике содействовать распространению нового учения. Защите идей Реформации и разоблачению католицизма посвящены все произведения Мануэля, как церковно-проповеднического характера («О папе и его священниках», «О противоречии между папой и Христом», 1523), так и драмы на светские сюжеты («Торговец индульгенциями», 1525, «Барбали», 1526). От Генгенбаха он отличается богатой фантазией, одухотворенностью образованного гуманиста, строгостью форм. В борьбе с католицизмом он умело пользуется сатирой, юмором, иронией. В драме «Торговец индульгенциями», разоблачающей отпущение грехов за плату как наглый обман, особенно динамична сцена, когда крестьянки силой заставляют продавца индульгенций признаться в воровстве и подделке реликвий. Драма «Барбали» направлена против монастырской жизни. Крестьянская дочь отказывается идти в монастырь и с помощью ссылок на Евангелие выходит победительницей в споре с богословами.
С середины XVI в. в драматургии почти исчезают светские темы и черты социальной критики. Произведения Я. Руфа (ум. 1558), Г. Буллингера (1504—1575), Сикста Бирка (1501—1554) носят эпигонский характер.
Литературная жизнь в кантонах, не охваченных Реформацией, выглядела беднее. Здесь ограничивались представлениями пасхальных и рождественских литургических драм, избегали не только светских тем, но и сюжетов из Ветхого Завета. Среди католических драматургов можно назвать Цахариаса Блеца (1511—1570), автора драм «Маркальфус» (1546) и «Антихрист» (1549), Иоганнеса Ааля (1500—1551), автора «Трагедии Иоанна Крестителя» (1549), и самого талантливого – Ганса Залата (1498—1561), создателя «Хроники Реформации», политических стихотворений и драмы «Блудный сын» (1537). Ганс Залат был ярым обличителем «евангелистов». Мишенью его стихотворных сатир чаще всего бывал Цвингли («Песня о войне», «Песня о Цвингли»). Поражение цвинглианской Реформации и смерть Цвингли он воспел как справедливое возмездие. Драма «Блудный сын» тоже начинена нападками в адрес Реформации.
Расцвет драмы в Швейцарии XVI в. был обусловлен обострением конфессионального антагонизма и распространением гуманистических идей, ожививших интеллектуальную и литературную жизнь немецкоязычных кантонов. Но драма была лишь одной из форм выражения глубинных процессов, происходивших в отделившейся от империи стране. Рост исторического и национального самосознания народа запечатлевался и в других жанрах – рифмованных хрониках, исторических песнях, а также в устном народном творчестве.








