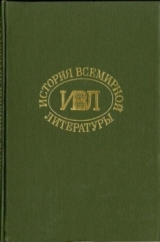
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 102 (всего у книги 109 страниц)
ПРОЗА
В XV—XVI вв. в художественной прозе на ханмуне все большую роль играют сюжетные жанры. Появляется вымышленный герой, который изображается в частной жизни, подчас – в подчеркнуто бытовой ситуации. При этом обыденное показано в ней как отклонение от нормы. Необычного героя изображают в житейской ситуации либо, наоборот, заурядных людей помещают в необычную обстановку: изолируют от привычных связей. Столкновение «низкого» и «высокого» часто рождает комический эффект. В прозе преобладают малые формы, прежде всего короткая новелла в сборниках пхэсоль (сокращение от «пхэгван сосоль» – проза малых форм). Наиболее значительными прозаиками в XV—XVI вв. были Со Годжон, автор сборников «Записки о знаменитых каллиграфах», «Рассказы годов мира и благоденствия» и «Заметки о стихах корейских поэтов», Сон Хён (1439—1504), автор сборников «Разные рассказы Ёнджэ», «Рассказы Ёнчхона, написанные в уединении», О Сукквон, издавший «Смешанные записки пхэгвана» (пхэгван – мелкий чиновник, в обязанности которого входило собирать народную молву и предания. Известно, что такая должность существовала в Древнем Китае, где она называлась байгуань). В кратко намеченной бытовой обстановке (семья, будни буддийского храма, веселая приятельская пирушка) действует герой – человек, по каким-то признакам отличающийся от обычных людей: это или слепой, или он занимает особое положение в обществе – буддийский монах, вдова и т. д. Из-за своей ущербности герой воспринимает мир иначе, чем нормальные люди. Острота ситуации и комический эффект в новеллах достигаются столкновением героя с обыденностью. Например, человек хочет втайне от жены провести время с красоткой, но он слепой и, сам того не ведая, развлекается с собственной женой.
Героиня новеллы, как правило, вдова, чаще веселая вдовушка, ищущая любовных приключений, старающаяся выгодно выйти замуж. Ее обычный партнер в любовных утехах – буддийский монах, выступающий в новелле в бытовой, приземленной обстановке, т. е. не на своем месте. Поэтому часто он становится объектом насмешки; он хочет встретиться с красивой вдовой, посылает ей подарки, но служка обманывает его, и вместо приятного вечера ему достаются побои. Служка – обманщик, плут – также постоянный персонаж в новеллах о монахах. Собственно, комизм новеллы рождается из столкновений изобретательности служки с неповоротливостью монаха. Возможно, история о том, как служки дурачат монаха, и были одним из первых образцов плутовской новеллы.
Для пхэсоль XV—XVI вв. характерно не только стремление изобразить обыденное, но и желание подчеркнуть в обыденном «низкое». Темой новелл становятся утехи распутных монахов и вдов, а источником неприятностей – дурной желудок. Интерес к интимным подробностям выражается, таким образом, в простонародной грубой форме.
В XVI в. существовала проза другого характера. Это произведения Ким Сисыпа. Сохранилось пять его новелл из сборника «Новые рассказы с горы Золотой черепахи», по содержанию связанные с творчеством китайского новеллиста XIV в. Цюй Ю. Произведения Ким Сисыпа проникнуты буддийской идеей непрочности земных радостей и тщетности стремлений человека к счастью. Это новелла фантастическая. Ее герои попадают в сказочный мир: подводное царство дракона («Пир во дворце дракона»), в царство властителя ада Ямараджи («О земле Намёмбу») – или наслаждаются счастьем с красавицей, которая оказывается феей или духом умершей («Игра в ют в храме Манбок», «Развлечение в беседке Пубёк»). Царство дракона и царство властителя ада полны удивительных вещей, и даже государь здесь правит мудро и справедливо. Человек, на краткий миг переселившийся из несправедливого мира в царство необычного, не в силах больше вести прежнюю жизнь, он становится отшельником либо умирает.
Герои Ким Сисыпа стремятся к эстетическому наслаждению, но их мечты сбываются только во сне. В новелле «Развлечение в беседке Пубёк» герой встречает совершенную женщину, но она оказывается феей, а его счастье – всего лишь кратким мгновением сна. Лян из новеллы «Игра в ют в храме Манбок» получает в жены красавицу. Радость его безмерна, но прекрасная жена оказывается духом умершей, ее дом – зарослями чертополоха, и счастье Ляна – так же призрачно, как и счастье героя цервой новеллы.
Новелла «Юноша Ли посмотрел через забор» рассказывает о любви в обычном мире. Но для того, чтобы показать счастье героев, автор изолирует их от привычных связей: девушка Цой живет вдвоем со служанкой в уединенном павильоне, в саду, вдали от родителей и домочадцев. Цой здесь – та же красавица-фея, которая на короткое время озаряет жизнь юноши. Счастье оказывается недолгим: красавица гибнет, Ли отдаляется от людей и умирает.
Ким Сисып создал в корейской литературе жанр новеллы, в которой и воплощается буддийское представление о земном счастье как мимолетном сне. Человек лишь видит сон о счастье. Новелла завершается возвращением героя в обыденный мир. Ким Сисып ввел и новых идеальных героев – изящного юношу, поэта, ценителя красоты и прекрасную деву с утонченными манерами, владеющую искусством стиха и игры на музыкальных инструментах.
Раннее творчество поэта и прозаика XVI в. Лим Дже (Пэкхо) включает новеллу «О том, как юноша Вон путешествует во сне», в которой герой попадает в мир, населенный душами несправедливо обиженных на земле. Лим Дже был автором трех крупных повестей – «Мышь под судом», «Юдоль» и «История цветов». В повести «Мышь под судом» рассказывается о том, как дух – хранитель амбара чинил суд над зловредной мышью, которая съела весь запас риса. Эта повесть аллегорична, в ней вполне прозрачен намек на дурных чиновников и незадачливых судей (образ чиновника-мыши традиционен для корейской и китайской литератур, он восходит к древнекитайской «Книге песен»). Повесть бессюжетна, она построена как диалог между судьей – хранителем амбара, мышью и животными-свидетелями. Смысл их речей заключается в противопоставлении «высокого» и «низкого». Мышь перекладывает вину по очереди на всех животных, начиная с самых обычных и кончая фантастическими и священными. При этом каждому из них она дает характеристику. Животные говорят о себе в возвышенном духе, цитируют китайские сочинения, ссылаются на свое славное прошлое, мышь низводит этих персонажей на землю, нарочно дает искаженное толкование событиям и высказываниям героев древности – осмеивает и снижает традиционные представления. Мышь – плутовской герой, хотя плутни не спасают ее от наказания.
«История цветов» Лим Дже написана в форме официального исторического сочинения. Как принято в таком серьезном жанре, история цветочного царства делится на четыре династии, каждая из которых соответствует определенному времени года. События распределены по годам правления государей. В конце каждого периода приводится ученое суждение историка с ссылками на известные события из китайской древности. История каждого государства рассматривается в традициях конфуцианской историографии: она начинается с правления мудрого государя, при котором ко двору приближены верные советники (сосна, бамбук), народ живет в довольстве, государство процветает. Заканчивается история гибелью царства: на престол вступает негуманный, несправедливый государь, который окружил себя дурными подданными и передал им дела правления.
Персонажи «Истории цветов» символичны: Шиповник насмехается и вышучивает двор, а Терновник обладает острым языком и своенравием. Название цветка часто связано с историческими персонажами: красавица Тополь погубила государя и была причиной начавшихся смут; Тополь – Ян – это намек на красавицу Ян-гуйфэй и на трагические события из истории Китая VIII в. Каждый персонаж двойствен: он представляет самого себя – названный цветок, но за ним тянется цепь литературных и исторических ассоциаций.
«История цветов» осуждает противоестественную социальную деятельность людей. Ее фальшь становится очевидной через остранение: придворные интриги, стремление к славе и почестям – все, чем так озабочены люди, выглядит нелепо в царстве цветов. Человек – по мысли автора, тоже одно из природных существ – должен сохранять естественность и, подобно цветам, жить свободно, сообразуясь только с природой.
«Юдоль» – так назвал Лим Дже необычный город, населенный героями корейской и китайской истории – преданными подданными, добродетельными женами, которые погибли несправедливо обиженными во имя верности своим убеждениям. Это был мир, где не было надежды избавиться от мучений. Но вот по совету мудреца небесный государь приказал генералу Вино завоевать город страданий – жители без сопротивления сдались этому полководцу.
Лим Дже страдает от несправедливости в обществе, разочарован в конфуцианских идеалах служения долгу. Он полагает, что избавиться от страданий можно, как говорят даосы, отказавшись от активных действий и обретя единение с природой и вином.
В корейской литературе XV—XVI вв. проявляются две точки зрения на мир. Одна – с позиций человека, находящегося в сфере государственных отношений, другая – с позиций стоящего вне этой сферы. Первая, господствовавшая главным образом в поэзии на родном языке, особенно в XV в., вводит в литературу мир официальных отношений, освященных конфуцианством. Вторая, распространившаяся прежде всего в XVI в. и захватившая прозу, поэзию на ханмуне и частично на корейском языке, либо не интересуется официальными ценностями, обращаясь к природе, быту, интимной жизни, либо критически оценивает сферу официального с даосских и буддийских позиций. Обе эти точки зрения могут присутствовать в творчестве одного и того же автора в зависимости от обстоятельств его биографии. Они связаны с определенным кругом изображаемого, но в любом случае мир и его проявления рисуются в литературе этого временя обобщенно. Однако надо сказать, что сфера «неофициального» в литературе охватывала больший круг явлений и больше освобождала человека от должного в его конфуцианском понимании.
Потенциально она была более предрасположена к изменениям – индивидуализации и реалистичности изображения, нежели сфера «официального». Это подтверждается историей корейской литературы следующего периода; первые сдвиги в изображении действительности намечаются в пейзажной лирике.
*Глава третья*
ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
С конца XII в. положение в литературе стало ощутимо меняться. По дорогам страны бродили бива-хоси (монахи с бива – четырех– или пятиструнным инструментом, японской лютней); слепцы, бродячие сказители. Они вели рассказ о воинских делах, о главных событиях эпохи. Особенно интересно это было, конечно, для буси (воинов), прежде всего для верхнего слоя их – рыцарей, так как речь шла в первую очередь о них, но это было интересно и для крестьян, из рядов которых выходили буси. Но какие же воинские дела особенно запечатлелись в народной памяти? Борьба двух лагерей – «восточного» с домом Минамото во главе и «западного» во главе с домом Тайра. Так родился знаменитый сказ о Тайра и Минамото, т. е. о той действительно эпохального значения борьбе, которая перевела культуру страны в другое русло. Сказания о Тайра и Минамото то же, что chansons de geste западноевропейского Средневековья.
Творчество в этой сфере, однако, не ограничилось лишь формой сказа: из него родилась и литература эпохи, ее главный вид – эпическое повествование. В Японии его назвали гунки (описание войн), или сэнки (описание сражений). Сказания записывались, обрабатывались, соединялись в сюжетные циклы; циклы сцеплялись друг с другом, и в результате получались целые эпопеи. «Хэйкэ-бива» («Сказ под бива о Хэйкэ», т. е. доме Тайра) превратился в две большие эпопеи: первая, самая знаменитая, стала называться по старому образцу – «Хэйкэ моногатари» («Повесть о Тайра»); вторая – «Гэмпэй сэйсуйки» («Записи о расцвете и упадке феодальных кланов Минамото и Тайра»). Судя по наиболее древним из сохранившихся списков, обе эти эпопеи складывались в начале XIII в.
Именно складывались, и не в одном варианте. Мы знаем эти эпические поэмы по разным спискам, причем списки эти очень отличаются от списков прежних романов. Вообще список для того времени – явление естественное: литературные произведения размножались переписыванием. Но различия в списках куртуазных повестей предшествующей эпохи, например «Гэндзи моногатари», сводятся к отдельным словам, фразам, самое большое – к абзацам, текст в основном был стабилен; списки же «Хэйкэ моногатари» отличаются друг от друга еще и наличием или отсутствием в них целых частей. Драматическая борьба Минамото и Тайра служит фабульной основой для обеих упомянутых эпопей, но в наиболее распространенных списках «Хэйкэ моногатари» двенадцать частей, т. е. сюжетных циклов, а в «Гэмпэй сэйсуйки» – 48. Это служит наглядным свидетельством того, как многообразен был фольклорный материал, из которого составлены эпопеи. Сравнительная незначительность различий в списках хэйанских романов объясняется тем, что эти романы были произведениями определенных авторов, был, следовательно, авторский текст, который и переписывался; в камакурских же эпопеях единоличного авторского текста не было: авторами были сказители, они меняли от случая к случаю свой рассказ, применяясь к аудитории и к моменту.
Но кто же записывал эти сказания? Ответ ясен: монахи. В XII—XIII вв. монахи были уже не те, что их собратья в IX—XI вв. Буддизм за эти века далеко шагнул в провинцию, в деревню, т. е. в народную среду, в ту самую среду, из которой вышли массовые кадры буси (воинов). С распространением буддизма менялся состав монашества, массу которого составляли люди, более близкие к народу, чем первоначальные деятели буддизма. Даже те монахи, которые принадлежали по происхождению к старой знати, с ослаблением, а затем и с упадком аристократии от своей социальной среды сохранили, в сущности, лишь традиционную образованность. Эта образованная часть буддийского монашества и составила интеллигенцию правящего слоя военного дворянства. Они и записывали сказания о сражениях, подвигах, злодействах.
Разумеется, сказания в какой-то мере утрачивали свой первоначальный вид, прежде всего потому, что они записывались, и записывались не фольклористами, щепетильно относящимися к малейшей детали, а людьми, которые хотели изложить этот сказ «грамотно», «литературно». Трудно было побороть искушение что-то дополнить или уточнить: ведь в распоряжении монахов были и старые хроники, и дневники, оставшиеся от выдающихся деятелей прежней эпохи, а в этих материалах говорилось о тех же людях и событиях. Поэтому в ряде случаев в тексте эпопей чувствуется не только дыхание книжности, но и ее прямое присутствие в виде переноса чего-нибудь из таких материалов.
Работа составителей эпопей видна еще в том весьма существенном с точки зрения истории культуры факте, каким языком и каким письмом эти сказания записаны. И тут перед нами нечто совсем иное, чем то, что мы наблюдаем в моногатари; нечто говорящее о наступлении новой эпохи в культуре.
Язык куртуазной поэзии и прозы по лексике был чисто японским; примесь китайских слов в нем незначительна и притом ограничена определенным кругом: во-первых, это слова, обозначающие что-либо буддийское, особенно саны духовенства; во-вторых, названия должностей и чинов. То, что такая лексика была китайской, совершенно естественно: и буддизм, и модель правительственного аппарата были восприняты японцами в китайской языковой оболочке. Однако с течением времени в обиходный язык стали проникать в той же оболочке и понятия буддийского учения, и правовые, социальные, экономические, политические термины, которыми были заполнены тексты составленных в Японии кодексов. Тем самым в обычную речь вошел и непрерывно возрастал слой китайской лексики, отражавшей усложнившееся содержание сознания и расширявшуюся тематику социального языкового общения. Ученые монахи были особенно близки к этому языку, поэтому язык воинских эпопей – начало того японского языка, который стал впоследствии японским национальным языком; языком, в котором не просто присутствуют, а органически слиты воедино две – по корневому составу и происхождению – системы лексики, своя – японская и чужая – китайская. Надо при этом помнить, что китайская лексика буддизма в известной части – просто фонетически по-китайски отредактированная лексика оригинальных индийских языков буддийского писания – санскрита и пали.
Соответственно изменилось и графическое переложение языка: вместо канабун (письма знаками каны) появилось канамадзирибун (письмо, смешанное со знаками каны, т. е. частично китайскими иероглифами, частично – знаками каны.) Но китайское письмо в основе своей идеографическое, японское – фонографическое; следовательно, канамадзирибун – соединение двух противоположных по качеству систем письма. И такое соединение оказалось практически применимым. В слове есть присущее только ему смысловое значение, т. е. элемент строго индивидуально единичный, но в этом же слове может наличествовать и такая часть, которая индивидуальна, но не единична – знак его категориальной языковой природы, т. е. знак его принадлежности к той или иной из лексико-грамматических групп, может быть часть, определяющая ту смысловую и грамматическую форму, в которой слово входит в общий состав высказывания. И вот строго единичное в слове получило на письме свой столь же единичный графический знак, общее же в слове или то, что появилось в нем в данных условиях его применения, стало передаваться на письме общим графическим языком. А так как единичное в слове – его значение, оно, естественно, получило на письме знак – единичный иероглиф, а неединичное, т. е. относящееся к общим категориям языка, передавалось на письме общими знаками – каною.
Итак, литература, создаваемая военным дворянством, ярко выразилась в гунки, военных эпопеях – историко-героических поэмах в прозе. В них мы видим и облик человека эпохи, ее героя. Герой этот – буси, воин, рыцарь, как говорилось на Западе в соответствующую пору европейского Средневековья.
Этот герой двуликий: господин и слуга, сеньор и вассал. Один и тот же буси был и сеньор, т. е. имел вассалов, и вассал, т. е. имел над собой сеньора. Но пусть он был и только вассал, все равно в его сознании всегда присутствовала идея взаимосвязанности и взаимозависимости. Вассал исполнял свой долг по отношению к сеньору, но он знал, что у его сеньора есть свой долг по отношению к нему. Долг вассала состоял в хоси (служении); долг сеньора – в гоон (милости). Реально оба эти долга были необходимы для обеих сторон, так как каждая нуждалась в другой, но такая связь, порожденная жизненной необходимостью, выливалась в форму моральной категории – тю (верности); слово тю означало не верность господину, как стали понимать впоследствии, а верность долгу. В первую очередь это относилось, конечно, к долгу вассала, но не менее повелительна была идея верности и для сеньора. Это обстоятельство имело большое значение для культуры, особенно культуры духовной, всего Средневековья. Еще в конце Древности человечество пришло к осознанию человека человеком, т. е. к основе всех последующих обликов подлинного, а не формального гуманизма. Средневековье с его вселенскими религиями – буддизмом и христианством – мощно утвердило и развило эту идею, соединив ее с идеей братства. Но все это оставалось в пределах морали, с наступлением же рыцарской поры Средневековья моральный план гуманистической идеи в принципе соединялся с социально-правовым. И это был большой и необходимый шаг вперед по пути введения в жизнь великого начала человечности, так как гуманистическая идея осуществляется в обществе, а жизнь общества, пока она осуществляется в категориях государства, нуждается в правовых нормах. Но этим шаг вперед не ограничивается. В рамках указанного правосознания новое развитие получает и человеческая личность. Тогда это выразилось в отчетливом осознании человеком самого себя. Когда мы читаем в «Хэйкэ моногатари» рассказы о том, как бились рыцари, мы видим, что каждый воин той и другой стороны думал о себе, о своем подвиге. И если для такого подвига надо было устранить конкурента из собственного же стана, это делалось без колебания. Конечно, личный подвиг определял не только на (имя), т. е. славу его совершившего, но и позволял ему рассчитывать на милость, т. е. награду господина. И все же идея своего подвига укрепляла самосознание личности.
Но, разумеется, такое осознание тогда и не могло быть индивидуалистическим: отдельный человек мыслил себя прежде всего членом коллектива. Коллективом для того времени была семья, род. Поэтому японский рыцарь, совершивший какой-либо подвиг, издавал победный клич, который состоял из нанори (называние имени): «Это я, Сасаки Сиро Такацуна, четвертый сын Сасаки Сабуро Ёсихидэ из Оми, потомок в десятом поколении императора Уда, я – первый на переправе Удзигава!» Сражение в то время фактически состояло из поединков отдельных рыцарей, и побеждали они прежде всего ради славы своей и своего рода. Поэтому так непостоянны были лагери феодалов: переход воинов из одного лагеря в другой был обычным явлением. Хатакэяма Сигэтада, прославленный воин, сражался сначала на стороне Тайра, а потом перешел к Минамото. Конечно, теми, от кого кто-либо уходил, подобный поступок определялся как предательство, нарушение долга верности, но верность мыслилась не отвлеченно, а совершенно конкретно. Принцип «сеньор – вассал» продолжал оставаться в силе; менялись только участники двуединства. Но еще более важным было следующее: ранее правовые нормы регулировали отношения «правительства» и «народа» – категорий, для сознания людей того времени достаточно отвлеченных; теперь эти нормы регулировали отношения вполне осязаемых субъектов – господина и слуги, сеньора и вассала. В его чисто человеческом оформлении такого правосознания и состоит шаг вперед по единственно важному для человечества, по трудному и долгому пути построения общества на гуманистических началах.
Однако в облик буси – основного героя эпохи, тогда – в силу кровной связи с крестьянской массой – героя еще народного, входило не только отмеченное выше изменившееся правосознание и сопутствующее ему повышенное представление о значении своего поведения – своей славы, своего позора; для этого героя характерно и особое мироощущение.
В наиболее распространенных списках «Хэйкэ моногатари» всему изложению предшествуют строки буддийского хорала: «Голос колокола в обители Гион // звучит непрочностью человеческих деяний. // Краса цветов на дереве Сяра // являет лишь закон: живущее – погибнет. // Гордые – недолговечны: // они подобны сновидению весенней ночью. // Могучие в конце концов погибнут: // они подобны лишь пылинке перед ликом ветра». Такой эпиграф к эпопее Тайра – Минамото вполне оправдан ее содержанием: внешне это героическая повесть о борьбе двух владетельных домов, гордых и могучих, но внутренне – скорбный рассказ о трагической судьбе одного из этих домов – Тайра. И это ясно с самого начала, с первого же эпизода этой борьбы, когда воины Тайра обратились в паническое бегство при первой же встрече с воинами Минамото, да еще в бегство с перепугу, по ложной тревоге.
Разумеется, эпиграф – дело рук тех, кто записывал сказание монахов, но важно главным образом то, что судьба Тайра преподнесена в обобщенной форме: все в конечном счете обречено на гибель. Борьба Тайра и Минамото происходила во второй половине XII в., но уже за целое столетие до этого в сознание людей вошла одна навязчивая мысль – о наступлении конца.
В буддизме есть учение о «Трех эрах», по которым потечет жизнь «Закона», т. е. учения Сакьямуни, после его вхождения в нирвану, т. е. после его кончины. Первая эра будет продолжаться 500 лет, и это будет время «Правильного Закона» (кит. – чжэнфа, яп. – сёбо), т. е. торжества истинной веры. После этого начнется Вторая эра, которая будет временем «Подобия Закона» (кит. – сянфа, яп. – дзобо), когда вера еще будет держаться, но уже внешне, формально, не одушевляя собой все помыслы и поступки людей. Она будет длиться 1000 лет. После нее, т. е. через 1500 лет после кончины основателя «Закона», наступает Третья эра – время «Конца Закона», когда и «Подобие» его рушится. По подсчетам буддистов, первый год этой последней эры и падает на 7-й год Эйсё, 1052-й.
Эра «Конца Закона», которая должна длиться 500 лет, мыслилась как время зла и бедствий. «Этот год, – сказал Хонэн (1133—1212), один из выдающихся буддийских учителей этого времени, – есть год Конца Закона. Нынешний мир – мир Зла». Ему вторил Синран (1173—1262), столь же знаменитый буддийский деятель этой поры; он говорил: «Обе эры – «Правильного Закона» и «Подобия Закона» – закончились. Осиротевшие младшие братья Светоносного, плачьте!»
В явных – для верующих того времени – свидетельствах действительного наступления «эры Зла» недостатка не было. Как раз в первом же году этой эры сгорел почитаемый монастырь Хасэдзи, что было воспринято как возвещение поры бедствий. Сгорели все священные изображения, кроме одного – маленькой фигуры Амитабхи. Это знамение должно было возвестить людям, что с ними навсегда останется Амитабха, Будда Светоносный, – властитель Чистой земли, рая. Следовательно, спасение возможно. «Есть только одни Врата, – продолжал приведенные выше слова Хонэн, – Врата Рая. Войди в них!»
Учение о том, что призывание имени Будды есть средство «спасения», т. е. возрождения в раю после земной кончины, существовало и до Хонэна, но он свел к этому все в буддизме. Следовательно, никакого монашества, отшельничества, подвижничества! Никаких обрядов! Буддийское учение перешло во внутренний, духовный мир человеческой природы. Отступили те цели, которые в первое время находились на переднем плане: охрана страны, государства. Цель стала человечески личной и духовной: спасение мыслилось как духовное возрождение в более высокой сфере бытия. Повышало религиозный характер буддизма и учение о «Великом обете» Амитабхи – его клятве ввести всех людей в свою обитель. Такое учение создавало представление о наличии мировой воли, ведущей человечество к высшему благу, т. е. о благом промысле. Проповедь Хонэна своим успехом обязана положению: спастись может всякий человек, кто бы он ни был; войти в обитель Чистой земли могут «бедняки и труженики, глупцы и невежды»; в деле спасения «все люди равны». В этих словах заключалась такая сила, которая побудила даже Ёримитцу, далеко не «бедняка и труженика», знатнейшего вельможу Фудзивара Ёримити назвать построенный им монастырь Бёдоин «Монастырь (всеобщего) равенства». Наибольшее значение для судьбы учения имела приверженность к нему буси, т. е. тех, кто тогда был наиболее активным двигателем общественно-исторического процесса и кто тогда еще сливался с народной массой.
Новый буддизм, установившийся в Японии в XII—XIII вв., в рыцарскую эпоху японского Средневековья, был новым и по своему общественному результату: его теоретики Хонэн и Синран сделали веру самостоятельной силой общественной жизни; перенесли религию в низы, т. е. создали для нее прочную общественную почву; способствовали освобождению верований от примитивных представлений о чародействе, магии, чем повысили духовный уровень своего общества.
Хонэн и Синран мораль оставили в руках самого человека, а она уже была определена основным законом общественных отношений той эпохи – законом верности долгу. Выше уже было пояснено, что тогда верность отнюдь не означала то, что в это понятие вложили позднее, – верность вассала своему сеньору, а еще позднее – верноподданность; тогда верность означала неукоснительное исполнение своего долга как вассалом, так и сеньором. История японского рыцарства этих веков демонстрирует картину силы религиозных идей и в то же время причудливую смесь подлинно героических поступков, требующих высокой доблести, и чудовищных злодейств, жестокостей, предательств, измен.
Буддизм дал привычную, удобную и, что особенно важно, яркую оболочку идее, рожденной жизнью, историей. Одну оболочку для нее создали Хонэн и Синран; другую – Нитирэн (1222—1282), младший по времени, крупнейший деятель японского буддизма XII—XIII вв. Когда он родился, Хонэна уже не было в живых; Синран был его старшим современником. Первые двое считаются главными деятелями учения Дзёдосю, Нитирэн стал основателем новой секты. Ее называют Хоккэсю (Учением о Цветке Закона), но чаще – Нитирэнсю (Учение Нитирэна).
Нитирэн, как и оба его предшественника, находился во власти эсхатологических настроений, возникающих под влиянием пророчества о наступлении эры «Конца Закона». Перед ним стоял тот же роковой вопрос, что же в пору разливающегося повсюду моря зла делать тонущему в его пучине простому человеку, «такому, как я», как выразился Нитирэн. Хонэн отвечал на этот вопрос кратко: «Произносить Наму Амида буцу и ждать возрождения в Раю». Синран говорил в общем то же, только немного иначе: «Верить в Великий обет Светоносного и надеяться!» Ответ Нитирэна как будто отличался только тем, что он предложил другую формулу: «Поклоняюсь сутре Цветка Лотоса Дивного Закона». Иначе говоря, заменил обращение к Амитабхе обращением к одной определенной сутре. На этом и основано наименование его секты Хоккэсю – по названию сутры «Хоккэкё». Главное, что его занимало, была мысль, что «Будда явился в этот мир не ради людей своего времени, а ради людей всех трех эр – «Правильного Закона», «Подобия Закона», «Конца Закона», т. е. ради людей начала «Конца Закона», таких, как я». Тут звучит голос человека, для которого его эпоха была – все. Нитирэн, конечно, упоминает о всех трех эрах, но это необходимая дань доктрине. Мысль Нитирэна была направлена на современность, а тем самым – на реальную жизнь, на свое общество, свое государство.
Но если это так, из перенесения внимания на современность в ее реальном содержании само собою вытекает забота о ней. Хонэн и Синран отделили религию не только от государственной власти, но и от государства, все перенеся на человека. Нитирэн вернул буддизму заботу и об обществе, и о государстве. Хонэн и Синран увели религию в духовный мир человеческой природы – Нитирэн вернул ее к житейской действительности и обрушился на ее непорядки. Хорошо известны его нападки на правителей того времени, критика их действий, а в 1260 г. он даже подал Ходзё Токиёри, сиккэну (держателю власти, т. е. главному лицу в правительстве), целый трактат – «Риссэйанкоку рон» («Об установлении правильного устройства и введении спокойствия в государстве»).








