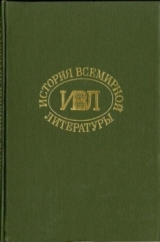
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 109 страниц)
Миру Калисто и Мелибеи противостоит мир Селестины, мир городских низов, продажных и развращенных слуг, девиц легкого поведения и их титулованных клиентов. Все контрастно в этих двух мирах. В одном царят возвышенные чувства и благородство, в другом – пороки и обман; одухотворенной, хотя и вполне земной любви юных героев противостоит грубая похоть; бескорыстию одних – алчность других. Точно так же и возвышенные, отмеченные искренней патетикой и чуть-чуть риторические речи Калисто и Мелибеи сменяются простонародными, красочными и пересыпанными поговорками речами Селестины и слуг.
Рассказы Селестины о своей жизни, ее поучения, история отношений между ее девицами и их клиентами – все это расширяет поле наблюдений автора, уводя его далеко за пределы городского дна. Оказывается, что царящие здесь законы корысти – общая закономерность, определяющая поведение и господ, и нищих, и благочестивых священнослужителей, и преследуемых инквизицией колдуний. Над этим обществом властвует идол богатства. «Деньги могут все: раздробить скалы, пройти по реке, точно посуху», – заявляет Селестина. И из кладовой памяти она извлекает сотню подтверждающих это примеров. Так объектами сатирических выпадов автора становятся циничные дворяне, сластолюбивые и лицемерные священники, сама святейшая инквизиция, а роман Рохаса вырастает в социально-обличительный памфлет.
В центре книги, связывая между собой оба изображенных в ней мира и держа в руках нити интриги, стоит образ Селестины, имя которой стало нарицательным в Испании для обозначения сводни. Это образ многогранный. В ней есть и алчность, и цинизм, и хищный эгоизм. Вместе с тем она наделена проницательным умом, незаурядным хитроумием, бьющей через край энергией и даже, если угодно, чувством профессиональной «чести». Селестина отлично знает людей, умеет с первого взгляда разглядеть их достоинства и пороки, найти уязвимые места. Она по-своему мудра, и нельзя ее одну винить в том, что ее наблюдения над людьми, подтверждающие неизменно мысль о всевластии денег, односторонни, просто Селестина – плоть от плоти того общества, в котором она живет.
Роман-драма Рохаса – один из наиболее значительных образцов ренессансного искусства Испании. Реалистическая обрисовка действительности и трактовка характеров, богатый оттенками язык, смелость мысли – все это обеспечило книге редкий успех. Только в XVI в. она выдержала 66 изданий и была переведена на несколько европейских языков. Появилось также множество продолжений, подражаний, инсценировок романа. «Селестина» оказала огромное влияние на дальнейшее развитие испанской прозы, указав две сферы действительности, «высокую» и «низкую», которые могут стать предметом художественного исследования в романе, зафиксировав соответствующие этим двум сферам способы изображения – «идеальный» и «реальный», дав образцы соответственных стилей речи – возвышенно-риторического и просторечного. Как бы предрекая дальнейшее разъединение этих двух планов изображаемой действительности в последующей практике испанских прозаиков-гуманистов, «Селестина» вместе с тем обнаруживала и тенденцию к синтезу «высоких» и «низких» жанров прозы, тенденцию, блестяще реализованную в прозе романом Сервантеса «Дон Кихот». Несомненно также влияние «Селестины» и на развитие национальной драмы.
До конца XV в. театр в Испании, как и в других странах Западной Европы, развивался в двух направлениях: с одной стороны, получило развитие религиозно-мистериальное действо, а с другой – народно-комическое фарсовое представление. Однако в Испании оба эти направления отличались необычайной устойчивостью и существовали на протяжении всей эпохи Возрождения. При этом литургическая драма постепенно трансформировалась в «ауто сакраменталь» – пьесу аллегорического содержания, посвященную пропаганде различных религиозных истин, или в драмы о житиях святых (comedias de santos), причем в эти последние усиленно проникает светский фарсовый элемент, концентрирующийся преимущественно вокруг фигуры «шута».
Ренессансная драматургия в Испании обращается к национальной традиции, как народной фарсовой, так и религиозной, стремясь соединить ее с принципами учено-гуманистического театра, уже сложившегося в Италии. Однако на первых порах эти разнородные элементы еще не давали органического синтеза.
«Патриархом испанского театра» издавна был провозглашен Хуан дель Энсина (1469—1534), автор первых пьес светского содержания в Испании. Ранние его пьесы были посвящены преимущественно религиозным темам; к этому же времени относится «Действо о потасовке», повествующее о проделках саламанкских студентов. Уже здесь звучат жизнеутверждающие ренессансные мотивы, еще более отчетливые в поздних пьесах – «Эклоге о Пласиде и Виториано», «Эклоге о Кристине и Фебее» и других, написанных после переезда Энсины в Рим (1510). Большинство этих пьес свидетельствует о знакомстве Энсины с итальянским учено-гуманистическим театром и представляет собой светские пасторали, славящие любовь, красоту, земные радости. Драматическая техника в этих пьесах несколько усложняется, оставаясь все еще весьма примитивной.
Творчество Энсины и ближайших его последователей – Лукаса Фернандеса, Фернана Лопеса де Янгуаса и др. – первый шаг в становлении испанской ренессансной драмы. Они создали ранние образцы светских драматических произведений, определив основные направления развития театра Возрождения. С творчеством Энсины близко соприкасается драматургия португальца Жила (по-исп. – Хиля) Висенте, писавшего свои пьесы как по-португальски, так и по-испански и насытившего их более резким, чем у Энсины, социально-критическим и демократическим смыслом.
Новым шагом в создании национального театра стала деятельность Бартоломе де Торреса Наарро (ум. ок. 1530). В 1517 г. в Риме, где тогда проживал Торрес Нааро, вышел сборник его произведений «Пропалладия», включавший также восемь его комедий. В предисловии Торрес Наарро излагает свои взгляды на пути развития испанской драмы. Приняв некоторые теоретические принципы итальянского «ученого» театра и античных поэтик, в основных положениях драматургической теории он вполне оригинален. Так, он отказывается от деления драматических жанров на «высокие» и «низкие» и предлагает собственный принцип жанрового различения пьес по стилевым признакам, выделяя «бытовую комедию» и «комедию вымысла». Под первой из них он понимает комедию о хорошо известных и наблюдаемых в жизни вещах, а под второй – комедию на фантастический или вымышленный сюжет. Тем самым Торрес Наарро как бы узаконивал существовавшие уже в светском театре Испании жанры бытового народного фарса и «ученого» театра. К числу «бытовых» драматург относит свои сатирические сценки из быта солдат-наемников («Солдатня») и кардинальской челяди («В людской»).
Среди «комедий вымысла» у Торреса Наарро есть одна – «Хасинто», в которой герои попадают в замок прекрасной волшебницы Дивины. Остальные скорее можно было бы назвать «новеллистическими»; в них речь идет о вполне правдоподобных, хотя и выдуманных автором приключениях героев. В лучшей своей комедии – «Именео» («Гименей») – Наарро не только создает развитую и сложную интригу, ставя в центр ее тему любви и чести, но и обрисовывает с достаточной полнотой характеры персонажей. Он смело сочетает возвышенное и смешное, введя, в частности, впервые в испанском театре излюбленный позднее пррием пародирования слугами поведения господ. В «Именео» уже нетрудно различить контуры будущей «комедии плаща и шпаги». Но, живя за пределами родины, Торрес Наарро был оторван от театральной практики Испании, и пьесы его так и не увидели сцены.
Подлинную историю ренессансного испанского театра открывает замечательный актер, руководитель бродячей театральной труппы и драматург Лопе де Руэда (1510—1565). По содержанию и художественным приемам комедии Руэды – «Эуфемия», «Обманутые» и др. – это попытка объединить в одно целое учено-гуманистическую драму итальянского типа с народно-комическими фарсовыми сценками. Органического единства этих разнородных элементов Руэде добиться, однако, не удалось, и издатель пьес Руэды Хуан Тимонеда выделил эти сценки, назвав их paso (букв. «шаг», здесь – «вставка»).
В этих «пасо» комического, а иногда и сатирического содержания Руэда вывел яркие характеры людей из народа – ловких слуг, простоватых крестьян, веселых и дерзких бродяг-плутов, беззаботных солдат, наделив их сочной народной речью, обильно расцвеченной пословицами. Будучи самой ценной частью драматургического наследия Руэды, «пасо» обнаруживают вместе с тем и недостатки его театра: сравнительную узость проблематики, «бытовизм», воспроизведение забавных, но не всегда общественно значимых мелочей быта.
Сами комедии Руэды, хотя и менее национально самобытны, чем пасо, тоже сыграли значительную роль в становлении национальной драмы, пролагая путь на испанскую сцену любовной комедии с более или менее запутанной интригой, с большим числом действующих лиц разного общественного состояния. В законченном виде эта комедия сложилась, однако, лишь в конце XVI в.
ПОЭЗИЯ ЗРЕЛОГО И ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Во второй половине XVI в. испанские поэты развивают традиции Гарсиласо де ла Веги в двух направлениях. Первое – восприняло у Гарсиласо стремление к артистизму формы, тщательной отделке стиха, второе – продолжило и углубило преимущественно пасторально-идиллические мотивы его поэзии. Обычно эти направления называют «севильской» и «саламанкской» школами, ибо крупнейшие их представители – Эррера и Луис де Леон – творили соответственно в Севилье и Саламанке, значительных центрах тогдашней культурной жизни.
Фернандо де Эррера (1534—1597) смолоду принял духовный сан. Поэтическое творчество его еще при жизни получило такую признательность, что он заслужил прозвище «божественного». Сам Эррера причислял себя к школе Гарсиласо де ла Веги. Но в «Примечаниях» (1580) к произведениям своего учителя Эррера подчеркивал главным образом изысканность его поэтической формы и формулировал требование создания поэзии, рассчитанной на избранного читателя, поэзии музыкальной и насыщенной тропами. Это недоверие к красоте природы и призыв украшать ее с помощью искусства свидетельствовали о том, что в поэтике зрелого Возрождения, представленной Эррерой, уже намечается кризис ренессансных идеалов. Можно сказать, что в теории поэтического творчества, как и в своей поэтической практике, Эррера представляет маньеризм в испанской поэзии.
В любовной лирике Эрреры, посвященной воспеванию платонического чувства к графине Хельвес, маньеризм обнаруживается в экзальтации чувств, эмоциональном перенапряжении, мистическом поиске слияния души поэта с душой любимой женщины. Звучные эпитеты, торжественно-риторический тон, обилие мифологических и библейских реминисценций характерны также для гражданской лирики Эрреры. «Песнь на победу при Лепанто» (1571), «Песнь дону Хуану Австрийскому» (1571), «Песнь о гибели короля дона Себастьяна» (1578) и др. – великолепные образцы героической оды – жанра, в котором Эррера был непревзойденным мастером и оказал большое влияние на последующие поколения поэтов. Однако у иных учеников Эрреры торжественность переходит в напыщенность, величественность – в высокопарность, а забота об отшлифованности стиха – в стремление к нарочито усложненной образности, нагромождению риторических фигур, близких к «культизму».
Иным и по тематике, и по характеру мастерства было творчество Луиса де Леона (1527—1591). Монах монастыря августинцев в Саламанке, Л. де Леон был одновременно профессором местного университета. По доносу одного из университетских схоластов Луис де Леон в 1572 г. был брошен в тюрьму инквизиции и обвинен в критике текста Вульгаты, в переводе на испанский язык «Песни песней» и в других «прегрешениях». Почти пять лет он провел в застенке, и лишь в конце 1576 г. с него было снято обвинение в ереси и он вернулся к преподаванию.
При жизни Луис де Леон напечатал несколько богословских трактатов и моралистическое сочинение «Совершенная супруга» (1583). Поэтические же произведения, имевшие хождение в списках, он подготовил к печати незадолго до смерти, но опубликованы они были лишь в 1631 г. Кеведо. Автор разделил их на оригинальные, переводы латинских авторов, преимущественно Горация, и поэтические парафразы библейских текстов. Наибольший интерес, естественно, представляют собственные сочинения Луиса де Леона, хотя и как переводчик он обнаружил незаурядное мастерство. Луис де Леон сочетал глубокую религиозность с новыми, ренессансными идеалами. Его критический ум позволяет ему подвергнуть беспощадной критике господствующую в обществе ложь и тягу к золоту, обличить пустое тщеславие придворных. Так, например, в оде «Об алчности», написанной, по-видимому, в середине 1560 г., он с презрением отвергает богатство как силу,
нарушающую гармонию в обществе и в человеческой душе. Ту же тему поэт развивает много лет спустя в оде «Об умеренном и постоянном». На этот раз богатство рассматривается не только как сила, нарушающая душевный покой, но и как источник пороков – жажды власти, раболепства. Золото порабощает человека, лишая его самого драгоценного дара – свободы. Дисгармоническому обществу, в котором господствуют низкие вожделения и страсти, Луис де Леон противопоставляет гармонического человека. В разные периоды своей жизни поэт по-разному представлял себе этот идеал, но неизменно ренессансный идеал человека, живущего полнокровной жизнью, корректируется у Луиса де Леона неостоической философией. Поначалу (в оде «Об алчности») идеальный образ для поэта ассоциируется с образом мудреца, который с эпикурейским спокойствием способен взирать на страстишки людей. Позднее в оде, написанной, видимо, вскоре после освобождения из тюрьмы, звучат мотивы героического стоицизма, воздержания от опасных для душевного покоя земных радостей. Уже здесь, впрочем, поэт намечает в качестве конечной цели единение с богом, заявляя, однако, что счастье приобщения к божеству заключается прежде всего в том, что оно дает ключи к постижению разумом прошлого и настоящего, к познанию тайны природы.
Так в творчестве Луиса де Леона получают отражение характерные для позднего Возрождения разочарование в возможности созидания гармонического, отвечающего идеалам гуманизма общества и иллюзорная надежда на достижимость идеала гармонической личности. Эти иллюзии в сознании поэта связаны с пониманием природы как воплощения гуманистической утопии «золотого века». При этом в зрелом творчестве Луиса де Леона сопоставление гармонии природы с дисгармоничным обществом контрастно заострено. Яркое свидетельство этого – ода «Блаженна жизнь...», вольная обработка одной из од Горация. Испанский поэт отвергает «великую гордыню» тех, кто живет в «дворцах позолоченных». Уподобляя себя потрепанному бурями кораблю, поэт ищет успокоения в своем скромном саду, посреди деревьев и цветов. Далее следует удивительно пластичная картина сельской природы. Однако едва в памяти поэта всплывают картины, напоминающие о мире, как возникает образ бурного моря, аллегории общества. Луис де Леон резкими мазками рисует разбушевавшуюся стихию, поглощающую груженные золотом корабли. Завершается ода прославлением скромных радостей, доступных лишь человеку, живущему в сельском уединении. Луис де Леон остановился на пороге пантеистического мироощущения. В слиянии с природой он видит высшую ступень достижимой в земной жизни гармонии, но он убежден, что есть еще более высокая ступень гармонии – созерцание душой божества. Эту мысль поэт проводит в «Оде Франсиско Салинасу», обращенной к слепому саламанкскому музыканту. Выражая восхищение музыкой друга, Луис де Леон пишет, что ее звуки позволяют душе человека возвыситься над миром, в котором «слепая чернь обожает лишь золото», подняться туда, где звучит музыка небесных сфер. В этой оде де Леон вплотную – чуть ли не единственный раз в своей поэзии – подходит к идеалам писателей-мистиков.
Испанский мистицизм XVI в. – явление сложное. В нем переплетаются гуманистические и религиозные идеалы. На взгляды и художественную практику испанских мистиков большое воздействие оказали идеи неоплатонизма, в частности «Диалоги о любви» Леона Еврея. Леон Еврей разделял любовь на «сладострастную», «полезную» и «чистую». Любовь – это «добровольно выраженное стремление насладиться слиянием с тем, что почитается за благо». «Сладострастная» любовь опирается на ощущения, «полезная» – на разум, «чистая» находит истоки в душе. Силой любви божество породило материальный мир, силою любви этот мир воссоединяется с божеством. Человек, как существо разумное, является посредником между материальным миром и миром «духовных сущностей», ибо любовь и влечение всего сущего к божеству концентрируются в человеке.
В многочисленных трактатах испанских мистиков – «Наставление грешников» (1556) и «Символ веры» (1582) Луиса де Гранады (1504—1588), «Триумфы божественной любви» (1589) Хуана де лос А́нхелес (1536—1609), «О божественной любви» (1592) Кристо́баля де Фонсеки (1550—1621) и в художественных произведениях Хуана де ла Круса (1542—1591), Луиса де Гранады, Тересы де Хесу́с (1515—1582) – выдвигаются на первый план те аспекты учения неоплатоников, в которых речь идет о «слиянии» с божеством через экстатическую любовь.
Многие авторы по-разному трактуют эту проблему. Однако общим для мистических учений XVI в. является понимание любви как единения с высшей божественной красотой. Мир земной красоты, прежде всего природа, «оправдывается» постольку, поскольку в ней видят следы красоты «божественной». Конечно, это сужает и ограничивает ви́дение мира, но мистика по-своему соответствовала индивидуалистическим устремлениям Ренессанса. Хотя большинство писателей-мистиков не порывали с католицизмом, в их проповеди слияния индивидуальной души непосредственно с богом было нечто общее с идеями протестантизма. Не случайно церковные власти с подозрительностью относились к деятельности мистиков; Хуан де ла Крус провел несколько лет в заключении в монастыре, а произведения Тересы де Хесус запрещались. Конечно, связь мистиков с Ренессансом была односторонней, а индивидуалистические устремления мистиков во многом противостоят ренессансному гуманизму и требованию познания окружающего мира. Однако в исследовании психологии человека их искания остаются в сфере ренессансной мысли. По глубине психологического анализа мало кто в литературе той эпохи мог сравниться с Хуаном де ла Крусом или Тересой де Хесус. К тому же для выражения «божественной» красоты поэты-мистики обращались к миру природы и человеческих чувств как символу и образу высшей сущности. Отсюда удивительные по силе пейзажные зарисовки и та особая лирическая взволнованность, которой пронизаны поэтические творения Хуана де ла Круса, крупнейшего поэта мистической школы.
Хуан де Йепес, после пострижения в монахи назвавшийся Хуаном де ла Крусом, был сыном портного, служил братом милосердия в госпитале Медины дель Кампо, а затем вступил в монашеский орден. Он обучался в Саламанкском университете. По причинам, не вполне ясным, Хуан де ла Крус был взят церковным начальством под арест, причем, по одному свидетельству, накануне ареста он успел уничтожить «множество бумаг, которые содержали нечто секретное». Около года он находился в заключении в монастыре Кармелитов Обутых в Толедо, а в августе 1578 г. бежал оттуда и нашел убежище в монастыре Кармелитов Босоногих. В заключении Хуан де ла Крус начал создавать свои поэтические произведения, которые были опубликованы в последующие годы, – «Духовная кантата», «Темная ночь», «Живое пламя любви», «Пастушок» и др.
Источники его поэзии – это пасторали Гарсиласо де ла Веги, испанская любовная лирика романсеро и кансьонеро, библейская «Песнь песней». Отправляясь от светских источников, поэт наполняет привычные образы аллегорическим содержанием, как это было характерно и для средневекового искусства. Так, например, дерево становится древом распятия, источник истолковывается как аллегория веры, ветерок оказывается дуновением святого духа. Истолкование светской поэзии в религиозном духе встречалось в испанской культуре и ранее. В 1575 г., например, некий Себастьян де Ко́рдова опубликовал томик стихов под названием «Произведения Боскана и Гарсиласо, приведенные к материям христианским и религиозным». В этом сборнике светские стихи основателей «итальянской школы», приобретшие широкую популярность, переиначены так, чтобы вытравить их языческую направленность и придать им благочестивый смысл. Хуан де ла Крус был знаком со сборником Кордовы, но ремесленная переделка не могла удовлетворить его. Религиозный, мистический смысл его стихотворений вытекает не из обработки тех или иных образов, а из общего контекста стихотворений. При этом, однако, сам Хуан де ла Крус опасался, что мистический смысл мог ускользнуть от читателя, и печатное издание своих стихотворений снабдил обширным прозаическим комментарием.
Тема стихотворений Хуана де ла Круса – любовь души к Иисусу Христу, который выступает в этих стихах под именами «Возлюбленного» или «Супруга». Страстный порыв души к богу приобретает столь чувственные формы, что иногда производит впечатление эротической поэзии, по силе страсти не уступающей «Песни песней». В одном из известнейших стихотворений поэта-мистика «Темная ночь» читатель встречает страстно любящую женщину («душа»), для которой беспросветная ночь не преграда, ибо ее сжигает пламя страсти. Любовь обостряет ее зрение, и она ощущает красоту тропинки, красоту ночи, ведущей ее к соединению с супругом (Иисусом). Последние строфы с удивительной силой передают счастье изведанной любви, момент, когда неистовство страсти сменяется ощущением блаженного покоя и нежности.
Глубина человеческого чувства, тонкое ощущение красоты природы, переданные кристально ясным языком, наиболее привлекательны в религиозной поэзии Хуана де ла Круса, как и во многом близкой ему Тересы де Хесус.
С середины XVI в. в Испании получает большой размах эпическая поэзия. Интерес к эпическому жанру связан с потрясениями и переменами в стране, с войнами, которые вела она в Новом и Старом Свете и которые воспринимались многими испанцами того времени как проявление мужества, стойкости и героизма нации.
Большинство эпических поэм, посвященных событиям недавней истории – войнам, которые вел Карл V в Европе («Каролея», 1560, Херонимо де Семпере и др.), или завоеванию испанцами Нового Света («Храбрый Кортес», 1588, Габриэля Ласо де ла Веги и др.), лишены поэтической глубины. Но большой художественной ценностью обладает «Араукана» Алонсо де Эрсильи и Су́ньиги (1533—1594). Придворный короля Филиппа II, он в 1554 г. был отправлен в Чили в составе войск для подавления восстания индейцев племени арауканов. Уже здесь, в перерыве между боями, Эрсилья начал записывать свою поэму. Первые ее 15 песен, содержащие описание сражений между испанцами и арауканами, были вчерне завершены к 1562 г., когда он вернулся на родину. Первая часть поэмы была опубликована в 1569 г.; в 1578 и 1589 гг. к ней были присоединены еще две части, а общее число песен достигло 37 (см. также гл. о литературах Латинской Америки).
Поэт хотел воспеть подвиги испанцев, видя в завоевании Америки проявление великих сил родного народа, несущего новым странам свет «цивилизации» и «истинной веры». Эрсилья в данном случае разделял заблуждения своих современников, исторически оправданные эпохой, когда люди, по выражению Ф. Энгельса, были «овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 346). Вместе с тем мужественное сопротивление небольшого индейского племени превосходящим силам испанцев пробуждает в Эрсилье большое уважение, даже восхищение, и поэма в некотором смысле становится апофеозом героического индейца.
Поэт описывает не только сражения, но и нравы туземцев, окружающую их природу. Индейцы в поэме похожи на античных героев, их вожди произносят речи, составленные по законам античной риторики. В то же время поэт реально обрисовывает могучие и сильные характеры Кауполикана и других индейских воинов. В последующих частях поэмы появляются многочисленные вставные эпизоды, часто фантастического характера либо перебрасывающие мостик к событиям современности.
Описанию Нового Света посвятил одну из своих поэм и Бернардо де Вальбуэна (1568—1627). Родившийся в Испании, Вальбуэна в юности приехал в Мексику и лишь в 1607 г. вернулся на родину, да и то ненадолго. С 1608 г. до самой смерти он занимал высокие церковные должности на Ямайке и Пуэрто-Рико. Наблюдениям над природой и бытом Мексики и посвящена поэма «Величие Мексики» (1604).
Творчество Эрсильи и Вальбуэны оказало сильное воздействие на формирование литературы латиноамериканских народов и более подробно анализируется в соответствующей главе. Тематическую широту и многообразие форм эпической поэзии Испании демонстрирует Лопе де Вега. Ему же принадлежит одна из самых удавшихся попыток синтезировать «высокую» и «низовую» традиции литературы, причем осуществляет он эту попытку и в драматургии, и в прозе («Доротея»), и в лирической поэзии, где он трансформирует и обогащает завоеваниями «ученой» поэзии традиционный жанр народной поэзии – романс (о творчестве Лопе де Веги см. ниже). Впрочем, и в отношении романса реформа Лопе была подготовлена его предшественниками: в XVI в. жанр романса приобрел всеобщее признание, о чем свидетельствуют и сборники романсов, регулярно появляющиеся с середины XVI в. Таковы, например, «Кансьонеро романсов» (1548), 4 части «Розы романсов» (1573), изданные Хуаном Тимонедой, и, наконец, «Всеобщий романсеро», выходивший в 1600, 1604 и 1605 гг. и включивший множество анонимных романсов и стихотворений, сочиненных известными поэтами XVI – начала XVII в. Романс, как и некоторые другие народные поэтические жанры, прочно входит в арсенал поэтических форм ренессансных поэтов, а затем – в трансформированном виде – и в поэзию барокко.








