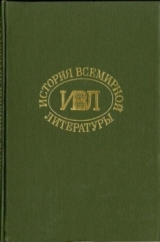
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 109 страниц)
6.ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ
Гуманисты-неоплатоники иногда писали стихи: Ландино составил сборник латинских элегий «Ксандра», Пико сочинял изящные сонеты на народном языке. Однако лицо флорентийской и всей итальянской поэзии второй половины XV в. определили все-таки не философы и не филологи, а такие поэты, как Луиджи Пульчи, Анджело Полициано и Лоренцо Медичи. Творчество Лоренцо стало как бы соединяющим звеном между Пульчи и Полициано, а также между гуманистическим неоплатонизмом Академии Фичино и ренессансной поэзией на народном языке, переживавшей во Флоренции последней трети XV в. пору своего второго расцвета.
Лоренцо де’Медичи, прозванный Великолепным (1449—1492), несомненно, самый умный и выдающийся государь своего времени, был превосходным поэтом. Такое сочетание кажется необычным даже для эпохи Возрождения с ее многосторонними натурами. Оно поражало уже современников. «В нем жили два разных человека, соединенные почти невозможной связью», – писал Макиавелли. Ренессансная гармония существовала внутри поэтического мира Лоренцо, но внутренней связи между лирическим поэтом и правителем Флоренции, который учинил разгром Вольтерры и жестоко расправился с участниками заговора Пацци, естественно, быть не могло. Политика вступила у Лоренцо в непримиримое противоречие с его поэтическими произведениями. Но именно это противоречие и сделало его творчество явлением в литературе Кваттроченто не только очень характерным, но и весьма существенным.
Культурная политика Лоренцо была хорошо продумана. Его сочувственное отношение к Академии было отношением к ней главы государства, заинтересованного в распространении среди интеллигенции философии, которая это государство по крайней мере не подрывала. Интересами политики было продиктовано его внимание к карнавалам, народным увеселениям и праздникам. «Его целью, – писал Макиавелли, – было поддержание благосостояния города, единства народа и чести нобилей».
По образованию и эстетическим идеалам Лоренцо мог бы считаться типичным гуманистом второго периода Кваттроченто, вобравшим в себя многое из народной культуры Флоренции. Как писатель он сформировался под влиянием Фичино, Аргиропуло, Ландино, а также Луиджи Пульчи, превосходного знатока вольгаре, убежденного антиплатоника и, видимо, даже атеиста. В стремлении сделать народный язык языком новой итальянской литературы Лоренцо пошел дальше Альберти. Вторгшись в самую гущу городского фольклора, он смело экспериментировал с просторечиями и с самыми различными народными формами, ритмами и жанрами. Отсюда разностилие его творчества. Далеко не все поэтические эксперименты Лоренцо оказались удачными. Многие его произведения лишены единства, но это были поиски, которые вели к художественным завоеваниям Полициано, Боярдо, Саннадзаро.
В первый период (1473—1477) творчества Лоренцо Медичи произведения, восходящие к петраркистски-неоплатонической традиции (поэма «Спор», шуточные капитоли в терцинах, любовные сонеты), и сочинения, опирающиеся на фольклорную традицию («Ненча из Барберино», «Пир», «Соколиная охота»), образуют две как бы параллельные линии. Менее оригинальна первая из них. В поэме «Спор» Лоренцо, например, просто проиллюстрировал некоторые положения «Платоновской теологии» Фичино. Интереснее произведения, изображающие повседневную жизнь Флоренции. В них Лоренцо близок народной поэзии с ее наивным реализмом деталей. В этом смысле показательна небольшая поэма в октавах «Ненча из Барберино», возможно являющаяся обработкой народного произведения. Поэма написана от лица простодушного крестьянина Валлеры, описывающего достоинства Ненчи. Однако за Валлерой все время ощущается рафинированный Лоренцо, посмеивающийся над любовью грубоватого парня и его чрезмерно материальным пониманием красоты. Поэма комична, однако комизм в ней не переходит в карикатурность, и образ крестьянина, хотя он и подан иронически, остается жизненным. Менее выразительны «Соколиная охота» и «Пир, или Пьяницы». Поэмы эти описательны. Они распадаются на отдельные комические сцены и портреты В «Пире» комизм усиливается пародийным параллелизмом с «Триумфами» Петрарки и «Комедией» Данте, а также с неоплатоническими теориями любви. «Божественное неистовство» неоплатоников сопоставляется в поэме Лоренцо с опьянением изображенным как всеобщее состояние мира.

Л. Медичи. «Канцона для танца»
Титульный лист флорентийского издания. 1533 г.
К народно-реалистическим произведениям Лоренцо примыкает «Новелла о Джакоппо», написанная в стилистической традиции «Декамерона». В ней изображен придурковатый горожанин, который, будучи одурачен священником Антонио, умоляет жену отдаться любовнику. Новелла резко антиклерикальна: глупость Джакоппо – прямое следствие его слепой веры, а священник Антонио изображен в крайне неприглядном свете. Фабула новеллы Лоренцо, видимо, оказала воздействие на «Мандрагору» Макиавелли.
Зрелый период (1477—1492) творчества Лоренцо характеризуется главным образом эклогами в терцинах («Аполлон и Пан», «Коринто») и поэмами в октавах («Амбра» и «Леса любви»). Он открывается книгой стихов «Комментарий к некоторым моим сонетам», законченной около 1481 г. В этой книге Лоренцо вдохновлялся опытом Петрарки и «стильновистов». По своей внешней структуре книга напоминает «Новую жизнь», но лишена цельности дантовского «романа». Прозаический комментарий ограничивается истолкованием лирических ситуаций в духе неоплатонизма Фичино. В стихотворениях, обрамленных «Комментарием», Лоренцо отошел от реалистичности своих ранних комических произведений и погрузился в спиритуалистический мир вечной любви, трактуемый как путь к достижению совершенства.
Пытаясь соединить линии, которые до этого шли в его творчестве параллельно, Лоренцо создал мифологические эклоги. В их образах и ситуациях сквозь призму неоплатонических концепций преломлялась красота реальной природы в ее народно-поэтическом восприятии. Поэтому мифологизм Лоренцо даже в тех случаях, когда он прямо восходил к Овидию, не превращался в литературную условность, а функционировал как исторически новая, типично ренессансная форма отображения действительности. Здесь Лоренцо оказывался близок не только Полициано, но и Боттичелли и другим великим художникам Кваттроченто.
Безмятежное, ясное изображение природы почти всегда сопровождается у Лоренцо Медичи напоминаниями о скоротечности жизни. Отсюда, с одной стороны, прославление чувственных наслаждений, а с другой – уход в мир вечной красоты и гармонии, описание которого, однако, строится на материале земной природы (изображение золотого века в «Лесе любви»). В поэзии зрелого Лоренцо отразилось не только стремление к гармонии между человеком и природой, но и ощущение недостижимости этой гармонии.
В конце творчества Лоренцо не отказался от традиционно народных жанров. В последние годы жизни он написал много лауд, плясовых и карнавальных песен, в их числе «Триумф Вакха и Ариадны», и «Священное представление о св. Иоанне и Павле» (1491), построенное по драматургической схеме, разработанной Фео Белькари. Однако и во всех этих произведениях традиционные формы не подавляли ренессансной индивидуальности поэта – неоплатоника, вольнодумца и реального политика. Празднично-стремительный «Триумф Вакха и Ариадны» был пронизан меланхолическим гедонизмом, а «Представление о св. Иоанне и Павле» содержало прославление либерального монарха (монолог императора Юлиана Отступника), каким Лоренцо, по-видимому, хотелось выглядеть в глазах флорентийского народа.
7.АНДЖЕЛО ПОЛИЦИАНО
Анджело Амброджини (1454—1494) родился в Тоскане в Монтепульчано; латинизированное название города дало ему псевдоним – Полициано. Для гуманистов XV в. биография Полициано типична. Род Амброджини был обычным купеческим родом, однако отец поэта, юрист, принадлежал уже к новой интеллигенции. В 1464 г., после смерти отца, который не оставил ему ни денег, ни связей, мальчик перебрался во Флоренцию, где ревностно изучал латинских, а затем и греческих классиков. Наступила эпоха, когда поэтический дар и талант филолога значили больше, чем знатное имя и кредит у банкиров. В 1469—1474 гг. Полициано посещал университет (Студио), где слушал лекции Иоанна Аргиропуло, Кристофоро Ландино, Андроника Каллиста. В студенческие годы Полициано приобрел феноменальное знание греческой, латинской и итальянской литературы. В это же время он сблизился с Фичино и с Платоновской Академией. Однако гораздо больше, чем Аристотель, Платон и Плотин, его занимал Гомер. Полициано, более дерзкий, чем римские классики, решил перевести «Илиаду» латинскими гексаметрами. В 1470 г. он посвятил Лоренцо Медичи перевод второй песни «Илиады», а в 1472 г. Полициано поднес Лоренцо третью песнь. Перевод первых песен «Илиады» был огромным событием в литературной жизни Италии, и гуманисты наперебой восхваляли поэтичность перевода. Тем не менее перевод остался незаконченным. После 1475 г. Полициано к поэме Гомера больше не возвращался, перейдя к александрийцам и к позднеэллинистическим писателям. Он писал стихи по-гречески и незадолго до смерти составил антологию своих греческих эпиграмм.
Перевод «Илиады» открыл перед Полициано дом Медичи: Лоренцо предоставил в его распоряжение богатейшую библиотеку и собрание античных скульптур и монет. Полициано исполнял при Лоренцо обязанности секретаря, а с 1475 г. воспитывал его сыновей Пьеро и Джованни, будущего папу Льва X.
Основные произведения Полициано созданы с 1470 по 1480 г. Это первый период его творчества. Лоренцо обратил внимание Полициано на богатейшие возможности народной поэзии. Они вместе составили «Послание Федерико Арагонскому», своего рода манифест новой поэтической школы. В 1475 г., следуя примеру Пульчи, Полициано начал работу над поэмой на народном языке, озаглавленной впоследствии «Стансы на турнир». Поэма должна была описать рыцарские подвиги брата Лоренцо, Джулиано, совершенные им на турнире (1475) во славу Симонеты Каттанео. Но 25 апреля 1475 г. Джулиано Медичи пал от руки заговорщиков. Полициано описал заговор Пацци в латинских «Записках», а поэма о Джулиано оборвалась на середине второй песни.
В 1480 г., оказавшись в Мантуе, Полициано за два дня создал для придворного празднества пьесу «Сказание об Орфее», одно из ярчайших произведений итальянского Возрождения, имевшее всеобщий успех. В августе 1480 г. поэт вернулся во Флоренцию, и ему была предоставлена кафедра греческой и латинской риторики в Студио. С этого момента начался второй период в творчестве Полициано. Он писал в это время главным образом по-латыни и по-гречески. В 1480—1494 гг. Полициано читал лекции по философии и курс об античных писателях. Лекции о Гомере имели два введения: прозаическое – «Речь, излагающая Гомера», и стихотворное – «Амбра», которое вошло в тетралогию «Леса», содержащую, помимо «Амбры», три историко-литературные поэмы: «Манто» (введение к «Буколикам» Вергилия), «Рустикус» (введение к «Георгикам» Вергилия и поэме Гесиода «Труды и дни»), «Нутриция» (философский обзор поэзии от ее зарождения до Данте, Петрарки и Лоренцо Медичи). Лекциям по философии Полициано тоже предпосылал развернутые введения, раскованные формы которых напоминали гуманистические эссе.
Но Полициано занимался не просто филологией и философией. Его сферой были studia humanitatis во всем их объеме. Подобно большинству гуманистов Кваттроченто, Полициано считал, что путь к новому человеку лежит через слово. Совершенствуя методологические принципы Салутати, Бруни, Браччолини и Лоренцо Валлы, Полициано исследовал словесность как самое непосредственное и наиболее подлинное выражение человечности человека, причем не изолированного от действительности абстрактного индивида, а человека в исторической конкретности его связей с окружающим миром, с культурой и обществом. Комментируя древних поэтов, ораторов и философов, Полициано старался восстановить породившую их античную культуру в ее истинно гуманном и, как он был убежден, подлинно актуальном содержании.
Несмотря на привязанность к дому Медичи, Полициано никогда не воспевал деяния Лоренцо. В творчестве он сознательно отстранялся от текущей политики, уже не связывая с ней никаких гуманистических иллюзий. Но аполитизм его был особым. Во второй половине XV в. Полициано освобождал поэзию от вульгарного политиканства так же решительно, как предшествовавшие ему гуманисты освобождали ее от религии. Разуверившись в доброй воле «культурных» политиков, он по-прежнему сохранял веру в цивилизаторскую миссию studia humanitatis и поэзии в собственном смысле слова. Отказываясь придать гуманистической поэзии злободневность, Полициано вкладывал в нее такое глубокое общественное содержание, что прекрасная форма приобретала у него непреходящее значение и лучше всяких отвлеченных трактатов утверждала ценность открываемого Возрождением реального мира – природы и человека. Отделять Полициано от магистральной линии развития гуманизма XIV—XV вв. не следует. С крупнейшими гуманистами Кваттроченто его роднила прежде всего концепция нового человека – свободного господина мира и собственной судьбы. Человек, согласно представлениям Полициано, богоподобен не изначально: он становится «земным богом» благодаря воздействию на «естественного человека» культуры и поэзии, превращающей индивидуалиста-дикаря в существо разумное и общественное. Поэзия была в глазах поэта-гуманиста могучим фактором в общественно-исторической эволюции человечества. Развивая в поэме «Нутриция» мысль о цивилизаторской миссии искусства, Полициано продолжал этико-политическую традицию Данте, Петрарки, Боккаччо, Салутати. Мысль эта не осталась у него на уровне идеологической абстракции: она трансформировалась в столь типичный для гуманизма Возрождения поэтический миф об Орфее.
Анджело Полициано был поэтом не флорентийским, а национальным. В его творчестве латинская и народная поэзия питали друг друга и взаимно обогащались. Они были формами выражения одной и той же новой культуры.
Среди латинских стихотворений молодого Полициано нередко попадались стихи о любви. Однако любовь не играла в его поэзии той роли, которую она играла у Петрарки и петраркистов: чувство любви у Полициано слабее, но экстенсивнее. Это связано с расширением внешнего материального мира, осваиваемого и преобразуемого ренессансной поэзией. Для Полициано любовь – прежде всего одна из возможностей увидеть окружающую человека действительности во всем его многокрасочном и благоухающем великолепии. Прекрасная дама для него почти неотделима от ликующей праздничной природы. Пример тому – юношеская «Элегия о фиалках». Поэт смотрит на букет, подаренный ему девушкой, и в его воображении нежные фиалки порождают картину, объединяющую цветы и любимую в прекрасном и вечном единстве жизни.

Доменико Гирландайо. Анджело Полициано.1483—1485 гг. Фрагмент фрески
«Утверждение папой Гонорием III устава францисканского ордена». Капелла Сассетти
в церкви Санта Тринита во Флоренции
Для ренессансного гуманиста красота бессмертна.
Но прекрасное нетленно только в искусстве. Бессмертием его наделяет поэзия мифа. В 1473 г. Полициано создал латинскую элегию «На смерть Альбьеры дельи Альбицци». Она начинается с описания встречи во Флоренции неаполитанской принцессы Элеоноры, но затем рассказ прерывается идиллической картиной природы, на фоне которой появляется Альбьера. Прекрасный человек у Полициано существует в гармоническом единстве с прекрасной природой. Единство это по-ренессансному идеально. Альбьера – реальная флорентийская девушка, умершая в июле 1473 г., но она также и нимфа. Мифологизм органически входит в поэтическое сознание Полициано. Прекрасная Альбьера погибает вследствие зависти богов. Используя свое знание древности, поэт создает новый миф, который вполне сопоставим с лучшими образцами древнеримской мифологической лирики и выполняет в элегии весьма существенную художественную функцию – он приподнимает историю болезни и смерти Альбьеры над заурядностью повседневного факта. Так же как у древних, Немесида – Рамнусия карает Альбьеру за то, что та слишком прекрасна. Но именно потому, что Альбьера прекрасна, ей не страшна смерть: «cum dulce est vivere, dulce mori est» («Когда сладка жизнь, сладка и смерть»). Здесь Полициано продолжает уже не столько античных поэтов, сколько национальную, ренессансную традицию, восходящую к Петрарке. Для Альбьеры, так же как для Лауры в «Триумфах», смерть – сладкий сон.
Произведения, написанные Полициано на итальянском, народном языке, чаще всего развивали те же темы, мотивы и настроения, что и его латинская лирика. Но в них его гуманизм стал еще поэтичнее. Именно с его произведениями на народном языке связан шаг вперед, сделанный литературой Кваттроченто в поэтическом открытии мира и человека.
Полициано пробовал вкладывать в фольклорные формы образы и мотивы античной лирики, но чаще воспроизводил поэтическую структуру тосканской песни, сохраняя ее метрическую организацию и стилистику. Вместе с тем Полициано отнюдь не копировал тосканские фроттолы, баллаты и т. д.; он как бы пропускал их темы и ситуации сквозь призму гуманистической культуры. Сохраняя верность традиционным формам народной поэзии, Полициано выявлял в них свою новую человеческую и поэтическую индивидуальность. Его принципиальное новаторство в данном случае состояло в том, что он обращался не к классической и целиком литературной традиции Треченто, как это делали поэты-петраркисты, а к устному преданию городского и сельского фольклора современной ему Флоренции. Народная поэзия XV в. питала творчество Полициано, но получив у него новую жизнь и обогатившись идеалами высокой гуманистической культуры, обретала свое художественное бессмертие.
Лучшее произведение Полициано на народном языке – «Стансы на турнир». Их метрическая форма наталкивала на мысль, будто Полициано создал эту поэму в традиции одного из жанров городской, а во Флоренции и все еще простонародной литературы, типичными образцами которого были «Джостра» Луиджи Пульчи, «Игра в мяч» Джованни Фрескобальди и «Турнир» Франческо да Фиренца. Все эти поэмы, как и «Стансы...», были написаны октавами. Но этим, пожалуй, и ограничивалась формальная зависимость «Стансов» от городского эпоса. Содержание их имело мало что общего как с итальянскими рыцарскими поэмами, так и с поэмами о турнирах. О самом турнире в «Стансах» не говорилось ни слова.
Несколько теснее «Стансы на турнир» связаны с эллинистическими и позднеримскими энкомиями Стация и особенно Клавдиана. Они немыслимы без мифологии, которая позволяет преодолеть эмпирический натурализм и прозаическую описательность городской поэзии и в то же время выводит поэму Полициано за пределы придворной литературы. В поэме мало восхвалений сильных мира сего и указаний на исторические обстоятельства и персонажи. От Джулиано Медичи, брата и соправителя Лоренцо, в «Стансах...» не осталось и следа. Он превращен в прекрасного охотника Юлио. История его любви к Симонетте – это история развивающихся на фоне радостной природы взаимоотношений богоподобных людей и человекоподобных богов. Именно мифологическая структура «Стансов...» создавала возможность для широкого развития гуманистической утопии о свободном и гармоничном человеке.
Герой «Стансов на турнир» Юлио – не первобытный дикарь и не грубый Амето. Он азартный охотник, но также человек новой культуры. Юлио – не аскет, и если он презирает того, кого «глупая чернь именует Амором», то потому, что любовь лишает человека внутренней свободы, а следовательно, и его ренессансной virtù – его «благородной природы». Разладу, который вносит в душу человека любовь, Юлио противопоставляет гармонию между внутренне свободной личностью и прекрасной природой. В поэме Полициано возникает гуманистическая идиллия. Она обладает определенным общественным содержанием: идеальное состояние Юлио мыслится как идеальное состояние всего человечества, как его «золотой век». Судьба человечества воплощена в «Стансах на турнир» в судьбе Юлио. Роль завистливой фортуны играет в них оскорбленный Купидон.
Весенним утром Юлио отправляется на охоту и встречает прекрасную девушку – нимфу Симонетту. Читатель видит ее глазами мифологизированного Юлио и способен разделить его восхищение. Симонетта тем прекраснее, что в ее красоте отражена прелесть весенней природы. Она очень напоминает Флору на картине Боттичелли «Весна». В «Стансах...» ренессансный стиль Полициано стирает противоречия между плотью и духом, одухотворяя природу и обожествляя человека. Симонетта не просто земная женщина – она божественная душа того сказочно прекрасного и вместе с тем посюстороннего мира, в котором живет Юлио. Именно она вносит в этот мир свободу и гармонию. Внезапно вспыхнувшая любовь Юлио – не одно лишь следствие козней Купидона, это естественное чувство естественного человека, вызванное в нем той прекрасной природой, частью которой он является. Встретив Симонетту, Юлио познал красоту окружающего его мира и вместе с тем осознал ее хрупкую недолговечность. Тем не менее трагического напряжения в поэме не возникает. Полициано все еще верил в нетленность прекрасного. В «Стансах на турнир» ренессансная идиллия строится как взаимоотражения преходящего минутного мира Симонетты и вечного мира Венеры, мифа и реальности. Отражаясь в мире Венеры, мир Симонетты наделяет его теплотой реальной жизни и одновременно, соприкоснувшись с мифологическим миром богини любви, обретает совершенство и бессмертие гуманистического идеала.
Когда Полициано приступил ко второй песне «Стансов...», реально историческая Симонетта Каттанео уже умерла. Вот почему во второй песне «Стансов...» тема Симонетты-нимфы переплетается с темами смерти и рока. Умершая Симонетта превращается в Фортуну, и в поэму Полициано входит одна из главных тем ренессансной литературы – тема взаимоотношений между fortuna и virtù. Решается она оптимистически. Признание могущества Фортуны не влечет за собой отрицание могущества человеческой доблести (virtù), но становится поводом для страстного прославления силы и активности внутренне свободного человека. Полициано не знает разлада между земным и небесным – между богом и человеком. В его поэтическом сознании реален только земной мир прекрасной природы, высшей ценностью которого является свободный человек, его великие возможности, ограничиваемые не фортуной, а только самим человеком. Единственный предел человеческой доблести, его virtù, кладет свободная воля другого человека – другая человеческая доблесть. Вот почему от Юлио ускользает Симонетта, а Галатея смеется над Полифемом. И вот почему конфликт человеческих воль не создает в ренессансном сознании Полициано возможности для трагедии. Даже ограничение свободы человека оказывается в глазах автора «Стансов» проявлением человеческой свободы и служит еще одним доказательством безграничного могущества человека.
«Стансы на турнир» оборвались на 368-й строчке второй песни. Но не потому, что в 1477 г. Джулиано Медичи был убит заговорщиками. При желании Полициано, конечно, сумел бы обыграть его гибель в «Стансах...», но в то время смерть героя была ему не нужна. Поэма обрывается на высокой оптимистической ноте, и в этом – ее ренессансная типичность. Однако оптимизм «Стансов...» – это уже не абсолютный, нерушимый оптимизм гуманистов первой половины XV в. Герой поэмы Полициано только выражает готовность ринуться в реально-исторический мир современной ему Флоренции, но как раз здесь-то «Стансы...» и обрываются. Мифологизированный Юлио так и не преступает художественных пределов гуманистической идиллии.
Смерть героя Полициано изобразил в «Сказании об Орфее». Эта пьеса еще теснее, чем «Стансы...», связана с народной традицией. В «Орфее» традиция народно-городской литературы Флоренции не просто маскирует поэтический эксперимент поэта-гуманиста, но входит в этот эксперимент как его структурно органическая часть. Создавая «Сказание об Орфее», Полициано сохранил даже внешние особенности флорентийского «священного представления», заменив религиозный сюжет и библейских героев античной фабулой и мифологическими персонажами. На основе средневековой мистерии была создана светская пьеса, посвященная гуманистической мечте о гармонии между свободным человеком и прекрасной природой.
Но в «Орфее» уже поколеблен гуманистический оптимизм. Полициано изображает здесь силу поэзии, изменяющей извечно установленный порядок вещей. Но именно поэзии, а не поэта. В его пьесе Орфей лишен героичности. Он не намеревается побороть судьбу, а только надеется ее разжалобить. Полицианов Орфей безвозвратно теряет Эвридику не потому, что оказался не в силах победить свою человеческую природу, а потому, что даже он бессилен перед роковой иронией фортуны. Если внутренне уравновешенный Юлио, отвергая любовь, противопоставлял ей свою гармонию с природой, то антифеминизм Орфея вызван как раз утратой этой гармонии. Орфей гибнет. Тем не менее в пьесе нет еще ни трагедии, ни трагического. Внутренний хаос, овладевающий героем, не воплощается в драматический характер и не оказывает существенного влияния на структуру произведения. Ренессансная форма остается гармоничной и идилличной. Стихи Полициано самим своим звучанием по-прежнему утверждали красоту и гармонию земного мира. Смерть героя в «Сказании об Орфее» показала лишь, что гармония эта была чрезвычайно хрупкой.
«Орфей» вызвал многочисленные подражания. Под его непосредственным влиянием родились «Сказание о Кефале» (1487) Никколо да Карреджо и «Тимон» (1497) Боярдо. Его прямыми потомками были пасторали Т. Тассо и Б. Гварини. Но идиллия Полициано пользовалась популярностью не только в верхах. Уже в XVI в. она вместе со многими балладами Полициано вернулась к тому самому народу, который дал автору «Стансов...» его язык и воображение, и до начала нашего столетия жила в итальянском фольклоре как «История об Орфее со сладкозвучной лирой».








