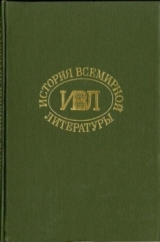
Текст книги "История всемирной литературы Т.3"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 109 страниц)
при кажущейся хаотичности, непринужденно воспроизводящей безумную пляску испанской жизни того времени, отличаются строгой внутренней организованностью.
Величайшие шедевры были созданы Сервантесом в области прозы. «Назидательные новеллы» (точнее, «Назидательные повести», 1613), отдаленно связанные с итальянской традицией (М. Банделло), считаются первыми испанскими новеллами, но при этом они стоят у истоков синтетической тенденции, характерной для романа Нового времени вообще. В них заложен тип романа, обстоятельно бытового в основе, но широко включающего приключенческий, сатирический, философский элемент. Тенденция к такому синтезу есть и в книге в целом, где довольно правильно чередуются то нравоописательно-бытовые, то любовно-героические, то философские повести. Как своего рода пролог к будущему развитию романа синтетичность прозы Сервантеса была характерным для зрелого Ренессанса явлением, свойственным также драмам Шекспира и отражающим стремление к универсальному охвату эпохи. У Сервантеса «Назидательные повести» играют примерно ту же роль, что комедии – у Шекспира. Наименование ejemplares намеренно многогранно, и оно было подхвачено многими новеллистами XVII в. Оно формально отвечало требованию Тридентского собора о «назидательности» и направляло внимание властей на благополучие и пристойность развязок, как бы заранее отводя проницательный донос Авельянеды, что повести Сервантеса «более сатиричны, чем назидательны». Но название должно быть понято и как «дающие образцы», в этом случае оно подсказывало необходимость утверждения в литературе ренессансных моральных ценностей, светлого начала в человеке. Повести давали образцы настойчивой борьбы за свободу и счастье, и не только с внешними обстоятельствами, но и внутренней борьбы, самовоспитания. Это связывало книгу с литературой XVII в. и с проблематикой романа последующего времени.
Приключенческое и любовно-героическое начала преобладают в таких повестях, как «Великодушный поклонник», «Английская испанка», «Две девицы». Здесь встречаются вещи, наиболее близкие собственно новелле и родственные вставным рассказам первой части «Дон Кихота». В малопритязательной с первого взгляда новелле «Две девицы» дерзко воспевается женская доблесть и самостоятельность. При всем разлете приключенческого духа даже в ранней повести «Великодушный поклонник» отчетливейшим образом очерчен ренессансный идеал. Мало того что Рикардо готов великодушно отступиться от освобожденной и отвоеванной им Леонисы и вернуть ее сопернику, он осознает, что даже великодушное распоряжение свободой любимой есть форма притеснения, и в патетическом монологе провозглашает принципиальную свободу воли женщины («Леониса принадлежит сама себе...»). Только на такой основе, бескомпромиссное утверждение которой было весьма смелым в Испании, может, согласно идее повести, строиться подлинное счастье. Каждая из «приключенческих» повестей имеет гуманистическую направленность. В «Английской испанке» Сервантес в довольно сложных сюжетных перипетиях сочувственно изображает терпимость и свободу совести в протестантской Англии и дает непредвзятое изображение одного из главных врагов испанской реакции – Елизаветы I.
В повестях нравоописательно-бытовых, к которым можно отнести «Ринконете и Кортадильо», «Ревнивый эстремадурец», «Обманный брак», Сервантес иным путем идет к гуманистическим обобщениям. В «Ревнивом эстремадурце» правдиво живописуется трагедия неравного брака-купли не только для жены-подростка, не успевшей до конца осознать свое несчастье, но и для богатого старика-мужа, объективно превращающегося в тюремщика жены. Уродливая ситуация обусловливает уродливые последствия. Узнав об измене (в подцензурном тексте Сервантес был вынужден представить дело так, будто измена не совершилась), старик, после некоторых колебаний решившийся поступить человечно, однако не выдерживает горя и умирает. Опыт, вынесенный из безрадостного брака, уродует на самой заре и жизнь молодой женщины. Она уже не способна воспользоваться относительно независимым положением богатой вдовы и уходит в монастырь. Повесть демонстрирует отжившие установления официальной морали, которые ломают счастье тех, кого само естество побуждает ей противиться, и не могут обеспечить интересы тех, кто на нее опирается.
Особенности нравоописательных повестей Сервантеса сфокусированы в «Ринконете и Кортадильо». В изображении промышляющих мошенничеством бродяг-подростков и севильского воровского братства, в которое они вовлекаются, Сервантес точен, гуманен и эпически объективен. С предваряющей Веласкеса и Мурильо проникновенностью (и живописностью) он обнаруживает все то хорошее, что есть в несчастных юнцах, и даже в воровской взаимовыручке, но в то же время диалектически и с беспощадной правдивостью показывает, как логика преступного мира ведет к оплаченным убийствам, сутенерству и жестокости.
Повесть возвышается над плутовским романом как полнотой показа энергии и жизнестойкости людей испанского «фальстафовского фона», сочувствием к персонажам, умением раскрыть человеческое в них, так и последовательным осуждением преступности. Внезапно смещая планы, Сервантес подводит к мысли, что банда Мониподио символизирует испанское государство. Грабя и убивая, бандиты, во всяком случае, не менее искренне, чем какой-нибудь Филипп II, убеждены, будто служат «богу и добрым людям». Сервантес описывает елейное благочестие преступников и их рвение в формально-богоугодных делах. Таким образом, в этой мягкой и человечнейшей повести возникает чрезвычайно широкая по масштабу, остроумная и неотразимая сатира на Контрреформацию, нравственным фундаментом которой была лицемерная обрядность, показные «добрые дела». «Назидательная» концовка, которую габсбургские чиновники не приняли на свой счет, доводит сатиру до предельной обобщенности и отчетливости. «Очень подивился Ринконете уверенности и спокойствию, с которым эти люди рассчитывали попасть в рай за соблюдение внешней набожности, невзирая на все свои бесчисленные грабежи, убийства и преступления против бога».
Синтетичность повестей Сервантеса с наибольшей полнотой выступает в знаменитой «Цыганочке». Хотя приличия, да и условности жанра обязывали, чтобы к моменту свадьбы со знатным юношей героиня оказалась барышней, похищенной во младенчестве, демократизм повести более чем очевиден. Мысль, что кабальеро должен пройти длительное испытание в цыганском таборе, дабы быть удостоену руки Цыганочки в соответствии с ее человеческой ценностью и вне зависимости от сословного положения, выступает как нечто совершенно закономерное. Духовное развитие Цыганочки, ее непреклонное чувство собственного достоинства, свойственная ей тяга к «великим делам» роднят ее с величайшими плебеями испанской драмы – Лауренсией Лопе и Педро Креспо Кальдерона. Идея желательности народного воспитания героя сближает всю повесть с демократическими сказочными мотивами и с такими политико-утопическими произведениями Возрождения, как «Генрих IV» Шекспира, «Великий князь Московский» Лопе де Веги, а отчасти «Персилес и Сихисмунда» самого Сервантеса.
Вместе с тем в «Цыганочке» гений Сервантеса открывает путь от ренессансных пасторальных утопий к романтической поэме начала XIX в., где с одинаковой силой воссоздавались как жажда ухода к природе и естественному человеку, так и горький урок, что «от судеб защиты нет».
С глубоким реализмом воспроизведена вся разносторонность жизни табора – и воровские обычаи цыган, и их вольнолюбие, сохранившее притягательную силу для Пушкина, Мериме, Бизе и Лорки. Пространная речь старого цыгана Андресу (один из замечательнейших монологов Возрождения, напоминающий донкихотовские речи о «свободной и привольной жизни нашей») предваряет гостеприимные слова пушкинского Старика: «Будь наш – привыкни к нашей доле, // Бродящей бедности и воле...». Но ход мысли в повести Сервантеса и в «Цыганах» Пушкина не аналогичен. В отличие от Земфиры, для которой проблема свободы встает как практический вопрос свободы женского чувства, образ Цыганочки в принципе по-ренессансному утверждает равноправие женщины. Патриархальную мудрость цыганских старшин, как та ни замечательна, Цыганочка встречает с иронией («... сии господа законодатели...»). С исступленной горячностью юности, покоряющей, тем более что она воплощена в столь пленительном создании, Цыганочка провозглашает гуманистическое кредо: «Сии господа могут, пожалуй, вручить тебе мое тело, но не душу, которая свободна, родилась свободной и пребудет свободной, поскольку я этого желаю». Высокая патетичность монолога не снижается оттого, что он стоит рядом с высказанной старым цыганом несколькими минутами позже житейски-верной пословицей: «Нельзя наловить форелей, не замочив штанов». Подобным образом трезвость Санчо не снижает идеалов Дон Кихота, но убедительно показывает их труднодостижимость.
Чем больше углубляешься в «Назидательные повести», тем очевиднее их связь с великим романом. Повести преимущественно философско-сатиричные – «Лиценциат Видриера» и «Беседа собак» – могут быть поняты как этюды к «Дон Кихоту».
В конце жизни Сервантес создал два больших романа – «Дон Кихот» и «Странствия Персилеса и Сихисмунды». Пролог к «Странствиям...» Сервантес написал за неделю до кончины, после свершения над ним предсмертного обряда соборования; произведение было издано вдовой писателя в 1617 г. Однако кроме этого пролога, в котором образ самого Сервантеса выступает очень близким образу Дон Кихота в момент его мудрого просветления, «Странствия...» стадиально относятся к периоду, предшествовавшему «Дон Кихоту». Они были, по-видимому, начаты еще в 1590-е годы, работа над ними прерывалась, а конец IV книги был дописан в 1610-е годы, когда была, видимо,
просмотрена и вся книга. Рукопись «Странствий...» не сохранилась, и есть основания предполагать, что при посмертном издании были сделаны цензурные изъятия и исправления.
Сервантес неоднократно писал, что он хотел бы создать увлекательную повесть без крайностей фантастики, волшебных превращений и нелепостей, заполнявших тогдашние рыцарские романы. Отдаленным образцом для «Странствий....» послужили греческие романы III и IV вв. н. э. – «Эфиопики» Гелиодора и «Левкиппа и Клитофон» Ахилла Татия, рассказывавшие о бесконечных приключениях и препятствиях на пути к счастливому соединению влюбленных. У Сервантеса в соответствии с ренессансным мировоззрением власть случая уменьшена, а роль человеческой воли возвышена. «Мы сами, – говорит Персилес, – создаем свою судьбу, и нет такого человека, который не был бы способен улучшить свое положение». Речь здесь идет не просто о благополучии того или иного человека, а о труде, направленном на достижение великих целей (ч. II, гл. 12).
Сюжетную канву романа Сервантеса составляют преодоления препятствий и неожиданностей, стоящих на пути гуманистически мыслящих и любящих друг друга молодых людей – Персилеса, принца Фульского (т. е. исландского), и Сихисмунды, дочери короля Фризского (т. е. Фарерских островов). Сихисмунду вопреки ее воле обвенчали с нелюбимым. Влюбленные должны отправиться в Рим, чтобы сам папа разрешил путы насильственного обручения, что позволило бы героям вступить в желанный брак.
Заглавие романа имеет пояснение – «Северная повесть». Включение скандинавского, балтийского, славянского, ирландского и английского материала отнюдь не случайно. В выборе такого обширного и необычного театра действия сказался не только ренессансный универсализм Сервантеса (внимательно изучившего такие источники, как, например, книга Улава Магнуса «История северных народов», 1555), но и свойственные многим деятелям Возрождения интернационализм и веротерпимость. Разница вероисповеданий Сервантесом ее оттенена; однажды даже говорится о некатолической стране, что в ней «можно жить более спокойно», чем в католической. Люди стран Севера изображены с любовью, а как язык международного общения балтийских и северных стран выведен мало известный тогда испанцам польский язык. Материал стран Севера позволяет Сервантесу (так же как Лопе де Веге перенесение действия драм на Русь, в Венгрию и в другие страны Восточной Европы) смело писать о народных восстаниях, свержении королей, не связывать нравственную характеристику героев с религиозной и допускать другие вольности. Конечно, бытовой фон романа обогащается, когда действие, по мере полного опасностей передвижения влюбленных, переносится в более знакомые Сервантесу земли: в Португалию, Францию, Италию. Насколько это было возможно в условиях испанской цензуры, Сервантес высмеивает корыстный характер организации массового паломничества в Рим и ставит в романе другие острые проблемы. Так, он рассказывает о португальце, умершем от горя, когда его невеста объявила ему в церкви, что обвенчается не с ним, а с небесным женихом и уйдет в монахини. Персилес возмущается Сихисмундой, захотевшей уйти в монастырь; он объясняет ей, что это отнюдь не акт свободы воли, напротив, принятие обета навеки свяжет ее волю в будущем, а раньше убьет любящего ее человека.
Вероятно, не все современные читатели оценили сочетание в «Странствиях Персилеса и Сихисмунды» занимательного приключенческого сюжета с серьезной критикой существовавших порядков, католической церкви в ее реальном обличии, а также с утверждением воли и способности человека к достижению великих целей. Но роман пользовался большим успехом, уже в 1617 г. вышло несколько испанских изданий, а вскоре сюжетная конструкция «Странствий...» оттеснила в ряде литератур Западной Европы конструкцию как пасторального, так и плутовского романа, стала традиционной и повлияла на роман XVIII—XIX вв.
Но с течением времени выяснилось, что не «Странствия...», а «Дон Кихот» явился одним из величайших творений всей мировой литературы. Его герой, обобщивший некоторые существенные черты человеческого характера, давно уже сопричислен, наряду с Прометеем, Антигоной, Фаустом, Гамлетом, к так называемым «вечным образам», т. е. в представлении целых поколений ряда стран он живет особой, «самостоятельной» от Сервантеса жизнью.
«Вечным» оказался и синтетический романный жанр, созданный Сервантесом. Это не был больше приключенческий, рыцарский, пасторальный, плутовской, психологический, бытовой роман, а роман «вообще» – универсальнейший жанр Нового времени, способный охватить все богатство жизни эпохи.
Воздействие этой универсальности романа Сервантеса сопутствует великим обновителям и строителям романного жанра XVIII – начала XIX в. – Фильдингу, Стерну, Вальтеру Скотту, Бальзаку, Гоголю, а в какой-то степени и романистам последующего времени.
Вначале «Дон Кихот», по-видимому, был задуман как пародийный «рыцарский роман», призванный осмеять нелепости, к которым привела деградация этого жанра. В таком духе выдержано, однако, лишь начало первой части, первые семь глав, – приключения в постоялом дворе, принятом героем за замок, плачевно кончившееся заступничество за избиваемого мальчика-батрака, нападение на купцов, дабы заставить их провозгласить несравненность красоты Дульсинеи Тобосской Но уже в начале романа делается все более заметным, что Дон Кихот не стереотип в ряду Пальмеринов и Бельянисов, что он проникся рыцарственно-гуманистическим идеалом на самом деле, что он готов жертвовать собой во имя торжества справедливости и милосердия на земле. Будто направленный на исцеление Дон Кихота суд священника и цирюльника над рыцарскими романами, завершающийся хорошо знакомой в Испании с первых лет царствования Филиппа II церемонией сожжения книг, не вызывает сочувствия читателя. Второй выезд Дон Кихота, уже в сопровождении «оруженосца» – Санчо Пансы, несмотря на предельную нелепость первого же «подвига» – нападения на ветряные мельницы, показавшиеся рыцарю враждебными великанами, означен усложнением и перестройкой коллизии романа. Фантазер Дон Кихот и здравомыслящий крестьянин Санчо дополняют друг друга, духовно обогащаются в своем взаимообщении. Хотя оба они часто бывают смешны, они необыкновенно трогательны в своем противостоянии действительности габсбургской Испании, порождающей тревожные и зловещие импульсы. Готовность Дон Кихота принять на себя миссию исправителя кривды, как земное, мирское мученичество, выглядит смешно не столько из-за особенностей его характера, сколько по причине нелепостей того невыносимого порядка, которому он и Санчо в своей чистоте и наивности осмеливаются противостоять.
Начиная с гл. XI, когда Дон Кихот, мирно деля с козопасами их скромную трапезу и не гнушаясь есть с Санчо из одной тарелки, произносит знаменитые речи о социальной несправедливости и о «золотом веке», приоткрывается гуманистическая направленность и демократизм произведения.
Универсальное значение коллизии романа подтверждается той органичностью, с которой он вбирает в себя построенные на разном материале вставные новеллы. В принципе Дон Кихот оказывается едва ли не высшим арбитром в решении изложенных в них драматических столкновений. Серьезный смысл имеет его защита права пастушки Марселлы (из-за «холодности» которой покончил с собой Хрисостомо) на свободу выбора в любви, хотя в духе Возрождения серьезное перемешивается у Сервантеса со смешным, и трагедия Хрисостомо – Марселлы соприкасается с весьма неудачным любовным похождением Россинанта, навлекающего побои не только на себя, но и на рыцаря и его оруженосца.

Титульный лист первого издания «Дон Кихота»
Валенсия, 1605 г.
Беспредельно глубок и безысходен конфликт, открывающийся при освобождении Дон Кихотом каторжников, но и здесь самое серьезное, трагическое неразрывно сплетено с забавным. Сервантес осуждал тех, кто для потехи шутил над Дон Кихотом, но в системе ренессансного мировоззрения удовольствие, шутка были атрибутами достойного человеческого существования. К тому же именно буффонада позволяла то весело, а то и мрачно высмеять и обличить лжеподвижничество монахов, терроризм Святой Эрмандады, взяточничество и злоупотребления губернаторов, позволяла вскрыть противоречия всей испанской жизни. Проделки Панурга у Рабле, видная роль грасьосос в испанской комедии, шутов и лукавых простолюдинов у Шекспира, безумие Гамлета и сумасбродства Дон Кихота и Санчо были связаны со специфической для Ренессанса избыточностью в критике общества и в утверждении идеала. В лихой буффонаде выражалось отсутствие какой-либо ограниченности у людей Возрождения. Примером может послужить как раз восклицание Дон Кихота при встрече с осужденными, которых вели на галеры, – с королевскими невольниками: «Как так невольников? Возможно ли, чтобы король применял насилие к кому-нибудь?» (I, гл. 22). Фигуральный смысл обвинения ясен и полностью оправдан, но буквально с таким упреком к монарху мог обратиться лишь шут или безумец. Не только Филипп II или Филипп III, но и идеально ренессансный шекспировский Генрих V или утопический Грангузье у Рабле не могли, если бы и хотели, отказаться от насилия. Общество без насилия пока лишь мерещилось основоположнику утопического социализма Возрождения Томасу Мору.
Можно пытаться логически разграничить сферу безумия Дон Кихота (идея странствующего рыцарства) от сферы его мудрости (суждения о государстве, «золотом веке», свободе, праве, морали, любви, человеческом достоинстве и др.). Но по существу эти сферы часто неразделимы: небезумец во многих случаях не мог бы в габсбургской Испании, а неровен час, и в передовых в те годы Нидерландах, Англии или Франции Генриха IV и Сюлли совершать столь бескорыстные подвиги и свободно держать столь мудрые речи.
Композиционное, литературное мастерство Сервантеса блестяще проявляется в том, как он связывает в один узел историю добровольного безумствования Дон Кихота в Сьерре Морене, имитирующего своих потерявших рассудок от несчастной любви знаменитых прототипов – Роланда и Амадиса (безумство это оказалось кстати: оно помогло уйти от страшной расплаты за освобождение каторжников), и истории Карденио, действительно обезумевшего от любви к Люсинде, и Доротеи, разыскивающей своего исчезнувшего возлюбленного Фернандо. В этом клубке, осложненном историей пленника и вдобавок еще одной вставной новеллой – о несчастии безрассудно любопытного, превысившего всякую меру в испытании верности жены, которую он любит лишь как некий абстрактный идеал, а не как живую женщину, в мире неустроенности и заблуждений внутренняя мудрость Дон Кихота делается все очевиднее, а антагонисты рыцарского безумия сами, якобы во исправление, погружают героя в чуждую его прямодушию маскарадно-рыцарскую атмосферу.
Так подготавливается особая гуманистическая насыщенность и серьезность второго тома, где совершающий третий выезд Дон Кихот и Санчо оказываются на одном полюсе, а здравомыслящие шутники во главе с герцогской четой, разыгрывающие внешний, без идеала, рыцарский маскарад, – на другом и в конечном счете заодно с проржавевшей, но страшной махиной габсбургской государственности.
Дон Кихот и Санчо выступают в какой-то мере символически, как носители подлинно действительного, включающего и жизнь, и идеал, и материю, и свечение материи, – все то реальное и идеальное, что по условиям времени не смогла до конца внедрить в повседневность эпоха Возрождения, но что стало ее бессмертным активным вкладом в дальнейшее развитие человечества. Дон Кихот второй части знает, что его предыдущие деяния стали общеизвестны, и он делается серьезнее и тверже. Он не поддается обману с ложной Дульсинеей. Он проявляет принципиальную готовность вступить в поединок со львом, безрассудный, но необходимый для демонстрации твердости в защите идеи. Он готовит из Санчо, может быть, лучшего и самого бескорыстного губернатора, которого знала тогдашняя Испания, губернатора, превращающего герцогский «остров» Бараторию (т. е. «страну обмана и взяточничества») на краткие дни своего правления в царство справедливости. Дон Кихот так или иначе возвышается над всеми, кого встречает, – над слишком рассудительно-добродетельным доном Диего де Миранда, над богачом Камачо, над грандами – герцогом и герцогиней, над их догматичным духовником, спесивым поводырем душ, который воплощает мертвую казенщину контрреформационной религии и видит в Дон Кихоте банального дурака (II, гл. 31—32). В завуалированной форме Дон Кихот представлен возвышающимся над самим «Я, король» (так подписывались испанские монархи) в том эпизоде, когда бедный рыцарь вмешан Сервантесом в трагическую историю Рикоте, лишенного родины и права на свободу совести бесчеловечным указом Филиппа III об изгнании морисков (II, гл. 54, 66—65).
Роман столь волнующ и поныне, что и сейчас встречаются не только друзья, но и враги Сервантеса – реакционные ученые, подходящие к рыцарю Печального образа с меркой герцогского духовника. Такие попытки предпринимаются после всего того, что сделано для углубленного понимания Дон Кихота, особенно за два последних столетия, немецкими романтиками, Байроном, Гейне, Белинским, Тургеневым, Унамуно, Томасом Манном, Менендесом Пелайо, Менендесом Пидалем (установившим, что, начиная с гл. VII первой части, перед Сервантесом определилась задача создать в лице Дон Кихота «образ мудрого безумца, превратив бред душевнобольного в идеал нравственного совершенства и обратив к нему все наши симпатии»), советскими учеными А. А. Смирновым, К. Н. Державиным, Л. Е. Пинским, Ф. В. Кельиным. Снижение образа Дон Кихота связано с отрицательным отношением к Ренессансу. Поэтому вслед за учеными 20-х годов XX в., вслед за Джузеппе Тоффанином и Че́заре де Лоллисом, автором книги «Сервантес – реакционер» (1924), находились мыслители, которые и в середине века продолжали считать, как Хулиан Мари́ас, самоутверждение и эгоизм определяющей чертой Дон Кихота, и даже такой серьезный исследователь, как Гельмут Гатцфельд, видел в самом Сервантесе писателя Контрреформации и барокко. По мнению Гатцфельда, Сервантес сознательно осмеял в образе Дон Кихота эразмизм, вообще Возрождение с его верой в возможность борьбы за улучшение общественного порядка. Дон Кихот для этого ученого всего-навсего глупец, который верит в «улучшение мира своими собственными усилиями... не понимая в своей близорукости, что господень мир во всех отношениях достаточно хорош, чтобы не нуждаться в том, чтобы его исправлял какой-то безумец...».
Попытки ослабить влияние гуманистического пафоса великого романа были предприняты уже при жизни Сервантеса. За два года до выхода подлинной второй части «Дон Кихота» некто, скрывшийся за псевдонимом «лиценциат Алонсо Фернандес де Авельянеда» (возможно, духовник самого Филиппа III, доминиканец Луис де Алиага?), выпустил в 1614 г. ложный второй том «Дон Кихота». Плагиатор не только не сумел воссоздать внутренний смысл романа и сохранить сочувствие, окружающее героя, но, видимо, сознательно огрубил и дегуманизировал образы Дон Кихота и Санчо Пансы. Свою идейную установку Авельянеда обнаружил, включив в роман приторно ханжеские и бесчеловечные вставные новеллы. Но ему не удалось ни потеснить подлинного Дон Кихота, ни затушевать связанный с ним возрожденческий комплекс идей. Сервантесовские герои уже «жили», и фальсификатор потерпел тройное поражение: «Лжекихот» оттенил несравненные художественные достоинства и гуманистическую насыщенность подлинного; он способствовал заострению и ускоренному выходу второй части; в довершение Авельянеда постепенно сам, своему рассудку вопреки, был захвачен логикой сервантесовского образа, а его нескладный Лжекихот стал сбиваться с контрреформационного курса.
А настоящие Дон Кихот и Санчо тем временем удивительно укоренились в народном сознании и воспринимались современниками как живые люди. Не ощущается никакой натяжки в том, что многие из персонажей, встречающих их в подлинной второй части, уже читали первую; сами герои рассуждают, насколько верно они там были изображены, и осуждают лживую версию Авельянеды. Чтобы досадить обманщику и обнаружить его ложь, сам Дон Кихот решает ехать не в Сарагоссу, а в Барселону; он побуждает лжекихотова покровителя, дона Альваро Тарфе, выдать свидетельство, что тот не знал никакого Дон Кихота, кроме истинного!..
Худая память об Авельянеде рассеялась, а «независимая» жизнь Дон Кихота и Санчо в новом блеске возродилась в литературе, живописи, публицистике особенно XIX и XX столетий.
И при сопоставлении с позднейшими великими романами Нового времени созданный Сервантесом художественный мир все больше удивляет богатством и сложностью. Гений Сервантеса сумел дать ответы на совокупность вопросов, ставших перед обществом и его гуманистической интеллигенцией к концу эпохи Возрождения, на вопросы, усложненные в Испании неразберихой, которую создавала государственно-церковная машина, подавлявшая – и себе, и стране на погибель – любую попытку исследования этих вопросов и этой неразберихи. Сложность романа оказалась адекватной сложности обстановки в стране. Сервантес органически слил самые трагические темы с буффонадой, создал произведение особой многоплановой структуры отнюдь не только ради защиты романа от инквизиционной цензуры. Читатель трагически переживает и смерть Дон Кихота, и даже его «целесообразное» поражение в последнем поединке, подстроенном бакалавром Карраско в «лечебных» целях, чтобы положить предел рыцарским безумствам и открыть дорогу возврату героя к его естественному облику Алонсо Кихано Доброго. Почему же читатель, отдающий себе отчет во всем этом, все-таки хочет победы Дон Кихота? Только при очень поверхностном подходе досада может быть вызвана прекращением потехи: недаром о герцогской чете в романе говорится, что «шутники столь же безумны, как и те, кого они вышучивают».
Многоплановый роман Сервантеса – это универсальная картина испанской общественной жизни и сокровищница идей испанского гуманизма.
Суждения Сервантеса и его героя о свободе совести и о свободе занимают важное место в полемике гуманистов Возрождения с контрреформационной реакцией. Ставшая хрестоматийной речь Дон Кихота – «Свобода, Санчо, есть одно из самых драгоценных благ, какими небо одарило людей...» (II, гл. 58) – зародилась как опровержение философствований испанских церковных деятелей XVI—XVII вв. о пагубности свободы и соответствующего пассажа против свободы в «Лжекихоте».
Выведя Дон Кихота в противоречивом, но нерасторжимом единстве с кастильским мужиком Санчо, простодушным и по-народному мудрым, практично-лукавым и жадным в малом и бескорыстным в большом, Сервантес запечатлел специфическую черту испанского Возрождения, его особенную близость народу. В Санчо Пансе черты «великого испанского плебея», о которых говорил Герцен, выражены не в таком героизированном виде, как в Лауренсии Лопе де Веги или в Педро Креспо Кальдерона, но зато по реалистической полноте образ Санчо один, кажется, может перевесить образы грасьосос, слуг и крестьян из многих комедий и повестей.
Санчо, его беседы и споры с хозяином, его пословицы, то нелепые, то мудрые, его простодушие и здравомыслие окрашивают весь роман, и плагиатор недаром не меньше, чем над извращением Лжекихота, потрудился над опошлением и огрублением Санчо. Бараторийский апофеоз Санчо-губернатора в подлинной второй части был сокрушительной отповедью клевете на Санчо и апофеозом простого народа Испании.
Роман «Дон Кихот» – наиболее непосредственный, наряду с драмами Шекспира, в литературе Возрождения предшественник классического реализма XIX в. – не ставил задачи прямого изображения идеального героя ни в образе самого Дон Кихота, ни Санчо, ни в образе дона Антонио Морено, славного разбойника Роке Гинарта, ни в образе удивительнейшего из вице-королей. Требовать прямого изображения идеала в романе было бы равносильно мечтам Дон Кихота о Дульсинее.
Но если в «Дон Кихоте» нет идеального героя как такового, то всем ходом действия, объективным смыслом картин и рассуждений роман передает богатство ренессансного идеала не с меньшей полнотой и убедительностью, чем такие классические в воплощении идеала произведения, как картины Леонардо, Рафаэля или как «Ромео и Джульетта» и комедии Шекспира и Лопе де Веги.
Однако ближе всего «Дон Кихоту» «Гамлет». Два величайших гения позднего Возрождения выразили – в двух разных странах точно в те же годы, не зная друг о друге, почти в тех же словах – великую задачу, уже явно непосильную для эпохи, но властно ею завещанную потомству. Метафоре Гамлета о «вправлении суставов» отвечают еще более ясные слова Дон Кихота о «выпрямлении кривды» (I, гл. 19, в подлиннике здесь даже глаголы адекватны: to set right – enderezar). Гамлет с ужасом перед несоразмерностью задачи и его сил, Дон Кихот с пафосом героического безумца, но оба восклицают – один – что рожден восстановить расшатанный век, другой – что родился в железный век, дабы воскресить золотой (I, гл. 20), т. е. подтверждают идеал Возрождения и завещают его воплощение потомкам.








