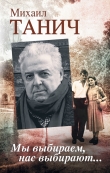Текст книги "Две жизни в одной. Книга 1"
Автор книги: Гайда Лагздынь
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
– Гаврилов, вылезай, – учительница наклонилась и вытащила Гаврилова из-под парты. Рот у Гаврошки был набит так, что обе щеки стали круглыми, словно за щеки положили по бильярдному шару. – Ну и бурундук! – улыбнулась учительница одними серыми глазами.
«Она совсем и не строгая, – удивилась я, – и совсем молодая».
– Жуй, жуй! – продолжала учительница. – Не стесняйся.
Гаврошка стоял и не знал, что делать. Мне стало очень смешно.
Я вспомнила нашего Антипода. На уроке Антипод засунул в рот кусок хлеба, а его вызвали отвечать домашнее задание. Антипод встал, держась за щеку.
– Что с тобой, Николаев?
– Флюс. Болит. Можно мне не отвечать?
Когда хлеб был съеден, Антипод за щеку затолкал комок из бумаги. Комок получился большой.
– Надо идти к врачу! – сказала, чуть улыбаясь, Марина Федоровна. – Флюс-то, гляжу, растет?
– Угу, – печально мотнул головой Николаев.
Так он и просидел до конца урока с бумажным шаром во рту.
Пока я вспоминала, Гаврилов прожевал бутерброд и снова похудел на обе щеки.
Вдруг я почувствовала легкий щелчок. От моей заколки, что была в волосах, отлетела горошина и запрыгала по парте: тук-тук-тук! «Этого еще не хватало! Я у себя в классе, что ли? Там у нас этим занимается Ежиков. А здесь?» Я оглянулась. Все учащиеся сидели, как положено, и смотрели на карту, возле которой топтался тот увалень, что походил на надутый мяч.
«Кто же это все-таки работает под Ежикова? – Автор горошины не проявлялся. – Чудаки эти пятиклассники, – усмехнулась я про себя. – Почти ничем не отличаются от нас – семиклассников, разве тем только, что девочки не показывают мальчишкам языки».
В этот момент мимо моего носа снова пролетела горошина. Она попала в окно. «Дзинь! Дзинь!» – звенькнуло стекло коротко и весело. Я посмотрела туда, откуда летела эта «птичка», и увидела кудрявого пятиклассника. Он прикрыл глаза веками и делал вид, что это – не его рук дело.
– Ежиков! – вырвалось вдруг у меня.
В классе захохотали.
– Садись, Петушков! – сказала учительница. – Сцилла съела Харибду! Придумал же!
Прозвенел звонок.
– Ну как? – подскочила Таня.
– Нормально. Как у нас. Такие же Ежи и Антиподы.
– Гавриловы и Петушковы? А какие Антиподы? – не поняла Таня.
– Да по физике проходят.
– А-а, – протянула Таня. – Пионервожатой будешь делаться?
– Буду, – ответила я, – но не знаю, получится ли?
– Получится, обязательно получится! – засмеялась Таня.
Сочинение
По литературе нам задали написать сочинение на тему: «Красота. Как ты ее понимаешь?»
Я долго думала. Помог тюльпан, уже засохший, что подарила мне тетя Рая на день рождения. Мое сочинение вывесили на доске объявлений, и все его читали. Рядом висело сочинение Женьки Поповой. Писать о своем сочинении не хочется, а вот Женькино хочу пересказать:
«Как я понимаю красоту? Вот падает с неба снежинка. Она лежит у меня на рукавичке, и я ее рассматриваю. Какая она узорчатая, словно крошечная салфеточка, которую может связать моя бабушка. Снежинка растает, а салфеточка или подзор, что свяжет моя бабушка, будет жить, служить людям. Потом придут другие и тоже что-то сделают, создадут. Скоро весна, зацветут сады. Земля покроется зеленью и цветами. Моя мама срисует их на ткани. Она была художницей на фабрике, где делают ситцы. Немцы сожгли нашу «Пролетарку», а люди ее восстанавливают. Мы еще будем носить красивые яркие платья. Только сначала надо разгромить немецких захватчиков, уничтожить Гитлера, главного фашиста. Вернется папа и построит новый дом, еще лучше того, что сожгли фашисты. Ты только, папа, вернись! Вернитесь все, кто еще живой! Совсем нехорошо, когда люди плачут. От слез они делаются некрасивыми и старыми».
Победа
Какое яркое апрельское солнце! Как радостно на душе! Я иду по Заволжью, шагаю прямо по шпалам.
– Эй! – кричит солдат. – Не видишь? Давай в сторону!
Я сворачиваю на тротуар. На улице трамвайные пути ремонтируют немецкие военнопленные. Фрицы укладывают на землю просмоленные шпалы. Я смотрю и удивляюсь: обычные люди! И носы без выворотов, как на плакатах. Вот только ботинки на толстой деревяшке.
– Горе-победители, – ворчит старый дед, которого обгоняю. – Работайте, работайте! Душегубцы!
Кстати ...
Впервые я себя почувствовала счастливой в 15 лет. Калинин. Весна. Шагаю по улице Верховской, ныне Горького, прямо по шпалам. Солнце заливает улицу ярким светом. Пути ремонтируют немецкие военнопленные. Они совсем не страшные, – отмечаю про себя, – обыкновенные люди, и нет вывернутых ноздрей и выпученных глаз, как на плакатах, только вот обувь у них странная – деревянные подошвы у тряпочных ботинок. За пазухой правой рукой, в кармане на груди, придерживаю небольшую книжицу – комсомольский билет. Я – комсомолка!
– Эй, – кричит солдат-охранник, – давай на тротуар, не видишь? Ничего я не вижу: ни солдата, ни немцев. В памяти только солнечный день весны и огромное счастье.
В райкоме ВЛКСМ мне только что вручили комсомольский билет.
А потом был май. Все знали, что скоро войне конец. Но известие о победе пришло все равно неожиданно. Ранним солнечным утром поднялась суматоха. Незнакомые люди, как родные, прямо на улице обнимались и плакали. Мы, будто сумасшедшие, носились от дома к дому, стучали по ставням, по стенам, по дверям и воротам, кричали:
– ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА! По-бе-да-а-а!
Ностальгия
Литературно-документальное произведение, пусть оно и обозначено словом «документальный», всегда слегка, но отличается от истинно-документального. В данном случае это касается нашего дома на Новобежецкой улице. Дом первого этажа состоял из нескольких комнат, расположенных словно в тетрадке по русскому языку – в линеечку. Если смотреть с улицы, то справа шла длинная комната, поперек перегороженная так, что получались две комнаты. Там жила «милиционериха». Мужа ее не взяли на фронт, так как много детей, к тому же они срочно заводили еще одного. А так как муж работал милиционером, то ее и прозвали «милиционериха». Очень скандальная женщина. Оно и понятно – много ребят. У «милиционерихи» была привычка все съестное выставлять на окно для всеобщего обозрения. А уж если что печет, то поставит на подставку. А мы знали, что дети ее всегда голодные. Да и мы не сытые, но делились. Во второй, узенькой продольной комнате, жила интеллигентная немолодая дама с дочерью-врачом. Муж врачихи был политическим осужденным, куда-то сослан. Но мы потом видели его вернувшимся. Жили они очень тихо. А вот в третьей части дома, самой большой, под нами жила соседка по фамилии Баринова. Она действительно соответствовала фамилии. Сзади дома пристройка, где жила женщина-певунья. Когда закончилась война, к ней приехал жених, сыграли свадьбу. Он стал работать в милиции. Все время на протяжении нескольких лет я встречала его в магазинах в обществе молодых парней. Когда они появлялись, можно было свободно ходить, не думая о своих карманах и кошельках. Такая у него была служба. А еще я помню, как он жаловался маме, говоря:
– Девка-то моя оказалась стародевкой. Никак не сделаю из нее бабу! Все заросло.
Но мы больше дружили с теми, что жили во дворе в длинном флигеле – с тетей Марусей Сдобниковой, работавшей на хлебозаводе. Она подтаскивала то в лифчике, то в ... и хлеб, и мучку, и сахарок. Мы у ней покупали. Еще дружили с Грачевыми. Муж у Грачевой маленький, щупленький, вредненький, а дочь потом училась на врача, была не очень способной, но упертой. Сидела на чердаке своего сарая и зубрила, вгрызалась в медицину. Недавно зашла в этот свой дом. Вышки нет, планировка комнат другая, все старое, в запустении, а люди живут уже другие. И от моих трех тополей под окнами дома одни полусгнившие пни.
Глава 2. СИМФОНИЯ В МИНОРЕ
Великая Отечественная война закончилась нашей победой. Фашизм вместе с Гитлером ушел со сцены на страницы исторических книг. Вторая Мировая война переходила в новую фазу – в холодную. Но нас, подростков того времени, из-за возрастного недопонимания это мало интересовало, ибо послевоенные неурядицы продолжали терзать. Все те же хлебные карточки, та же битва за выживание. Кстати, о патриотизме. Да, он был большому счету, но не по малому. Вспоминаю высказывание одного литературного критика по отношению к моей рукописи «Тетрадь в клеенчатом переплете»: «Как могла советская девочка поднять руку на атрибуты государственной власти? Поступить так с плакатами, сшив из них одеяло?»
Не видел тот критик пепелищ больших поселений, выжженных деревень и городов с сиротливо торчащими скелетными останками печей. А вокруг – холодную безжизненную пустыню с вымерзшими человеческими телами. Не видел под глазами вконец истощенных людей полупрозрачные, с желтоватым оттенком мешки – броские признаки голода.
Я хочу, чтобы дети и подростки никогда не испытали чувства настоящего голода, когда в теле нет ничего в запасе, когда клеточка растущего организма кричит, стонет и, обессилев, отключается, чтобы сохранить себя. Это называется голодный обморок.
Я учусь в седьмом классе школы №3, что в Затверечье. Сегодня в школе дадут по круглой булочке, которая меньше детской ладошки. После занятия идем к Таньке. Живет она на улице Верховской в одноэтажном каменном доме. У них тепло, и здесь угощают морковным чаем. В их доме и в доме-флигеле много комнатушек, в каждой по семье. Не знала я тогда, что эти два каменных дома раньше принадлежали купцам Арефьевым, что в них сам царь Петр Первый бывал, что здесь в будущем будет создан Музей тверского быта. А во флигеле сначала разместится поликлиника, а потом музейные художники-реставраторы. Вот как время-то все расставляет?! И улицу Верховскую теперь не узнать. Она называется уже не Верховская, а Горького. И деревянных домишек давно нет. Только в музеях их фотографии да в моей памяти, отпечатавшись, хранятся.
Закончив семилетку (тогда не было девятилетки), поступаю в индустриальный техникум. Там учится мой брат Феликс. Он старше меня на два года. На первом курсе – практика на механическом заводе, что во Дворе Пролетарки. Изучаю токарный станок, учусь обтачивать металлические болванки. Сначала интересно, потом становится скучно. Крутится эта тупая болванка, разбрасывая металлическую стружку. Блестит она занятно, но мастер требует работать в очках. А еще стружка колется, когда убираешь станок. Перешла на второй курс. Оценки – только «хорошо» и «отлично».
Неожиданно мама предлагает мне ехать учиться в Ленинград. Тем более что про нас органы НКВД, похоже, забыли. Нет тех пугающих визитов отмечаться каждый месяц, нет угрозы ареста, что висела над мамой. Мы ведь не были на оккупированной немцами территории. В характеристиках еще много десятков лет нужно будет всем обязательно об этом упоминать. Словно люди виноваты в том, где их настигла война.
Что явилось решающим по вопросу моей учебы, сказать трудно. Желание матери вернуть дочери родину? Дать возможность стать снова ленинградкой? Или еще мотивы личного характера? Маме всего сорок три года, а она активная женщина. В Ленинграде живет мой двоюродный брат Володя Бородиновский с женой Валентиной. Вале двадцать лет, а Володя уже горел в боевом самолете, следствием чего вскоре будет операция по удалению одного легкого. Это была первая подобная операция, сделанная советскими хирургами. У брата Володи та же квартира, в которой они жили до войны, до ареста родителей. И в том же доме, где жили и мы до высылки нас из Ленинграда. Володин отец, дядя Ефим, мамин родной брат, рабочий, бывший балтийский моряк, как мы узнали позже, расстрелян еще в 1937 году как враг народа. Мать – Мария Герасимовна Корзова, по мужу Бородиновская, – в дальневосточных лагерях. Сестра Полина с дочкой Люсей из блокадного Ленинграда была вывезена через Ладогу в Ульяновск, где и проживает.
Ленинград встречает санпропускником. Пассажирам необходимо пройти санитарную обработку. Проверив людей на вшивость, отправляют в душевую. Вещи и одежду прокаливают в сушилках. Если обнаруживают насекомых в волосяном покрове, в нательном белье, а их имеет почти каждый второй из-за отсутствия мыла и других моющих средств, кроме золы, то носителей этих поганых мелких существ подвергают спецобработке. Государство ведет трудоемкую массированную борьбу с последствиями войны на людском поле битвы.
После приезда в Ленинград я зашла по поручению мамы передать привет довоенной знакомой Елене Павловне. Женщина средних лет встретила меня с непередаваемой радостью. Но поражена я была не только этим, а еще и тем, что на стол она поставила небольшую тарелочку, в которой лежали кусочки настоящей селедки. А прозрачного растительного масла было налито по самые краешки селедочницы. Не какая-то там олифа, а настоящее желтое подсолнечное масло! На большой тарелке Елена Павловна принесла из кухни только что сваренную картошку в мундире. Удивительные эти ленинградцы! Ведь все живут с хлебными карточками и продолжают, как и мы в Калинине, голодать. Оказавшись в старом, но для меня новом, городе, пришлось самой решать, куда поступать учиться.
Кстати ...
Подросток
Я не думаю, что пятнадцатилетние подростки разных эпох очень отличаются друг от друга. Несомненно, современные более знающие, более начитанные, рано овладевают компьютером, вхожи в Интернет. Я не об этом. Взросление человека обязательно идет через подростковый период. Максимализм мышления, с одной стороны, отсутствие опыта, логического предвидения – с другой, приводят порой ко многим ошибкам, могут обжечь, не дают результата. Но не надо забывать и того, что каждый человек все равно сам проходит свой путь, сколько ни говори, что халва сладкая, а утюг горячий. А в вопросе выбора профессии зачастую за подростка такие вопросы решают семья, ее традиции. Технари видят в своих детях технарей, врачи – врачей, учителя – учителей. А бывает и наоборот – отговаривают получать оные. Современная школа профориентацию начинает с восьмого класса. Так удобно для школы, для составления расписания, иногда и от планирования педнагрузок для учителя. А сами учащиеся еще и не знают, кем хотят стать. Да и конкурсы в учебные заведения немалые, а теперь и стоимость обучения делают то, что после окончания школы многие подают документы не в одно, а, бывает, сразу в несколько учебных заведений. Куда попадут.
Я бы в первую очередь, и на бюджетной основе, зачисляла в студенты тех, кто, не пройдя по конкурсу год, второй, иногда и третий, подают документы в одно и то же учебное заведение.
Выбрать учебное заведение было трудно. Тогда не было реклам, буклетов. И я решаю идти туда, где больше мальчишек: в Ленинградский авиационный техникум приоборостроения. Тем более что Генка, сын дяди Феди Корзова, собирается поступать туда же. Меня приняли на второй курс, а Генка поступать передумал. В Ленинграде, как и во всей стране, хлебные карточки. Мне как учащейся положено пятьсот граммов хлеба и талон на обед. Живу у Володи.
Неожиданно из Ульяновска приезжает Полина с семьей. Решила остаться жить здесь. Поэтому я переселяюсь в общежитие. В комнате шесть кроватей с тумбочками, как в больнице. В возрасте шестнадцати неполных лет я попала на совсем новый уровень жизни. Глубокая затверецкая провинциалка с прочными, почти деревенскими, устоями и взглядами на жизнь большого города, с одной стороны. С другой – ощущается разница в образовательной подготовке: завышенные оценки преподавателей школ и индустриального техникума никак не стыкуются со знаниями второго курса авиационного техникума. Я борюсь изо всех сил, но мой нематематический склад ума бьется о гранит сопромата и других технических предметов. Чтобы как-то войти в русло учебы, я сблизилась с однокурсницей Люсей. Не только потому, что она – «хорошистка». Мама Людмилы умерла в блокаду, Люсю взяла к себе тетка. Тетка вместе с мужем в Германии, где он дослуживает. Поэтому Люська живет в квартире одна. Мы с ней близки по духу, так как обе обделены вниманием взрослых. Я часто ночую у нее. И как результат меня выписывают из общежития. Жить в квартире без взрослых – мечта почти каждого подростка. Но это и опасно. Однажды в подворотне нас подкараулили ребята примерно нашего возраста. Когда мы открыли ключом дверь, они ворвались вслед за нами, стали хватать, прижимать и целовать. Если бы не дворничиха, услышавшая шум и крики, не знаю, чем бы все это кончилось. А в техникум поступило сообщение от Люськиной соседки-старухи, что мы ведем недозволенный образ жизни. Бабка очень завидовала Люськиной тетке, что та из Германии привезла много всякого добра. Помню, как одна преподавательница, старая дева, даже не вникнув в суть, мимоходом бросила фразу: «Таких надо на сто первый километр выбрасывать». Наверное, она была не ленинградка, а из тех, из-за которых нас и выбрасывали.
Сказано по случаю...
Получив в юности острый несправедливый укол в сердце, я всю жизнь очень внимательно отношусь к детям и подросткам, стараюсь понять причину проступка, да и вообще, есть ли он, этот самый проступок. Непонимание порождает неправильную оценку. Неправильная оценка рождает сопротивление. А где сопротивление, там злость и грубость. И в том, что часть молодежи не любит пенсионеров, виноваты порой сами пенсионеры. Надо быть мягче, терпимее, снисходительнее, почаще вспоминать себя в молодости.
А еще мне хочется сказать, что Ленинград того времени, за редчайшим исключением, был городом, населенным удивительными людьми, многие из которых помнили революционные события в Петрограде, были свидетелями репрессий, потеряли близких в блокаду. Я бы сказала, это был город настоящих интеллигентов по самому большому счету, щепетильных даже в малом. Коренного ленинградца легко отличить от приезжего.
Марианна
Я хочу немного рассказать об одной маминой знакомой – Пескишевой Марианне Ивановне, враче по профессии. Мама был с ней знакома давно, хотя и не поддерживала связи после высылки в Калинин. 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. К руководству страной чуть позже пришел Никита Сергеевич Хрущев. Наступила оттепель по отношению к репрессированным.
Мама одной из первых стала добиваться возвращения. Но для этого нужна была ленинградская прописка. Марианна Ивановна, не задумываясь, прописала маму по адресу: улица Чайковского, дом 21. И это при том, что вместе с Марианной жили две ее дочери – Люся и Ляля.
Как интересно устроен мир! Через несколько лет Ляля выйдет замуж за сына известного поэта – за Сашу Прокофьева. От совместной жизни у них рождается сын. Внука дед не хотел признавать. Он также игнорировал и сына. Прокофьев-младший страшно пьет. Эту пагубную привычку, как считают многие, он получил от того, что хорошо снабжался деньгами в детские и юношеские годы. Одним словом, как это бывает у занятых людей, чтоб ребенок не мешал, взрослые от него откупались. Ляле с мужем было очень трудно. Она все делала, чтобы его спасти. Однажды, по его же просьбе, закрыла одного в квартире. Не найдя в доме спиртного, Саша использовал содержимое домашней аптечки, отравился и вскоре умер. Все это было потом, когда я снова жила в Калинине.
Чем дальше я углубляюсь в недра памяти, тем многограннее и ярче всплывают сюжеты пережитых жизненных сцен. Островки разрастаются в целые континенты, наполняются разноокрашенными эмоциональными событиями. Ленинград. Его проспекты. Величественные львы. Разводные мосты над Невой. Праздничные салюты. У причала легендарная «Аврора». Дворцовая площадь. Исаакиевский собор. Мариинский театр и худенькая, с синяками под глазами, девочка, которую в театр пропускают бесплатно. Я упиваюсь увиденным и услышанным. Как малый ребенок, за короткое время наверстываю то, чего не могла, не имела раньше. Замечательные балеты, знаменитые балерины, прекрасная оперная музыка. Все это вместе, перемешанное со страданиями и недопониманием взрослых.
Оказавшись в 1946 году в городе, где родилась, где начиналось мое безоблачное счастливое детство, я старалась познакомиться со всеми, кого знала мама. Помня, что все живут, получая хлеб по карточкам, перед тем как однажды прийти к Пескишевым, а с пустыми руками приходить неприлично, хочу купить пирожное в коммерческом магазине. В таких магазинах много всего. Но у меня хватает только на одно пирожное – бисквитное, с розочкой. И на те деньги, что прислала мама, делаю покупку.
Тетушка Марианна Ивановна, не зная всего этого, написала маме, что я транжирка и швыряюсь деньгами, и чтобы мама меня не баловала. Какое баловство?! Полкило хлеба в сутки и один талон на обед! Поев в столовой на одной стороне Невского, я переходила на противоположную сторону – в другую столовую – и съедала вторую порцию бескалорийного обеда. Талоны отоваривали и на сутки вперед. А пайка хлеба? Как правило, уничтожалась за один присест. Можно было взять хлеб и за завтрашний день. Иногда только через сутки или двое я могла снова поесть. Когда хлеб был в руках, делить его на кусочки было невозможно. Порой темнело в глазах и подкашивались ноги. Порой казалось, что и есть уже не хочется. «Транжирка!» Горечь от недопонимания была для меня особенно жестокой. С Пескишевыми связано и такое событие: у Людмилы день рождения. В гости меня пригласила Ляля, но и предупредила: «Приходи, но ничего не ешь. Всего так мало».
Рассказано по случаю...
Прошло более шестидесяти лет, а точнее, шестьдесят три года. Сегодня семнадцатое число. Пасмурный день грязного ноября 2009 года. Два совсем непримечательных будничных дела вдруг всколыхнули затуманенные временем события середины XX века. Захожу в магазин «Букинист». Директором здесь работает интереснейший, милейший, обходительный, знающий литературу и людей Николай Николаевич Рассудков. Оттого и тянутся к нему писатели, архивисты, музейщики. Люди, интересующиеся литературой прошлого и настоящего времени. Он всегда старается разыскать нужную книгу, придержать для кого-то появившуюся, подсказать, дать совет. Все-то знает Николай Николаевич. Помогает ему в делах Людмила Владимировна Кадочникова, молодая, но тоже ас в своем деле. Этим людям можно посвятить не одну страницу данной повести.
Сегодня цель моего визита в магазин банально проста – нужны бумажные закладки для сборников и держатели с лапочками. Каждую часть своей новой пухлой рукописи я скрепляю этими зажимчиками. Неожиданно Людмила Владимировна говорит молоденькой продавщице: «Никаких чеков от покупателя. Это – подарок от фирмы». Почему мне дарят? Или теперь такие правила торговли? Я же в состоянии оплатить чек на сумму в 25 рублей? Я воспротивилась, но сердце у меня защемило от воспоминания.
Ленинград. 1946 год и начало 1947-го. Общежития меня лишили. Из техникума я ушла не только из-за сплетни той старухи, а от понимания, что это – не моя будущая профессия. Теперь и хлебной карточки нет. Комната в коммунальной квартире. Это комната дяди Феди Корзова. Сам он живет у тети Шуры возле Московского вокзала на Лиговке. Через крошечное окно на уровне земли видны только ноги прохожих. В комнате одна кровать. Укрываюсь вместо одеяла своим пальто. На электроплитке тушу капусту. Боюсь, вдруг соседи узнают, что я трачу электроэнергию. Керосинки у меня нет. И не понимаю, что все видят, как вращается диск общественного счетчика, а запах вареной мороженой, без соли и масла, капусты проникает всюду. Вот они, эти ленинградцы, пережившие блокаду. Уехать обратно в Калинин не решаюсь. Что скажут затверецкие соседи? Да и денег для покупки билета нет.
Поэтому хочу идти работать на фабрику – кондитерскую. Почему на кондитерскую? Да потому, что там конфеты. Мне не повезло. Окно отдела кадров было закрыто. Да разве взяли бы на работу подростка? А если бы взяли? Моя жизнь потекла бы по другому руслу. Это и есть судьба. Куда приклонить голову? У Володи с Валей беда – умер новорожденный ребенок. У Володи туберкулез в открытой форме. Вспоминаю про Басуевых. Басуевы жили на Литейном проспекте. Жена Басуева встретила меня приветливо (самого Басуева уже не было в живых), много расспрашивала о жизни в провинции.
Басуевы, Басуевы! – зазвучала вновь симфония памяти. Потянулась струна воспоминаний на мамину родину – в Белоруссию.
Андрей Басуев – мамин двоюродный брат, я думаю, по ее линии. Я иногда спрашивала маму: «У тебя черные глаза, у меня тоже. У брата – голубые, прибалтийские, как у папы. Скажи, ведь прошла конница Мамая по нашей генетике?» И дядя Ефим, мамин родной брат, имел выразительные черные южные глаза, но не раскосые, не в виде щелочек. А фамилия Басуевы? Тут явно веет Востоком. В молодости у меня уголки глаз казались чуть приподнятыми к вискам. Время опустило их до разреза обычных русских глаз. В нашей наследственности где-то явно проявлялись законы Менделя.
На подобные вопросы мама ничего не могла ответить. В свое время она тоже не интересовалась наследственностью. Все как у обычных людей. Ведь только графы да князья делали записи, заказывали фамильные портреты своих предков. Больше имели для всего этого и средств, и времени. Да и образованности тоже. Так устроен мир. Да и сейчас в этом вопросе мало что изменилось. В основном только краеведы, музейные работники да писатели занимаются прошлым, но держат в этом курс на публично известных людей.
А вот про своих ухажеров мама рассказывала больше. Одному из них, молодому политработнику, в Гражданскую войну она так вскружила голову, что, получив отказ, он застрелился на кладбище. Впрочем, возможно, у него была другая причина.
Однажды мама флиртовала с руководителем музыкальной бригады Александровым, не исключено, что тем самым, что впоследствии стал знаменитостью. Мама была приглашена в гости. Это были двадцатые годы, с продовольствием туго, а потому не ждали богатого угощения. На столе сначала появились щи. Согласно белорусской традиции, ели щи не с хлебом, как у нас, а прикусывая картошкой. Мама хорошо поела. Потом по очереди пошли несколько «перемен». В те годы считалось: чем «перемен» больше, тем богаче стол. Одним словом, было подано более двадцати блюд. И с каждым разом все вкуснее и вкуснее. Смотрит мама на все, а есть уже не может. А не есть – значит, хозяина обижать. Это сейчас на стол ставят все сразу, потом принесут горячее, чуть позже наступает чаепитие с выпечкой, тортами и конфетами. В каждом историческом времени – свои правила и традиции. Нет больше винегретов. Настала мода разных салатов.
Был у мамы ухажер в Улле – есть такое местечко в Витебской области Белоруссии, это ее родина. Однако, приехав в Ленинград погостить у брата Ефима, мама познакомилась с его сослуживцем – демобилизованным моряком-латышом Рейнгольдом Яновичем Лагздынем. За него и вышла замуж, сбежав от белорусского жениха.
На этом повествование про гостевые обеды не заканчивается. Пригласили маму с папой в гости к Басуевым. На званом ужине первым подали суп. Гости съели все до капельки. Мама же, помня историю с белорусским угощением, чуть-чуть попробовав, отодвинула тарелку. Потом принесли еще чего-то, но очень мало. На этом ужин и закончился. Это были голодные послереволюционные годы, примерно 1922-1923 годы.
В 1924 году у моих родителей родилась дочь, но от холода она умерла в роддоме. Если бы не смерть моей сестры, не появилась бы я на свет. В 1928 году родился брат Феликс, через два года – я. После меня мама не оставляла на жизнь зарождающихся братьев и сестер. А их, по маминому счету, должно было быть еще четырнадцать.
Андрей Басуев был первым секретарем города Кронштадта. Когда в 1937 году арестовали моего отца, боясь ареста, он отказался от родства. Впоследствии, рассказывала жена Басуева, очень переживал. Умер рано, но не в застенках НКВД и не в муках, как мой отец и дядя Ефим.
Почему я сейчас вспоминаю эти события из маминой и своей жизни? Потому что пытаюсь понять, что происходило с каждым из нас. Оставшись в подростковом возрасте наедине с собой, я искала тепла в людях, в том числе и отцовского. Помню, как, идя по Затверечью, когда мне было лет восемь-девять, мечтала кроме мамы иметь пусть чужого, но папу. В возникшей ленинградской ситуации я вспомнила про Аркадия Степановича. Я знала, что когда-то он был неравнодушен к моей маме. Когда арестовали отца, мама пыталась спрятаться за его спину. Аркадий Степанович тогда работал поваром в ресторане. Но все боялись энкавэдэшной инквизиции.
И вот 1947 год. Закончилась война. Ленинград пережил блокаду. Адресами своих знакомых на всякий случай снабдила меня мама. В то время они редко менялись у коренных ленинградцев. Аркадий Степанович, как и прежде, жил на Старом Невском в коммунальной квартире. Как мне показалось, он обрадовался, увидев меня. В его взгляде я почувствовала что-то родное, отцовское. Но через минуту его поведение стало другим. Взглянув на меня еще раз, прикрыв за собой дверь в комнату, он быстро ушел и принес из кухни куски хлеба. Неужели он знает, что я голодная? И что у меня нет даже карточки? Он неловко сунул мне в руки бесформенную упаковку с торчащими из нее слишком зажаренными кусками. А во мне уже боролись два чувства: голодная потребность в пище и человеческое достоинство. Молча держу завернутые в тряпку куски. Отказаться? Но, словно загипнотизированная видом хлеба, не могу. Смириться? Тоже. Чувствуя все свое ничтожество, ухожу. Больше Аркадия Степановича я никогда не видела. Только голос его сожительницы, выскочившей в прихожую, словно скрежет старого ржавого корыта по ленинградской булыжной мостовой, помнила долго.
К слову...
Конфеты-подушечки
Подушечки обожает мой старший зять Николай Петрович Кулагин. У матери он был вторым ребенком из шестерых. Почти все дети были от разных мужей. После войны мужчин поубавилось, а женщины оставались женщинами. Вот и родили. Маме Николая предоставилась возможность выйти замуж, а Кольке – два года. Отдала в детдом, там он и вырос.
Сейчас мой Николай Петрович – состоятельный мужчина. Дальнобойщик. Всю жизнь за рулем, водил по стране двадцатитонку, чуть не пропал в Таджикистане, когда там случилась война, затем пересел на грузовую «Газель», выстроил каменный дом в Затверечье. Говорят: «На трудах праведных не наживешь палат каменных». А вот нажил! Только долго строил. Вместе с моей дочерью доращивали Машу от первого Елениного брака и вырастили совместную дочь Дарьюшку. Да и я строиться помогала, как могла!
При чем тут скрепки, маленький блок бумажек для наклеек? Мелочь для магазина, для меня. Но я их взяла для того, чтобы вновь прочувствовать всю остроту тех мыслей и написать эти строки. Пусть они будут напоминанием того, что в человеке должно быть на первом месте достоинство: и у взрослого человека, и у подростка.
Другое обыденное событие этого же дня. Магазинчик, на котором написано: «Мы открылись». Обычная надпись на обычной торговой точке. В магазине много разных конфет. Я люблю сладости. А еще люблю, чтобы моя большая хрустальная ваза, подаренная учителями, когда выходила на пенсию, была наполнена конфетами. А в нее, ни много ни мало, вмещается почти два килограмма. Эта привычка ее наполнять возникла в связи с работой в качестве руководителя детского музыкального театра. Дети часто бывали у меня, особенно когда театр располагался в школе рядом с моим жилищем. Мы пили чай, разговаривали на разные темы, было весело, радостно, а главное – сладко. И вот захожу я в магазинчик и вижу конфеты-подушечки.