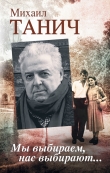Текст книги "Две жизни в одной. Книга 1"
Автор книги: Гайда Лагздынь
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
Я долго еду на грузовой машине. Подо мной какие-то мешки, на мешках сидят люди. Моркины Горы проехали. Почему Моркины? Что горы – понятно. Сначала машина влезала, потом съезжала с большой горушки. Уже темно, хочется спать и есть.
– Скоро Бежецк, – говорит соседка.
Вдали неясно вырисовываются невысокие дома, церковь. Мне страшно. Я еще никогда не уезжала из дома. Мне хочется назад. Машина останавливается и мигом пустеет. Одна в чужом темном городе? Мне становится не по себе.
– Что с тобой, девочка? – старушка ведет меня в одноэтажную больницу.
– Чего расселась? – рыкнула на меня женщина средних лет в белом халате, как только старушка ушла.
– Мне плохо...
– Гляди, какая больная! Меньше по ночам шастать надо!
Я тихо ухожу, как только сестра отворачивается к шкафчику. Бреду по темной улице, ищу многоэтажную больницу с огромными окнами, такую, какая была в Ленинграде, куда мы ходили с мамой. Нахожу, но совсем другую.
– Ну, как дела? – я открыла глаза. Кругом светло и солнечно. И нет пугающей ночи.
– Хорошо, – тихо отвечаю улыбающемуся врачу.
– Вот и ладно. Полежишь денек – и домой к маме. Маленькая, а тоже нервишки, – говорит врач, обращаясь скорее не ко мне, а к нянечке.
– Ну что, сдрейфила? – в коридоре ко мне подсаживается белая рыхлая, с наглыми глазами, девица. – Куда едешь?
– К знакомой в деревню, – отвечаю я и рассказываю про «луковую» тетю.
– Да брось ты эту чужую бабу! Поехали ко мне! Я тут под городом живу. Вещи-то у тебя есть?
– Есть мешок. Там мыло.
– Мыло – это хорошо. Золой надоело мыться. Мыло давай, чтоб тебе не тащить. Встретимся у входа в городской сад. Он у нас один.
На следующий день, напрасно прождав новую знакомую, уныло бреду от города в сторону деревни, где живет «луковая» тетя. В мешке у меня один клоун-раскидайчик. Двух девица выпросила, одного доктору подарила. Доктор смеялся, прыгал вместе с раскидайчиком на одной ноге, как мальчишка. Другой ноги у врача не было. Вместо нее – деревянная, выточенная из бревнышка. Доктор был на фронте.
Двадцать километров – путь небольшой, но хочется есть, и потому, наверно, по проселочной дороге не иду, а тащусь, плетусь нога за ногу.
«Так и надо! – сердито думаю я. – Вот сяду за стогом сена и буду сидеть до утра. Пусть волки съедят, раз такая растяпа, или с голоду помру». Обхожу стог, сажусь на землю и вижу перед собой большую желтую брюквину. Ее называют почему-то бухмой. Какая это была бухмина! Слаще ни до того, ни после этого не едала.
– Приехала? – заулыбалась «луковая» тетя, увидев меня. – Заходи! Отдавай мешок! Небось обголодалась? Сейчас драчену вытащу.
Тетя, все ее называют Марией, достала из печи драчену. Драчена румяная, аппетитно пахнет, нет сил видеть.
– Тетя Мария, а что такое драчена?
– Вот поешь, узнаешь, – смеется тетя Мария.
Я ем драчену.
– Это же картошка?
– Разве невкусно? – широко улыбается тетя Мария. – Спасибо коровушке да курочке, сдобрили.
От горячей драчены, от приветливой тети Марии мне делается очень хорошо. Я закрываю глаза и вижу огромное солнце. Солнце поднимается из-за леса медленно, осторожно ползет к вершине лохматой березы. Как блестят серебряные капельки росы на ее круглых листочках! Я прикладываю листики к щеке. Они липучие и прохладные, пахнут березовыми вениками. Надо мной склоняется мама и гладит ладонью по щеке. Я открываю глаза. Только гладит меня не мама, а утренние теплые солнечные лучи. Передо мной на жердочке сидит пестрый петух, косит на меня радужным глазом. Петух вдруг затрепыхался, захлопал крыльями и голосисто, со знанием дела, пропел утреннюю побудку.
– Проснулась? Ишь, с дороги как умаялась, за столом уснула, – улыбается тетя Мария, гремя в сенях косой. – Выспалась? Сейчас поедим и отправимся убирать сено.
– Эй, Мария! – кричит с улицы толстая рыжая бабка. – Председатель сказал, танк-то наш уже воюет!
– Какой танк, тетя Мария? – спрашиваю я, запивая картошку молоком.
– Тот, что мы всем бабьим колхозом купили. Ты думала, за лук мешок денег себе взяла? Нет, девонька! Мужикам нашим воевать помогаем. Пусть гусеницами давят этих гадов! Только вот с сеном управимся.
В поле женщины широко размахивали косами. Временами они останавливались, доставали из кармана какой-то плоский камень и начинали дзинькать по кривой сверкающей на солнце косе. Я вспомнила, как мы с братом заготавливали сено для козы. Но тетя Мария косы мне не дала, а велела деревянными граблями ворошить сено. Поворошишь, поворошишь, в траве поваляешься. А запах какой! Так бы и пил воздух. К вечеру еле пришла домой. Ломило ноги, руки и даже спину. Тут еще зуб привязался. Болит и болит.
– Вот что, – говорит тетя Мария, – ложись сегодня на лавку; тулуп возьми. Ноги согреешь, пройдет.
Подстелила я одну полу тулупа под себя, другой полой прикрылась. Только засыпать стала, как кто-то кольнул в ногу. А вот опять, уже в бок, в спину. Всю ночь вертелась в тулупе. Зуб так разболелся, что нет терпения. Встала, по избе хожу, зуб нянчу.
– Ты чего не спишь? – спрашивает тетя Мария.
– Колется что-то и зуб болит.
– Так это ж блохи?! Тулуп, поди, не выколотила?
Глянули в тулуп, а там блох видимо-невидимо. Черные, блестящие, так и прыгают, будто через веревочку скачут.
Прошло несколько дней, зуб не унимается, болит, врача в деревне нет. Насыпала мне тетя Мария в заплечный мешок жита, килограммов десять.
– Снесешь? – спрашивает.
– Конечно, снесу! – радуюсь я.
Председатель колхоза в город собирался ехать. Тетя Мария меня с ним и отправила. Быстро домчала нас в тележке лошадка, даже жалко, что деревня так близко от города. Высадили меня на Бежецком тракте.
А клоуна-раскидайчика я еще раньше тете Марии подарила.
Горести
На дороге скопилась пропасть народа. И все мешочники. Села я на лавку у дома. Дом чудной: окон нет, одна дверь. Видно, раньше здесь был амбар. Сижу. День прождала, машин нет. Те, что нагружены, пассажиров не берут. Пришла ночь. Мне уж не так страшно, как тогда. Люди кругом, на мешках сидят, дремлют. Я тоже за мешок свой держусь. Смотрю, в чудном доме открывается дверь. Дверь широкая, как ворота. Зовет меня молодая женщина:
– Заходи! Ну чего чураешься? – А мне боязно, за мешок с житом еще крепче держусь. – Да ты не бойся! Нужен мне твой мешок! Иди, ложись.
Осмелела я. Захожу. Затворила женщина дверь. Стало очень темно. Женщина чиркнула спичкой, зажгла керосиновую лампу.
– Есть хочешь?
– Хочу. И пить хочу.
– Я так и думала. Несколько раз прошла, все сидишь. Куда собралась?
– В Калинин.
– А кто там есть?
– Мама, брат.
– Отец на фронте?
– Мы не знаем, где он. Мы из Ленинграда. Говорят, на Дальнем Востоке. Он в тридцать седьмом арестован.
– Понятно, – тихо вымолвила тетя Наталья. – А мы – беженцы из Украины, – кивнула головой в сторону угла. Там на кровати лежали старая женщина и маленький ребенок.
– Вот только и осталось от большой семьи, – женщина тяжело вздохнула.
– У нас никого на фронте, – продолжала я. – Всем письма пишут, а нам нет.
– Спокойнее. Но пишут не только письма, – добавила женщина. – У нас пятеро на фронте. Все время душа болит. – Немного помолчав, спросила:
– Как это твоя мамка решилась одну отпустить?
– Голодно. Тетя Мария звала. Брат и мама не могут. Мама сказа: «Все лишний рот долой». А потом я – большая. Мне скоро четырнадцать лет!
– То-то и оно, что большая. Время еще такое, нельзя расставаться. А потом... Да ладно. Вот суп. На тарелке – хлебушек.
Я никогда никому не рассказывала о своем отце. Может показаться, что я совсем не думаю о нем. Это – неправда. Все, что светлое от детства, – все от него. Что случилось в Ленинграде до войны, я долго не понимала. Два чувства всегда были рядом: любовь к отцу и страх перед кем-то. Этот страх появился сразу, как только остановился поезд, на котором мы уехали из Ленинграда. Страх, что у нас нет дома, что нас выгоняют из детской комнаты при вокзале. Страх, который повторялся из месяца в месяц более трех лет, когда, взяв узелок с вещами и едой, уходила мама отмечаться в комендатуру НКВД. Иногда она брала нас с собой. Мама смотрела на меня и брата глазами, полными слез и тревоги, словно в последний раз. Она, оказывается, выслана из Ленинграда как жена врага народа. Это было страшно произносить вслух. Значит, и мы – дети врага народа? Мы знали, что произошла ошибка. Ошибку нашли бы, но началась война. Мы ждали и боялись. Потому я никогда никому не рассказывала своем отце.
Рано утром тетя Наталья, растолкав желающих уехать, посадила меня на грузовую машину. Кузов машины был засыпан картошкой. На картошке сидели мешочники. Я, вцепившись одной рукой в кузов, другой в мешок с житом, сидела у самой кабины. Замелькали деревни, поля, машина неслась в сторону дома. На душе было хорошо и весело. Проехали почти половину пути, когда на дороге показалась одинокая фигурка. Тощая старушка поднимала руку.
– Некуда! – Крикнул шофер, притормозив возле бабки.
– Заплачу! Хочешь яичек? Вареные! – крикнула, старушка. Конечно, шоферу яичек захотелось. – На, родимый, тут пяток. Ешь на здоровье!
– Бабка, а нас двое, – недовольно буркнул шофер. – Неровно.
– Поделите, – шмыгнула носом старушка, проворно влезая на машину.
Вскарабкавшись в кузов, новая пассажирка протиснулась в середину. Нос большого чайника с творогом уперся в толстую ногу соседки. Машина набирает скорость. Сбоку каменки – глубокая канава, смотрю то на дорогу, то в кабину. Шофер пытается разломить вареное яйцо.
Оно выскальзывает из рук. Еще миг – и машина летит в сторону канавы. Я тоже куда-то лечу и больно шлепаюсь на землю. Рука судорожно отыскивает мешок с житом. Мгновение или вечность. Не пойму, что случилось! Оглядываюсь по сторонам. Среди рассыпанной картошки лежит женщина с разбитой ногой. Валяется чайник, из которого вывалился белый творог. С носика чайника капает кровь. Кругом стоны. Машина – вверх колесами.
В каком-то забытье иду вдоль дороги не оглядываясь, таща на плече свой мешок. Сколько иду, не помню. Очнувшись, сажусь около кустов. Мимо по дороге едут машины. Не прошусь, да и денег у меня нет. Что были, отдала шоферу. К ночи добрела до деревни. На окраине, возле сараев, меня догнали две женщины. Они катили перед собой тележку. На тележке – мешки.
– Чего такая понурая-каурая? Ну-ка, давай твой заплечник! – веселые женщины подхватили мое жито и бросили в тележку. – Не ленись, помогай! – Я вцепилась в деревянную ручку и пошла рядом.
Небо заволокло тучами. Стало быстро темнеть.
– Вот что, – сказали женщины, – ты тут постой, покарауль вещи, а мы пойдем поищем ночлега.
В деревне темно. Может быть, спят, а может быть, хорошая светомаскировка на окнах? Я стою, прижимаясь к тележке, вслушиваюсь в темноту. Смотреть некуда. Темно так, будто на тебя надели черный мешок. Ни луны, ни звезд. Ночь тихая, теплая. Где-то лает собака. И вдруг, перед самым носом, лицо в круглых больших очках. Еще мгновение – и душераздирающий страшный вопль, вопль ужаса и страха. Это кричу я. Ко мне подскочили перепуганные женщины. Они оказались рядом. Женщины стали успокаивать меня. Я до сих пор не знаю, была это явь или видение моего утомленного всеми событиями мозга. Вскоре мы сидели в освещенном доме и пили чай. Потом спали на полу на мягких перинах. Утром я встала рано-рано и, захватив мешок, тихо ушла. Мне было стыдно за свои ночные крики перед хорошими тетями и гостеприимными хозяевами, которым они все рассказали.
Как я узнала потом, в тот день я прошла почти тридцать километров. Иногда присаживалась возле обочин, ела малину. Ягоды на солнцепеке хорошо вызрели, были крупными, сочными. Солнце, румяное и горячее, все ниже и ниже склонялось над землей. Я останавливалась. Порой мне казалось, что больше не смогу сделать и шага, но собиралась с силами, шла дальше. Неожиданно увидела пастуха. Вихрастый мальчишка сидел за кустами, строгал ножиком палку.
– Хочешь молока? – спросил незнакомец.
– Хочу, – отозвалась я тихо и села.
За кустами коровы щипали траву. Было слышно, как они жуют. Пастух взял банку, подошел к пестрой, погладил ее, стал доить.
– На, пей! – молоко было теплое, почти горячее, пахло травой и коровой. – Хорошая у нас Пеструха, правда?
– Твоя?
– Наша. Значит, и моя. Мамка разрешает мне ее дома доить.
– А как же сейчас? Немножко нельзя!
– Нельзя, но ты же голодная?
– Почем знаешь?
– Вижу. А я в Змееве живу.
– Это же рядом с Калинином! – обрадовалась я. – Значит, дома.
– Пять километров еще. Но считай дома, – согласился пастух. – А то оставайся, успеешь.
Но мне не терпелось. Сердце сильно сжималось как-то странно и необычно. При мысли о доме захватывало дух. Такого я еще никогда не чувствовала.
Хлебная болтушка
Работниц молочного завода, где работает мама, так как молока поступало мало, отправляли на лесозаготовки. Истощенные женщины еле тащили себя и растущих, вечно голодных детей. Спасая нас, мама увольняется с завода, не получает хлебной карточки, едет в более сытую часть нашей области – в Бежецкий район. К счастью, война не прошлась по этой земле, не выжгла деревень и сел. Жители не прочувствовали в полной мере всех ее тягостей, поэтому из Калинина и других мест потянулись изголодавшиеся люди обменивать вещи на муку, картошку, лук. Занимаясь портновским делом как самоучка, но со вкусом, мама переходила из дома в дом и обшивала их обитателей. Кормилась сама, а за работу брала натуроплатой – мукой. Привозила ее нам и снова уезжала. Из муки можно делать блины и другие хлебные изделия. Но не было масла. Поэтому мы с братом сотворяли болтушку на воде и варили ее в чугунке, поставленным на таганчик. Иногда мама привозила овес. Феликс молол его на жерновах, и мы ели овсяный кисель. Однажды в глиняном горшке, черпая деревянными ложками собственного производства, доедая кисель, обнаружили на дне утонувшую мышь. Это к слову. Но самое интересное было в том, что наша соседка по «вышке», где мы жили (а стена разделяла комнаты только болтающейся снизу обойной), при участии сына Игоря брала муку. Заходя к ним, мы видели, как они пекут блины. Тетя Рая, не смущаясь, говорила:
– Была на рынке. Вот и купила.
Мама же, возвращаясь домой, удивлялась тому, как мы смогли за короткий срок съесть столько муки. Догадывалась, но не сердилась:
– Они ведь с нами тоже делились, найдя в своем сарае целую бочку, плотно набитую какими-то хрящами?
Правда, это было зимой 1942 года. К тому же соседка спасла меня от слепоты. Мама была в отъезде, когда у меня загноились глаза, закрылись мешками, полными густой зеленой слизи. В больнице вывернули веки, промыли от гноя, чем-то смазали. Я не ослепла.
В госпитале
Наступил самый торжественный день в моей жизни. Меня и моих товарищей по классу принимают в пионеры. Мы выучили слова клятвы, подготовили галстуки из красного ситца, блестящие пионерские значки. На значках изображена поленница дров с языками пламени. Мне кажется, что уже чувствую на груди у себя горячий пылающий костер значка, который надежно скрепит углы красного пионерского галстука. Я волнуюсь: вдруг запнусь?! Не произнесу слов клятвы? Я хорошо выучила. От волнения делаюсь ярче пионерского знамени. На меня смотрят военные. Прием в пионеры проходит в зале подшефного госпиталя, который на Ленинградском шоссе. Собираюсь с духом и, чеканя каждое слово, произношу нужные слова.
Ребята нашего класса – частые здесь гости. Особенно я. Моя мама работает тут сестрой-хозяйкой. В проходной меня знают и пропускают как сотрудницу.
Снова наступила весна. Быстро тает снег. Учась во вторую смену, пытаюсь проскочить улицами, пока не пригрело солнце. Но с каждым днем солнце начинает светить все раньше и ярче, поэтому прихожу с мокрыми ногами. Калоши, что были сделаны на фабриках до войны, изношены. На производствах делают снаряды и прочую военную технику. Вся наша страна живет под лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!» Мама ставит набухшие валенки на печку. Я надеваю больничные тапочки.
В госпитале мы пишем раненым письма, старательно выводя буквы. Буквы у меня так и остались круглыми, широкими из-за тетрадей, сшитых из газет. Когда я появляюсь в палате, раненые начинают улыбаться, и обязательно кто-нибудь скажет: «Пришла веселая переменка! Спой, девчушка». И я начинаю: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий на берег крутой. Выходила, песню заводила...» Но сегодня петь не хочется. В коридоре на носилках лежит молодой десантник.
– Почему ему лицо простыней закрыли? – спрашиваю я санитарку.
– Умер, дочка, – отвечает тетя Нюра.
– У вас и умер?
– Ты думаешь, только на фронте погибают? Умирают и в госпиталях. Там еще один на ладан дышит.
Мне необходимо взглянуть, как «дышат на ладан». Я тихонько пробираюсь в одиночную палату. Под тонким одеялом лежит человек. Но почему он такой короткий? Входит тетя Нюра.
– А где ноги?
– Оперировали. Гангрена, – санитарка поправляет мокрую тряпку, что лежит на лбу раненого. Раненый стонет, мечется.
– Ему больно? Я посижу тут?
– Посиди, дочка, посиди. Вот марлица. Намочи ее, как высохнет. Сохнет марля быстро. Раненый очень горячий.
Теперь почти каждый день до начала занятий пропадаю в госпитале. Сижу возле раненого, помогаю кормить. В последние дни дяде Саше стало чуть лучше. Он даже иногда стал слабо улыбаться. Потом приехала жена дяди Саши – Анастасия, краснощекая, чем-то похожая на Зинкину маму. Анастасия плакала в коридоре, била себя в грудь и причитала: «Ах, горе, горе, горе, горе! Зачем мне такой мужик нужен? Что безногому в деревне делать? А-а-а!» Но когда главврач предложила Анастасии подписать бумагу об отказе, о согласии отправить мужа в дом инвалидов Отечественной войны, она разбушевалась.
Анастасия ворвалась в палату, завернула дядю Сашу в одеяло и, как ребенка, понесла. Ее еле уговорили повременить, еле успокоили. Через месяц дядя Саша с Анастасией уехали домой.
– Вот и хорошо, что поехали, – вздыхала тетя Нюра, вытирая слезы. Мне же грустно и печально, будто я потеряла близкого человека.
Письмо
В августе пришло письмо: «Здравствуйте, дорогие наши соседи Фаина, Феликс, Гайда! Пишет вам Леля из Ленинграда. Низко кланяемся. Вот и Сашка просит передать вам привет. Ваше письмо получили. Шло долго. Живем мы сейчас не на Прядильной улице, а на Васильевском острове, ближе к работе. Мы ведь с Сашей трудимся на заводе. Теперь и стар и мал – труженики тыла. Делаем то, что нужно фронту. В Ленинграде неспокойно. Наши работницы шутят: ночью как на вулкане, днем как на дрожжах. Голод пережили, блокада города прорвана. Счастливы – не описать. А как выжили, страшно вспоминать. Многие из нашего дома померли. Баба Маня и ее дед. Фрося жива. Дядя Федя воюет. Нюра с Нонной и младшеньким сыночком Борей умерли с голоду. Дворничиха с сыночком тоже. Вовку насмерть придавило стеной рухнувшего дома. Генка-артист на фронте, сбежал малый. Вот такие дела. Трудно сейчас всем, но мы не сдаемся. Ленинград живет, борется против фашизма. И мы, ленинградцы-блокадники, помогаем как можем. На том и кончаю писать. С низким поклоном Леля и Саша. Июль 1944 года».
Вот и нет моей подружки Нонны, друга детства Вовки. И нашей наставницы дворовой. Генка на фронте. Наверно, в разведке. А где Петька? Надо написать тете Леле.
Шарик
Колька – озорник, но хороший товарищ. Мы дружим с Колькой. Жулька – наша собака. Вернее, она ничейная. Просто мы ее кормим. Под нашим крыльцом у ней гнездо, там щенки. Вчера они вышли за матерью, и ребята их расхватали. Колькина мама разрешила Кольке взять одного.
У Кольки – розовый щенок. Мы назвали его Шариком. Шарик похож на мягкую теплую игрушку. Он тихо лежит на плече у Кольки. Из-под лохматого рыжего лба смотрят два блестящих глаза, как две коричневые пуговицы. Хвост у Шарика короткий, смешной, с закорючкой. Щенок дает себя гладить, перекладывать с места на место, заворачивать в стеганку. Мы все свободное время играем с Шариком, учим служить, носить вещи, таскать портфель. Пес быстро растет. Он громко лает и бегает по комнате. Колькина бабушка ворчит:
– Опять на диване шерсть! Зачем собаке бегать по столу? И вообще зачем держать в комнате собаку? Собака должна жить во дворе, охранять дом.
– Хорошо, – заступается за Шарика Колькина мама, – вот подрастет, станет большой собакой, будет жить в будке.
Да, мама у Кольки замечательная, решаем мы и начинаем строить Шарику во дворе будку.
На следующий год весной Шарик неожиданно стал толстеть. Когда мы его хватали и тискали, он огрызался.
– Да ну его, – сказал Колька. – Характер у Шарика совсем испортился.
– Дорычишься, – говорит Игорь, – раньше за нами бегал, а теперь торчит возле будки.
– Наверно, заболел, но нос мокрый, не сухой, – недоумевали мы.
Но потом Шарик стал вести себя очень странно. Он крутился возле наших ног и скулил.
– Ты чего? – спрашивал его Колька, а Шарик плакал.
Потом он лег на бок и стал повизгивать. Живот у Шарика каменный, твердый. Потом Шарик стал крутиться и жаться к нам, заглядывать в глаза, словно о чем-то прося.
– Ну что ты, Шарик? – погладил его Колька и вдруг воскликнул: – У Шарика под хвостом что-то растет!
Это был щенок. Голова у щенка была большой и никак не вылезала. Мы принялись Шарику помогать. Потом из Шарика вылезло еще четыре щенка.
– Вот тебе и Шарик! – сказал Игорь, – не Шарик, а целая Жучка!
Осень 1944 года
Темным августовским вечером Феликс сказал, что в школу не пойдет.
– Сейчас все, кто может, – громко заявил брат, – работают. Колька Свистун второй год трудится. А я что? Маменькин сынок? Мне скоро шестнадцать! У нас и девчонки идут работать, – кивнул он в мою сторону, – кончится война, образование получим!
– Ладно, – неожиданно согласилась мама, – но сестру не агитируй, мала. Пусть седьмой заканчивает!
Теперь наш Феликс – рабочий класс. Он учится в ремесленном училище. У него форма и рабочая карточка – пятьсот граммов хлеба.
Самая модная сейчас одежда – стеганка. Все ходят в стеганках, даже на ноги шьют стеганые сапожки или шубники из бараньих тулупов. На валенки, стеганые сапожки или шубники надевают баллоны. Баллоны – склеенные из автомобильных шин калоши. У меня красные баллоны. Я ими горжусь. Это считается красиво. Вместо пальто, у которого под воротником спереди и на рукавах болтались ленточки из ткани, теперь у меня стеганка.
– Главное, – говорит мама, – тепло и ноги сухие.
У мамы тоже появилась обнова. Простые люди Америки решили помочь русским, пострадавшим от войны. Прислали свои старые вещи: пальто, платья, обувь. У мамы американское пальто из черной кудрявой ткани, но главное в нем – воротник. Воротник светло– коричневый, с коротким мехом. Он сделан из обезьяны. Пальто висит в комнате на гвозде. Все соседи приходят взглянуть на обезьяний мех. Мы тоже без конца гладим воротник. Интересно же: не овца, не кролик, а обезьяна.
– Хороший воротник, – сердито говорит тетя Рая, – лучше бы второй фронт открыли. Чего тянут? Обезьяны, обезьяны...
Урок зоологии
– Зоо, – говорит учительница, – на латинском языке означает животное. Логос – наука. Отсюда зоология – наука о животных.
Мы любим уроки зоологии и учительницу Любовь Петровну. Мне кажется, что Любовь Петровна боится мышей. А может быть, и не боится. А вот лягушек терпеть не может. Сама призналась: не люблю, больно глупые. На уроках у нас часто бывает весело, такой вот предмет. Ребята нет-нет да кого-то принесут. Однажды Витька притащил ужа. Уж сидел в полевой сумке. Сидеть в сумке ужу надоело, и он вылез. Все страшно перепугались. Девчонки стали визжать и кричать на Витьку.
– Убери ты эту гадость! – сказала Любовь Петровна.
– Разве это гадость? – удивился Витька. – Это – уж. Вы же сами говорили: полезное животное.
– Вот возьми это полезное животное и отнеси в лес, а не мучай.
– Сейчас?
– Сейчас нельзя, на улице мороз обещают. Уж погибнет.
– Понял, – сказал наш единственный нахал в классе Витька, – ну я пошел? – и вылетел с ужом и с полевой сумкой из класса.
А вчера Витька притащил ворону. Ворона важно разгуливала по классу, как будто здесь всегда и жила. Потом ворона взлетела на полку и стала долбить клювом, как долотом, скелет кролика – школьный экспонат. Любовь Петровна страшно возмутилась и выгнала ворону из класса в коридор.
Сегодня на уроке зоологии тихо. Мы сами работаем с учебником. Любовь Петровна получила похоронку. Погиб ее единственный сын Володя – выпускник нашей школы. Любовь Петровна сидит за учительским столом как каменная, только руки дрожат.
Школьный вечер
На школьный вечер к нам пришли гости – учащиеся фабрично-заводского училища, сокращенно ФЗУ. Сначала была лекция, потом танцы под баян. Но так как многие не умели танцевать, решили играть в почту. Каждый на грудь прикрепил номер. У меня тринадцатый. Почтальоном работает Женька Попова. Женька толстовата, но проворна. Мне нравится один мальчик – высокий, кудрявый, под номером десять. Мне хочется с ним познакомиться. Мне с пятого класса хочется познакомиться с кем-то. Мальчишки-одноклассники меня не интересуют, а старшеклассники смотрят на меня как на «малька». И вот появилась возможность завести дружбу.
– Жень, а Жень! – спрашиваю я. – Что надо писать, если хочешь познакомиться?
– Что хочешь, то и пиши, – быстро отвечает Женька.
– Стыдно самой.
– А ты не ставь свой номер! Пусть подумает, кто написал.
– А почему не ставить? – глупо спрашиваю я. – Я ведь познакомиться хочу.
– Тогда ставь, – Женька торопится, в сумке у нее много писем.
Я в нерешительности смотрю по сторонам. Девчонки пишут, мальчишки слоняются по залу, рассматривают плакаты. Женька бегает, собирает записки, передает адресатам. И все тому высокому кудрявому под номером десять. Я останавливаюсь у окна и на клочке бумаги вывожу три слова: «Вы мне нравитесь». Своего номера не ставлю. Записку пересылаю почтой маленькому худенькому мальчику под номером восемь. Ему никто не пишет. Мне – тоже.
Знакомство
Скоро меня будут принимать в комсомол. И вот первое поручение – стать пионервожатой в классе. Пришла знакомиться, подшучиваю над собой, а сама сижу на последней парте и думаю: «Вот бы мне стать вон той девчонкой с белыми косичками, с остреньким носиком и большими голубыми глазами. У ней, наверно, маленькие ноги, не то что у меня». Я смотрю на свои, с острыми коленками. Хозяйка голубых глаз вдруг повернулась и показала мальчишке, сидящему на другом ряду, язык. Язык тощий, узкий, похож на розовую змейку.
«Нет, – решаю я, – лучше буду вон той девчонкой, что сидит на первой парте перед учительским столом. Наверное, ее звать Наташей или Олей». Выбранная мной девочка внимательно слушает учительницу. Две толстые темные косы спокойно лежат на треугольнике отглаженного красного галстука. Я пытаюсь заглянуть в себя. Я уже чувствую: это я. Значит, что получается? Продолжаю размышлять. Человек не может стать другим человеком. Я ведь не могу поменяться с этой Наташей или Олей собой, быть ей?
Из мысленных рассуждений меня выводит звонок. Учительница, взяв со стола журнал, уходит. Я остаюсь в чужом классе. Вокруг меня собираются ребята.
– Ты чего у нас сидишь? – спрашивает вихрастый мальчишка. – Второгодница?
– Нет, – отвечаю я, – не второгодница. А сижу – значит надо.
– Переростков всегда на заднюю парту сажают, чтобы доску не загораживали, – добавляет похожий на первоклассника ученик.
– Дурак ты, Гаврошка! – говорит вихрастый.
– Конечно, дурак! – поддакивает девочка с острым носиком и выпуклыми голубыми глазами, опять показывая Гаврилову тонкий розовый змеиный язычок.
– Если не второгодница, то зачем у нас сидишь? – степенно выговаривая каждое слово, спрашивает круглый, похожий на мяч мальчишка.
– Знакомлюсь, – отвечаю я. – Буду у вас вожатой.
– А-а... – произносят ребята и разбредаются по своим делам. Немного потоптавшись в классе, я отправляюсь в коридор. Через урок начнется вторая смена. Я стану ученицей. Называется, познакомилась... Плетусь по коридору. Навстречу, толкаясь, мчатся перваши, расшалившиеся вчерашние детсадовские.
«Вот бы меня к ним, – уныло думаю, стараясь скользить вдоль стены. – С ними бы я справилась. А то – пятиклассники».
Меня догоняет девочка с темными косами и отутюженным красным галстуком.
– Ты чего ушла?
– А что делать?
– Как это что? Делаться пионервожатой! Ты в каком классе?
– В 7а.
– У нас из 7б была вожатая, – продолжала девочка с косами, – Мария Ивановна к нам ее привела, показала – и все. Больше не приходила.
– Так она уехала! Теперь меня к вам комитет комсомола вожатой назначил.
– Знаешь что, – продолжала пятиклассница, – давай делайся вожатой! Я тебе буду помогать. А то, понимаешь, мне одной трудно. Звеньевые есть, совет отряда есть, давай, а? – черноглазая девочка умоляюще глядела на меня. – Я – Таня. А тебя как?
– Лялька я. Лялькой меня с детства зовут, – покраснела я.
– Лялькой – не надо, – рассудительно продолжала Таня. – Сейчас что делать будешь?
– Так, – уклончиво бормочу я. – Скоро уроки.
– Пойдем еще раз к нам! Я ребятам скажу, чтобы с вопросами не приставали. Пойдем? – и Таня потащила меня по коридору обратно в класс.
Я опять сидела на последней парте и слушала учительницу. Учительница то и дело поглядывала в мою сторону, словно хотела что-то спросить. Глаза у ней серые, строгие, волосы на голове лежат красивым валиком. Она водит длинной указкой по карте, показывая то Грецию, то Испанию. Пятиклассники изучают древнюю историю.
«Как хорошо в пятом классе учиться, все понятно, – думаю я. – Не то что в седьмом. Учишь, учишь, а станешь отвечать, заикаться начинаешь».
Словно подслушав мои мысли, учительница сказала:
– История любит, чтобы ее повторяли и повторяли, такой предмет. Поэтому к следующему уроку, кроме основного параграфа, прочитайте и такие. – Учительница стала записывать задание на доске. – А сейчас, сказала она, обращаясь к классу, – я попрошу вас ответить: что нового вы узнали на уроке?
Я начинаю волноваться. Вдруг и меня учительница спросит? А я вдруг не отвечу? Что тогда? У себя в классе – другое дело. Там можно и глупость ляпнуть. Там свои, поймут. Наш Антипод, так тот специально что-нибудь напридумывает, чтобы посмешить всех. У него все наоборот. Катод на физике он обязательно назовет «Анюткой», а анод «Катюшкой», треугольник – квадратом, а прямоугольник – тупым углом. На геометрии биссектрису назвал крысой. А вот перпендикуляр однажды спутал с окуляром. На перемене честное слово давал, что не нарочно. А может быть, и правда не знал? Слышал звон, да не знает, где он. Вот и выдал! Антипод у нас такой! Все по колено!
От воспоминаний меня оторвал голос учительницы. Она стояла около парты, за которой сидел Гаврошка. Но Гаврилова за партой не было.