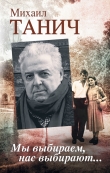Текст книги "Две жизни в одной. Книга 1"
Автор книги: Гайда Лагздынь
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 45 страниц)
– Не будем. Глупа ты еще.
– Не глупа. Мне семь лет. Я все понимаю!
– Не все, значит. Да где тут понять? – и мама начинает снова плакать.
Потом мы едем на поезде. Брат спит на верхней полке, я – на нижней. Потом брат падает, и мы уже не спим.
– Скоро наш город Калинин, – говорит мама.
– Наш? А Ленинград разве не наш город? – удивляюсь я.
– И Ленинград наш. Вы там с Феликсом родились. Там ваша родина, – вздыхает мама.
Никто нас здесь не ждет и не встречает. Живем мы на вокзале в детской комнате уже третий день. Наконец мама нашла квартиру.
– Разве бывают квартиры в маленьком деревянном домике? – снова удивляюсь я.
– Как видишь, бывают, – говорит мама, – очень даже хорошая квартира, главное – теплая.
На улице около сорока градусов. Наступил морозный январь 1938 года. Мы живем за Тверцой на Новобежецкой улице.
В нашей квартире всего одна комната, и та проходная. Около малюсенького окошечка две кровати, больше ничего не помещается. В большой кухне – огромная печь. Все ее называют «русской». На печке можно даже сидеть босиком. Очень хорошая печь. У тети Симы и дяди Коли, наших хозяев, есть сын Колька и дочка Симка. Они старше нас, но с нами водятся. Нам очень хорошо у тети Симы. Мы часто едим клюквенный кисель и печеную картошку. В Ленинграде мы такого не ели.
Мама отвела меня в детский сад. В саду много полосатых чистых половичков, деревянных скамеек.
– Какая черноглазая, – говорит воспитательница. – Дети, это ваша новая подружка.
Воспитательница уходит. Ребята обступают меня и выщипывают мех из воротника и шапочки. Я хочу зареветь, но не реву – стыдно реветь. Какой-то мальчишка-коротышка хочет ткнуть мне в глаз пальцем. Я запускаю ладонь в ершик, торчащий на его голове, и дергаю мальчишку за волосы. Мальчишка ревет и больше не тычет пальцем в мой глаз.
А вот и выпускной утренник. У меня на голове большой шелковый голубой бант. Бант тяжелый и скользкий. Я все время боюсь его потерять. На низких скамеечках сидят родственники: мамы, папы, бабушки, дедушки. Моя мама на работе. За родственника сидит брат. Ему уже десять лет. Незнакомая тетенька раздает будущим первоклассникам подарки: портфель, букварь, пенал. В пенале – ручка с блестящим перышком, перочистка и резинка. Мне подарка нет – я дочь врага народа.
Зарубинки памяти останавливаются на тетрадках по чистописанию, на бесконечных строчках с буквами и кляксами. Большие и маленькие кляксы меня преследуют. Из-за них приходится переписывать снова и снова. Все говорят: ранняя зима. Хоть и ранняя, а злая. Мы давно не живем у тети Симы. Когда у нее родился Павлик, в доме стало тесно. Мы переехали к Елене Петровне – старой-престарой бабушке. Домик у бабушки в два окошка, совсем крошечный. Одно окно смотрит в одну, другое – в другую сторону. Но куда ни посмотришь, везде огород, а за огородом – высокий забор.
Окно в нашей комнате сильно заморожено. За ночь стало холодно, как на улице. Мама ушла на работу. Я надеваю пальто, натягиваю рейтузы, которые пузырятся на коленках, повязываю платок. Платок все время развязывается или съезжает на затылок. Я не умею носить платок! А капор мой с лентами-завязками износился.
На улице воздух такой белый, замороженный, что трудно дышать. Держа в руке портфель, шагаю в школу. Сначала замерзает нос, потом щеки и лоб. Уши под платком от холода поламывает. Временами останавливаюсь, ставлю портфель на снег, засовываю руки между коленок. Под тонкими рейтузами ноги начинают постанывать. От прикосновения мороженых рукавиц делается еще холоднее. Я стараюсь идти быстрее и совсем замерзаю.
«Скоро школа, там согреюсь, – думаю я. – Тетя Нюша-истопница, небось, печки хорошо натопила». Но школа оказывается закрытой. На дверях висит записка, из которой ясно, что занятия отменяются из-за сильного мороза. Значит, надо идти домой. Думаете, рада? Мне хочется плакать, но я не плачу. Я ставлю портфель на обледенелое крыльцо и тру рукавицами щеки, лоб, особенно нос. Надо бежать. Но бежать трудно, ноги окоченели, не слушаются, мороз перехватывает дыхание. Плетусь назад, останавливаясь и засовывая руки в рукавицах под мышки и между коленок. Тонкое пальтишко насквозь промерзло. Сегодня сорок пять градусов.
В нашем маленьком домике тепло. Бабушка Елена Петровна уже истопила печку, вскипятила самовар. Я пью чай и оттаиваю.
И все же я заболела. «Двустороннее воспаление легких, – сказал доктор, – надо срочно в больницу». На телеге, служащей «скорой помощью», меня привезли в небольшое одноэтажное здание на Тверце. Кровавый закат, доброе лицо доктора Манефы Федоровны – вот и все, что сохранила моя память. День и ночь не отходила от меня Манефа Федоровна. Кризис миновал.
Я хорошо помню эту необыкновенную женщину с пышной темной прической. Когда началась война, Манефа Федоровна вместе с мужем ушла на фронт. Она была тяжело ранена и погибла, переплывая Днепр. Позднее погиб и ее муж – врач-хирург Николай Петрович. Но сегодня еще не война. Наступило лето тысяча девятьсот тридцать девятого года.
Рассказано по случаю...
Приехали в Калинин вместе с Лелей Селенис и ее сыном Альфредом – Аликом, как я называла его всю жизнь. Они тоже репрессированные. Впоследствии Альфред Валентинович работал директором школы в Санкт-Петербурге. Мой брат Феликс Рейнгольдович Лагздынь был ведущим инженером по дальним космическим связям тоже в Санкт-Петербурге.
Когда остановился поезд и из теплого вагона мы вышли на перрон, нас сковал не только страшный мороз, но и ужас: «Куда теперь?» Нам позволили остаться в детской комнате вокзала. Здесь мы и прожили несколько дней. Приехали мы 17 января 1938 года Мамы сразу ушли отмечаться в органы НКВД. Там им сказали:
– В Калинине высланных не оставляем. Следуйте в Лихославль.
Выброшенные из обычной жизни, измученные, без средств к существованию, доведенные до отчаяния, наши матери, уже ничего не боясь, заявили:
– Не дадите разрешения, приведем своих детей к вам, а сами – под поезд!
Остаться разрешили, но из вокзального помещения предложили уйти. Куда? Чужой замороженный город.
К счастью, он оказался не таким уж и холодным. Помогли рабочие вагоностроительного завода. Николай и Серафима Парменовы жили в Затверечье в небольшом домике по Новобежецкой улице, ныне Шишкова. Своих детей двое: Колька да Симка. «В тесноте, да не в обиде!» Приютили, отвели нам проходную комнату с двумя кроватями на пятерых.
Затверечная Новобежецкая улица в будущем была наполнена и другими событиями. После освобождения города от фашистских оккупантов нас как погорельцев поселили в доме №8 на «вышке» на этой же самой улице. Отсюда я ходила в школу, уезжала учиться в Ленинград, возвращалась, окончила педагогический институт, выходила замуж, сюда принесли с мужем-сокурсником новорожденную старшую дочь Елену, здесь вскапывались в огороде грядки, чинили старый, с коляской, мотоцикл М-72. В восьмиметровой комнате с крошечной кухонькой два на два с половиной метра жили вместе свободные и счастливые пятеро людей. Это жилище с 1941 по 1957 годы вобрало шестнадцать лет моей жизни.
Мороженое – не мятная таблетка
Мама работает на молочном заводе, что расположен рядом с церковью у Тверецкого моста. Как я узнала, уже будучи взрослой, церковь эта – Троицы, что за Волгой. Она недалеко от здания Калинингражданпроекта.
Под боком молочного завода, то есть под боком церкви, в довоенные и послевоенные годы складировали прозрачные куски льда размером примерно метр на метр. Зимой были такие морозы, что воды Тверцы, несмотря на большую скорость течения, промерзали на большую глубину. Ледяные кубики пересыпали древесными опилками. Ни холодильников, ни тем более холодильных предприятий тогда не существовало. В частных домах пищу хранили в подполе или в колодце.
Этим льдом в течение теплого времени и охлаждали молочные продукты. Нас, детей, больше интересовали продавцы мороженого. У каждого из них в тележке был насыпан кусочками лед. Продавщица вкладывала в формочку кругленькую вафельку, из бочоночка, стоявшего во льду, брала ложкой мороженую массу и намазывала вафельку, прикрывая сверху таким же крошечным кружком. Толчок ладонью – и вот вам лакомство диаметром в пять-шесть сантиметров. Мы часто смотрели, как покупатель, вертя большим и указательным пальцами белую, круглую, похожую на большую таблетку, порцию мороженого, лизал его. Мороженое было только одного сорта и дорогим удовольствием.
Кстати...
А еще в памяти остался мужчина с бульдогом. Хозяин покупал порцию за порцией, сам не ел, а клал холодную тающую вкуснятину на высунутый язык своего любимца. Мы завидовали собаке, прячась, корчили бульдожке рожи. В те времена зимы у нас были очень холодными, а летние месяцы – горячими.
Хочу сказать, что тогда лекарства были не в виде таблеток, а в порошках, расфасованных в бумажные пакетики. Кроме порошков были микстуры. И все, как правило, надо было заказывать. Аптекари сами готовили лекарства, словно аптека была маленькой фармацевтической фабрикой. Поэтому аптеки всегда имели свой специфический запах. Лекарства выдавали только по рецепту врача. Но были в аптеках и таблетки – мятные, дешевые, без рецепта. Мы их покупали как сладости. Не очень, но все же!
Графская дочка
Кто-то нам сказал, что Елена Петровна – графская дочка. На ее комоде стоят всякие интересные вещицы. В золотой круглой витой рамочке – зеркало. Около зеркала пудреница. В ней золотая пудра. Рядом стоят игрушки из фарфора. Елена Петровна не разрешает их трогать. Мы только смотрим на них.
– Это – придворные дамы в кружевных одеждах, – поясняет нам мама, – и кавалеры с яркими звездами и пышными прическами.
На комоде лежит фарфоровое яичко, разрисованное разными цветами. Золотые кружевинки так горят и переливаются от электрического света, что хочется погладить и поковырять. Но и этого мы не делаем. Это очень большое испытание. А еще у Елены Петровны есть большой кованый железный сундук. На сундуке висит тяжелый замок. Что там в сундуке? Это – тайна. Елена Петровна никогда при нас не открывает сундука.
«Наверно, в нем живет старый граф, – решила я, – ведь хозяйка же из графской семьи?» Граф мне представляется какой-то большой фарфоровой куклой.
Дом наш стоит недалеко от Волги, где впадает Тверца. Это место называют «балочкой». На «балочке» – старинные церковные постройки. А напротив – Речной вокзал. Летом в жару мы пропадаем на реке. На высоком берегу в зеленой траве стрекочут кузнечики. Над белыми глазастыми ромашками летают стрекозы и бабочки. У воды из песка строим замки, валяемся, загораем, с визгом кидаемся в воду. Кто умеет, плавает. Я делаю вид, что плыву. Прыгаю на одной ноге, другой бью по воде. Я боюсь глубины, и все из-за Кольки Свистунова. А на берегу плавать не научишься. К вечеру холодает – август. От остывающей земли босые ноги начинают поднывать. Вспоминаю о своих единственных туфлях, что оставила на берегу. Туфель нет. А скоро в школу. Из дома выходит Елена Петровна.
– Ты чего, дитя, плачешь? – спрашивает бабушка Елена Петровна. – Я рассказываю о своей потере. – Не печалься, что-нибудь придумаем.
Она открывает свой сундук и не спеша вытаскивает разные вещи: ткани, платья, платки. На самом дне лежат красивые сапожки, черные туфли с пряжками и коричневые на каблуке. Коричневые пришлись мне впору.
– А где граф? – спрашиваю я.
– Какой граф? – удивляется старушка.
Потом мы узнали, что Елена Петровна вовсе не графская дочка. Жила она в прислугах у какой-то тверской барыни. Барыня и награждала за службу обносками.
Я была счастлива, что у меня такие красивые туфли. Но в них мне пришлось и в школу идти. «Зачем покупать другие, – сказала мама, – нога растет. А что каблук? Каблук совсем невысокий – школьный! А ты уже второклассница».
Сколько было и радостей, и огорчений из-за этих туфель! В школе на перемене в первые дни занятий я жалась к стене, прятала ноги. Вдруг начнут смеяться, что каблуки. Но мальчишкам было ни к чему, а девочкам туфли понравились. К тому же очень скоро один каблук сломался. Сапожник сделал новые каблуки – низкие. Только вот носы у туфель почему-то стали смотреть вверх.
Великая Отечественная война
– Вставай, поднимайся, пора-пора-пора! – пел пионерский горн.
В трусиках и майках мы вылетаем на берег Волги, делаем зарядку, умываемся. От утренней росы ноги становятся мокрыми. Свежее утро вместе с ослепительным солнцем бодрит, создает хорошее настроение. Вот сейчас застелим кровати, уберем дачи и, позавтракав, отправимся в лес собирать сучья для прощального лагерного костра. Хорошо живется в лагере, весело. Поем песни: «Каховка, Каховка, родная винтовка...», «Дан приказ – ему на Запад, ей в другую сторону, уходили комсомольцы на Гражданскую войну», затеваем разные игры. Особенно здорово играем в войну. А каких только историй не было! Раз проснулись, а в лагере ни одного взрослого, начиная с вожатых и кончая кухонными рабочими. Туда-сюда, нет никого. Смотрим – двое мужчин дрова пилят, незнакомые, бородатые. Спрашиваем: «Взрослых не видели?» А они молчат. Глухонемые. Около лагерной линейки горбатая старушка на скамейке сидит.
– Бабушка, никого из взрослых не видели?
– Не видела, родимые, не видела, – шамкает старушка, – сама поджидаю.
Высоко на столбе, как дятел, электромонтер. Мы к нему: мол, высоко сидите, далеко глядите! Все видно. А он кепочку на глаза и только отмахивается. Не до нас ему. Так мы и бегали впустую. Решили сами, раз нет повара, сварить обед. В кладовую полезли за продуктами. Тут работник, что дрова у кухни колол, глухонемой, как закричит голосом завхоза: «Не то берете! Кто обед из сладкого варит?!»
Вот так взрослые нас разыграли. Шамкающая старушка оказалась нашей вожатой. В рот кусок сырой картошки сунула, а под ватник подушку запихала. Все незнакомые были лагерными, только переоделись, бороды напривязывали.
Но сегодня слишком свежо, и слишком низко стоит солнце. Никак не поднимется, не оторвется от земли. Неужели горн ошибся? Рано проиграл?
Да, горн проиграл рано. Потому что над нашей страной гудели немецкие самолеты. Защитники Бреста вели смертельный легендарный бой против фашизма за свободу и независимость нашей Родины. Большое красное солнце видело всю огромную страну и тихую-сонную, и начинавшую истекать кровью.
Сказано по случаю...
Война застала нас в то время, когда после долгих скитаний по частным съемным углам мы оказались в двухэтажном доме на улице Кропоткина, возле Екатерининской церкви, которая в те годы была складским помещением. Первый этаж нашего дома – каменный, второй – деревянный. Каменная часть дома и сейчас сохранилась, там какая-то мастерская. В нашем доме жило много семей. Вода с Волги, туалет во дворе один на всех. Комнатушка с одним окном в углу и без печки. До сих пор не помню, чем и как нас мама кормила. Где готовила пищу? Где мылись? Где стирали вещи? Но мы были счастливы, потому что у нас наконец своя комната. Напротив, через улицу, – поликлиника в деревянном доме, слегка похожем на церковь.
Кто мог предположить, что через два с небольшим года, вернувшись из эвакуации, будем жить какое-то время в кабинете врача? Фашисты все сожгли, а этот дом уцелел, как и барак, где жили три сестры – тетя Шура, тетя Маруся и тетя Леля Гуляевы вместе со старым слепым отцом. Мама с ними дружила. И во время эвакуации мы были рядом. Тетушки Гуляевы, наверное, и помогали нам выживать. Помню, как младшая из них, сухонькая тетя Леля, на спор выпила сорок чашек чая с одной баранкой. Секрет был прост: в небольшую чашку она положила эту баранку. Баранка в горячей воде распухла. Таким образом, для чая оставалось мало места.
Оповещение о нападении фашистской Германии на Советский Союз оказалось для всех неожиданным. На Пожарной площади возле Тверецкого моста на высоком столбе укрепили репродуктор. Он похож на вытянутую, расширенную на конце трубу, напоминающую воронку, через которую в керосиновой лавке нам в бидон наливают керосин для керосинки. Только воронка репродуктора большая и глубокая. Репродуктор передает сводки Информбюро. Незабываемый голос Левитана. А какая сила звучала в первых аккордах гимна войны «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой черною, с проклятою ордой!»
Орда! Знакомое слово, созвучное с битвами русских за священную Русь, за свои земли, за свободу и независимость. Мы ни на кого не нападали, но «кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»! Вера в это была крепкой. И в нас, детях Великой Отечественной войны, сохранилась и поныне та же крепость духа. Выжившие на трехстах граммах суррогатного хлеба, на лебеде, крапиве и прочих добавках, по жизни мы оказались закаленными и сильными людьми, не только физически, но и морально. Потому и призываю я бабушек и дедушек больше рассказывать детям и внукам о жизни той поры. Сожалею, что будучи молодой и сильной, не думала об этом. И подсказать было некому. Сейчас бы маму расспросить, но поздно.
Колька Свистун
Кольку все называли Свистуном из-за фамилии. А может быть, и потому, что он умел пронзительно свистеть через два пальца. Колька – отчаянный мальчишка. Он один у тети Нюры. Тетя Нюра работает на молочном заводе истопником. Где и когда потерял Колька ногу, никто не знает, да и не спрашивает у Свистуна. Правой ногой ему служит деревянный костыль, и Колька бегает и прыгает почище нас. Колька хорошо плавает. Подбежит к Волге, бросит свою деревянную перекладину – и в воду. Не успеешь глянуть, а он уже на другом берегу. А еще Колька любит чужие огороды и сады. Достается ему от тети Нюры! Соседи сразу узнавали, чья это работа. На грядах оставались глубокие ямки от Колькиного костыля.
Время шло, Колька рос, но, как говорила тетя Нюра, не умнел. Проделкам его не было конца. То палку к окну привяжет и за веревку из соседнего огорода дергает. Бьет палка по ставенке, хозяина дергает. То поленницу дров на улицу со двора перетаскает. Ругали его взрослые. А мы привыкли к Кольке. Неинтересно гулять, когда Свистун дома сидит, уроки делает. Хоть и доставалось от него, но, как говорится, «вместе тесно, а врозь скучно». Тетю Нюру соседи жалели: «Шалопай-то твой растет! Скорей бы ума набирался. Все полегче будет!»
Уважать Кольку стали неожиданно. Сводки Информбюро сообщали каждый день невеселые новости. Вот и сегодня огромный репродуктор, что висел на столбе на Пожарной площади, известил: «После продолжительных и упорных боев нашими войсками оставлен город Орел!» Голос диктора Левитана звучал спокойно, но все знали, по себе чувствовали волнение говорившего.
Во время налетов мы прятались в укрытиях. Укрытия – щели, как их называли, – напоминали узкие норы. Взрослые рыли длинные ямы, обкладывали их досками, сверху делали настил.
– Коллективный гроб, – невесело говорили любители пошутить.
Район, в котором мы жили – Затверечье, – было сплошь застроено деревянными домами. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое октября 1941 года наш город усиленно бомбили фашисты. В узком темном укрытии было тесно и душно. Вот в напряженной тишине возник тяжелый густой звук. Звук приближался, нарастал. Это звук летящего бомбардировщика. Сердце начинает колотиться, сжиматься в комок. Многим женщинам делается плохо. И свист. Он усиливается, переходит в вой.
– Все, – шепчет мама, прижимая нас к себе.
Взрыв. Стены убежища содрогаются, сыплется песок.
– Не наша, – с облегчением слышен в темноте чей-то дрожащий голос.
И снова свист, и снова вой, и снова зловещая тишина, невыносимая тишина неведения.
– Горим! – вдруг закричал кто-то снаружи. – Выходите!
Во дворе светло, как днем. Полыхает соседняя улица Пленкина. Горит вся. Огромный костер вместо домов. Это фашисты в наш Затверецкий район с деревянными застройками накидали зажигательных бомб, осветили горящими домами, как факелами, город, чтобы было виднее бросать фугасные бомбы на большие жилые дома, фабрики, заводы.
Наш двухэтажный дом стоял невредимым. На крыше металась чья-то маленькая фигурка. Человек подбегал к краю карниза и бросал на землю шипящие крутящиеся палки – зажигательные бомбы, или, как их называли, «зажигалки». На крыше был Колька. Не раздумывая, все бросились на помощь, засыпали землей и песком языки пламени; ребята бегали около дома, чем могли помогали взрослым. Небо гудело, ревело от самолетов, зенитной артиллерии. Грохотала, колыхалась от взрывов земля. Никто больше не думал о смерти. Маленькая Колькина фигурка все металась и металась по крыше, будто за спиной у него были крылья.
Мы отстояли от огня наш и соседний дом. С этой ночи Кольку как подменили. Повзрослел Колька, как говорила тетя Нюра, поумнел. Сколько ни просился потом Колька на фронт, не взяли. Просто не знал военком нашего Кольку, не видел в деле, а то бы и не заметил, что у него костыль.
Эвакуация
Серое хмурое октябрьское утро. Мы уходили из города. Мама несла вещи. В последний момент перепутала мешки. Поэтому лучшие остались в городе. Я тащила горшок с кашей, брат – книги, в сетке мамины фетровые ботики. С нами шла собака по имени Пальма. Это хорошая охотничья собака. Ее нам доверила Манефа Федоровна, когда уходила на фронт.
После ночных пожаров повсюду стелется дым. У дороги за городом стояли три машины. Рядом с легковой лежал полный мужчина в меховом пальто. В кабине грузовой сидели двое: женщина и дяденька-шофер. Их широко раскрытые глаза смотрели вперед. Шофер, крепко вцепившись в баранку, казалось, замер, чтобы через мгновение ожить.
– Они мертвые? – спрашиваю я.
– Мертвые.
– А почему они смотрят?
Мне никто не отвечал. В кузове другой грузовой машины сидели и лежали люди с разорванными животами и разбитыми головами. Под машиной ползала женщина с оторванной ногой, стонала тихо и жалобно. Так я увидела, что такое война.
Деревня Шестино
Деревня совсем близко от города. Нам повезло. Немцев нет. Поселились в доме, где раньше был колхозный детский сад. Собака Пальма дорогой потерялась. Что скажет Манефа Федоровна? Вернется с фронта, а мы собаку не уберегли. Все уверены, что с немцами скоро все будет покончено. Каждый вечер выходим на край деревни и смотрим туда, где красное зарево. Это горит наш город. Горит день и ночь, ночь и день.
За тонкими дощатыми перегородками разместились семьи. В одной комнате несколько семей. Спим прямо на полу, подстелив под себя солому. Вода – в колодце. Есть плита, которую можно топить и на которой можно варить еду. Нет только еды. Конечно, могли бы обменять свои вещи у деревенских на картошку и муку. Но у нас и вещей-то нет. Более или менее хорошие остались в городе в другом мешке. Есть мамины почти новые фетровые ботики, на кожаной подошве и на каблуке, папин подарок. Но деревенские жители таких ботиков не носят. Они ходят в валенках. Мыться негде и нечем, поэтому неудивительно, что по утрам все затихают, молча, стесняясь друг друга, ищут вшей. Какие они толстые и противные! В мелких складочках одежды – яйца-гниды. Когда их давишь ногтем, они щелкают, будто чем были надуты. На плите мама накаливает чугунный утюг и гладит вещи по изнанке или, как тут говорят, по ничке. Но все равно это нас не спасает. Спим слишком кучно.
В дальнем углу нашей комнаты живет с мамой девчонка Ольга. С Ольгой мы быстро сдружились. Она общительная и деловая.
– И чего голодными сидим, – говорит Ольга, – пошли по деревням. В домах красноармейцы живут. Неужели ничего не дадут? Не умирать же от голода? Кто у хозяев живет, тех хоть подкормят. А у нас? Стены грызть?
– И правда, – поддерживает Ольгу тетя Маша, бывшая повариха. – Детей у тети Маши нет. Она эвакуировалась с сестрой тетей Шурой. – Чего бы вам не сходить? Что одну клюкву жевать? Можно бы, конечно, поле перекопать. Все что-то в земле осталось. Да вот беда – зима рано пришла, морозом все сковало. Капустные кочерыжки и те все под корень срезали!
– Так мы с Олей пошли? – говорим маме.
Мама молчит. Что она может сказать? Кормить нас нечем.
– Я тоже с вами, – говорит Феликс, – только, чур, в избу заходить не буду. Я ваш телохранитель. Хорошо?
Мы согласны, поправляем веревки от мешков, перекинутых через плечо, отправляемся в путь. Храбрость нашу как рукой сняло, стоило только подойти к соседней деревне. В домах полно беженцев. Кто тут подаст, когда сами голодные. Так и бредем от дома к дому, не решаясь зайти.
– Вот что, – говорю я, пытаясь как-то оправдаться. – А что спрашивать? Подайте Христа ради?
– Ты чего! Так раньше говорили. Мы же не нищие! – возмущается Ольга. – У нас временные трудности. Надо говорить: товарищи, помогите, не оставьте в беде!
– Так не пойдет! – заявляет Феликс. – Какой ты товарищ деду Ивану или тетке Матрене? Надо на чувства давить. Так, мол, и так, дети защитников Родины...
– Кто тут дети защитников Родины? – смеется на крыльце белокурый молодой красноармеец. – Заходите, гостями будете!
Чудно. Идет война, бои под Москвой, а здесь свадьба. Женится и уходит на фронт солдат.
Конец советской власти
Тетя Шура, сестра тети Маши-поварихи, маленькая сухонькая женщина. Она все время курит и молчит. А теперь она и не курит, нет курева. Спросить у солдат стесняется. Ведь никто из женщин не курит! Поэтому она еще больше молчит. За целый месяц я только один раз слышала ее тихий взволнованный голос. Проснулась среди ночи, замерзла, отлежала бок, сползла с соломы. Слышу, говорит тетя Шура:
– Неужели все? Неужели конец советской власти? Войска отступают, Москва рядом.
– Не впервой, – отвечает ей мужской голос. – Наполеон взял Москву, а что получилось? Кто бы на нас ни шел, все плохо кончали.
– За что боролись? Сколько сил положили, чтобы нашу жизнь построить? Все огонь палит, – печально продолжала тетя Шура. – На фронт бы пошла, да сил уже нет. Еле сижу.
– Ничего, выдюжим. Сыновья наши там бьются, насмерть стоят, – отвечал мужской голос.
Это был дядя Яков. Ночью он заболел. Утром дядя Яков лежал бледный и печальный. У него отнялись правая рука и правая нога. Он не мог говорить. Его разбил паралич.
Наступление
В лесу много хвороста, но и снега по пояс. Наши городские ботинки давно промокли. В небе появился самолет. Мы решаем подождать выходить из леса на дорогу. А вдруг немецкий? Как в прошлый раз! Прилетел, стал строчить. Нам повезло. Никого не задело.
– Ребята, – кричит Ольга, – это же наш «ястребок»!
Сейчас мы и сами видим, что наш. Побросав вязанки, кричим, прыгаем, тонем в снегу. «Ястребок» покачал крыльями, помахал нам и улетел. Мы же продолжали кричать как оглашенные. Радости-то сколько! Подумать только – наш самолет!
А вечером на улице словно фонари понавесили – так светло. Темное морозное декабрьское небо разлиновано, как тетрадь по русскому языку. Откуда-то из-за леса, как будто лампочки иллюминаций, сплошным потоком бегут красные пунктиры.
– Что это? – спрашивают все друг у друга.
– Это – наступление, – улыбается в усы пожилой солдат.
Вот почему так много военных в деревне. Мы, ребята, сразу почувствовали: стало сытнее. Иногда поедим и каши из солдатской кухни.
– Это бьют наши пушки, – продолжает солдат.
– Бьют, а не слышно! Пушки ли? – усомнилась маленькая старушка.
– Такие вот у нас, маманя, пушки появились. Дальнеприцельные: «Катюши», «Катеньки».
Домой
Шестнадцатого декабря 1941 года город Калинин освободили. Мы возвращались домой. Улицы Затверечья обозначены лишь трубами обгорелых печей, торчащими из почерневших развороченных сугробов. Каменные строения глядели огромными пустыми прямоугольниками. Кое-где уцелели домишки. На улицах валялись перевернутые кровати, диваны без подушек, из снега торчали шкафчики с разбитыми стеклами, старые комоды. И кто так раскидал вещи? То и дело натыкаемся на трупы людей, припорошенные снегом.
На месте нашего двухэтажного дома, в котором мы жили, одна кирпичная стена да остатки дымящегося пола. Под окном нашей бывшей комнаты мама разгребла снег и нашла чудом уцелевшую дамскую сумочку, в которой хранились фотографии. Старая сумочка и фотографии обгорели.
– Вот и все, что осталось от прежней жизни, – говорит мама, обращаясь к моряку. На почерневшем покореженном фото – папа.
– А где мы будем жить? – спрашиваю я.
Мне холодно, страшно и как-то тоскливо жутко. Вокруг мертвая голодная пустыня. Мне хочется плакать, но я не плачу, потому что никто не плачет.
– Мир не без добрых людей, – говорит мама. – Хорошо, что живы
Около разбитого сарая темнели два бугорка. В одном – фашистский солдат. Отвоевался.
– А это кто? В ватнике? – мама подошла к другому темнеющему холмику, сгребла рукавицей с лица лежащей женщины снег. – Никак Анастасия? Нет, не Анастасия, – шептала мама побелевшими губами.
Лицо у женщины было синее-синее, шея туго перетянута толстой черной косой. – Видать, задушили. Совсем еще молодая... изверги рода...
Я почувствовала, как в широких варежках сжимаются мои онемевшие от холода пальцы, как где-то внутри образуется горячий ком.
– Мам, пошли, – тяну я маму за рукав. – Я боюсь, пошли.
– А куда? Дома-то нет, кроме этого развороченного снарядами сарая.
Советская власть на месте
Живем мы в больнице, что в деревянной небольшой церкви напротив нашего бывшего дома, в кабинете врача. На улице валяются всякие вещи, но мы их не берем.
– Хозяева найдутся, – говорит мама, – стыда не оберешься!
У нас больничные железные кровати. Одеяла сшили из лоскутов плакатов. Вату добыли из старых матрацев.
Я дышу на стекло, чтобы в ледяной корке оттаяла дырочка. На улице солнечно. Страшно хочется есть и очень холодно.
– Спите, – говорит мама, – не так под ложечкой сосать будет.
А у меня и не сосет. Просто хочется есть.
– Феликс, ты не знаешь, кончилась картошка в овощехранилище? Камушки сладкие, а есть можно. Хорошо бы еще разочек сходить!
– Кончилось! Все! – отзывается из-под пестрого одеяла брат. – У хранилища сторожа поставили.
– Вот и ладно, – странно улыбается мама, – значит, советская власть на месте. Ничего, вчера из деревни Лешка-кривой приезжал, обещал конины привезти. Сколько там лошадей лежит побитых! Видно, страшный бой был у Исаевского ручья. Мужика вот нет, да и пилы тоже. Голыми руками не отхватишь. А вы лежите! Я скоро киселя сварю. Солдат овса дал, при лошадях он.
– А курица была ничего, правда, мам? – говорю я, залезая с головой под одеяло.
– Тощая больно, верно, дохлая. Как ее скрючило! – отзывается Феликс.
Ему не лежится. Феликсу надо делать жернова. Теперь все делают жернова. Отпилят от толстого дерева два куска, вобьют в них железные осколки, просверлят посередине дыру, куда зерно засыпать, приделают ручку, и готово – мели себе. Было бы что молоть! А мне хочется посмотреть на перину. Мальчишки на соседней улице обнаружили в подвале дома немецкий бункер. Чего там только не было! Даже китайская ваза фарфоровая там стояла. В бункере Феликс и нашел нашу перину. Он ее по наволочке узнал. Наволочка красная в широкую черную полоску.