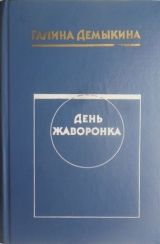
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Еще такая история…
Но это все были байки не для кино. А между тем начал звонить телефон. Попеки сюжета стали перемежаться восклицаниями и приглашениями зайти. И вскоре в комнату набилось много разного, но чем-то очень похожего люда.
Это были ребята и девочки. Все больше в свитерах и джинсах, узконосых туфлях, в сильно выхваченных спереди вязанках – все в соответствии с последней модой тех, шестидесятых в самом начале годов.
Юрке аушевские гости показались ничего себе, потому что трёп их был жив и интересен, знали они много и ничуть не заносились перед ним.
– Познакомьтесь, будущие, – подвел его Виль к высоченному парню, совершенно, кажется, лишенному жировой прослойки. – Я, заметьте, употребляю слово «будущие» как существительное. Это Юра Буров, режиссер, а это Володя Заев, оператор. Я ставлю на вас обоих. И не промахнусь.
– Как на скачках! – хмыкнул Заев. Зубы у него оказались желтыми.
– А я? – спросила очень высокая и совсем коротко остриженная девушка в облегающих брючках. Она шагнула из толпы и так и осталась вне ее – со своими яркими, щедро подведенными глазами, со впалыми щеками (был пик моды на худобу), лицом, намазанным темным кремом, но, как видно, наскоро, так, что кожа на шее осталась белой и стык был хорошо заметен; со своей тоже щедрой и искренней, открыто-оживленной улыбкой. Девушка осталась вне толпы, и Юрка теперь видел ее, куда бы их ни прибивало людским перемежающимся потоком. Вот Катя (ее звали Катя) сидит на полу, болтает с каким-то типом, тоже плюхнувшимся на пол. Вот она достает из висящей через плечо сумки длинную сигарету и, поднося к ней зажигалку, вдруг быстро взглядывает на Юрку. Этот взгляд; тотчас решил бы их отношения, если б она не улыбнулась и не кивнула приятельски. Что она, дурочка, что ли? Так поглядеть, а потом кивнуть?! Юрка подошел к ней, взял за локоть:
– Ты рубаха-парень?
– Нет, я девочка-жизнь.
– Такое амплуа?
– Вроде. Потому что не ною.
Эта Катя была ненастоящая Катя, имя было уже задано пижонски. (Как вон тот удивительно элегантный, узколицый человек в куртке на блестящих пуговицах – Ваня. Какой это Ваня?!) Но Катя была красива во всем: длинные ноги, длинные пальцы, плосковатая (в соответствии с модой) стройность, широкогубый опрятный рот, в меру резкие черты лица, и эти глаза – они были открыто рады тебе и окружающему и сообщали свет всему сборищу. Юрка заметил, что к ней охотно подходили не только мужчины, но и кинодевочки. Они все были хорошо крашенные и шустрые. Просто диво, какие шустрые!
– Слушай, Катерина, – сказал Юрка, – снимись на сегодня со своего благородного поста.
– Какого?
– Ну, «светить и – никаких гвоздей».
– А… Охотно снимусь. А во имя чего?
– Я хочу тебя проводить.
Она улыбнулась все так же открыто и согласилась. Она была одного роста с Юркой. Они бежали вниз по ступеням, не дожидаясь лифта.
– Кэт? Кэти? – спрашивал он на бегу. – Ну, как тебя зовут друзья?
– Катька!
– Катька! А в тебе есть нечто.
– Что?
– Магнетизм. Притяжение. У тебя, должно быть, полно друзей, подруг, воздыхателей. Много людей. Верно?
– Ага.
– Не устаешь?
– Не-е!
– А у меня бабка колдунья.
– И ты научился?
– Не очень. Но тебя приколдую.
– Не зарекайся. Я бы сама рада, да вот…
– Это от затруднения в выборе. Приколдоваться – значит выбрать. А на тебя спрос велик, тебе трудно. Но я смогу. Пойдем пешком?
– Я на машине. Садись.
Это сбило: он не умел быть ведомым, везомым и так далее. А тут – поневоле.
Машина была старая, но внутри вся душистая, красиво обитые сиденья: женская машина.
– Отцова, – сказала она.
Ну, пусть так. Какая разница? Ехали, ехали, – весенняя листва, ее тени на асфальте и стеклах автомобиля, еще не поздние пешеходы и отчего-то – покой!
Стоп, стоп – кадр! Вот так продлись, мгновенье: ночная, ласковая, почти домашняя Москва в шорохе первых листьев; душистая полутьма машины; рядом, близко – фосфоресцирующие, как у кошки, обведенные черным глаза красивой молодой женщины.
А так хочешь, Юрка, чтобы твой автомобиль, в руках руль?.. А может, еще Париж, Елисейские поля? Какой-нибудь там Золотой Берег? А может, ритуальные пляски под звуки тамтамов, огонь костров выхватывает крылатые ветки пальм? Да, да. И если это возможно – твоя женщина в твоем триумфальном путешествии?
Хм! Еще бы! Хочу, конечно, хочу!
Как же насытить тебя, жажда жизни? Все хочешь?
Все!
Ладно, хватит кадров. Поехали!
Жила Катя в таком же примерно, как и Юрка, доме – старом, со многими жильцами в квартире. Через коридор прошли, как для обозрения. Кто-то из соседок даже лампочку дополнительную зажег, кто-то шепнул: «Новенький».
А вот комната ее была хороша – с картинами, афишами, аквариумом. Было здесь холостяцкое – разбросанные блузки, невытертая пыль, несложенный плед на обитом ярко-зеленым ситцем матраце. Но было и женственное: те же кофты – с кружевными воротничками и нежными бархатинками, был запах духов (тот же, что в машине), были корявые ветки яблони в хрустальной вазе. Это оказалось очень красиво – растопыренные сучки на ветках, сломленные внизу водой и хрусталем.
– Ты, надеюсь, не актриса?
– Надежды оправдались. Я – киновед.
– Зачем?
– Больно уж интересно! – искренне призналась она и рассмеялась. – А я про тебя слыхала. Я про тебя слышу постоянно. Ты обязан что-нибудь совершить.
– Попробую.
– Валяй. Рассказать про картины?
Она положила руку ему на плечо (совершенно мальчишеский жест, к его огорчению) и повела вдоль стен.
– Это молодой художник (называлось имя, Дима, например, и фамилия). Он не выставлялся, но, по-моему, из лучших сейчас. И вот он же ранний. Что больше нравится?
Юрка не пытался угадать, ЧТО нравится ей. Он был совершенно убежден: уж тут-то он понимает лучше.
– Вот что мне нравится.
Они стоили возле белого полотна, будто излучающего свет. Это было похоже на утренний воздух северного моря, подцвеченный ранним солнцем. И сквозь него – белый с темным глазком валун. Даже его очертания неточны, расплывчаты, как расплывчата бывает, нечетка ранняя утренняя радость, несущая в себе черты неявности.
– Хм! Белым по белому… – усмехнулся Юрка. – Хорошо.
Катя назвала имя художника. Потом усадила Юрку на ярко-зелёный матрац и сама села с другого краю.
– Жил-был могучий властелин, – начала она таинственно, как рассказывают детям. – И был у него художник. Он писал прекрасных женщин и далекие лиловые горы, которые все видели, но которых никто еще не достиг. Его полотна были ярки и дразнящи, и великий властелин подолгу любовался ими. Налюбовавшись картиной, он приказывал визирю заклеить ее белым полотном. И никто, кроме великого, не знал, что спрятано там, под этим бельмом! А художник писал свои картины. Но вот странно: все меньше красок становилось в них. А однажды он принес властелину белый холст, на котором едва проступал белый контур белого дерева. Властелин нахмурился и стал ждать новой картины. Но на ней еще меньше проступал контур, еще больше походила она на заклеенное полотно.
«Ты ослеп?» – закричал могучий.
«Нет, мой господин».
«Тогда, значит, ты издеваешься надо мной!»
«О нет, мой повелитель!» – И художник упал на колени.
Катя замолчала.
– Ну? – азартно спросил Юрка (и остался недоволен собой: прост! прост!)
– Нувобщемемуотрубилиголовунделосконцомдавайчайпить.
Юрка сам умел такразговаривать (прервать, своевольно переключить). Но когда другие…
– Ты чего насупился? – ластясь, спросила Катя. – Тебе скучно? Ну что, музыку? – На диске проигрывателя стояли фуги Баха. – Глен Гульд исполняет, хочешь? – Юрка не захотел. – Как тебя развлечь? Спеть? Станцевать? Ты мне ужасно нравишься.
Даже в признании сквозило превосходство.
– Если можно, я зайду в другой раз.
Юрка не рассчитывал, но ход оказался точным. Он ушел от нее утром. Да, это верно. Но лишь потому, что так вздумалось ей. Ушел со смутным ощущением проигрыша.
На другой день, выйдя после лекций на улицу, увидел её автомобиль. Катя выпрыгнула из машины, подбежала (красивая, красивая в этой своей энергической оживленности, в движении!). Юрка даже сам удивился тому, как обрадовался.
– Садись быстрей, поедем смотреть любительский фильм. Но это экстра-класс, не раздумывай!
Юрка собирался махнуть в читальню, но поскольку «экстра-класс»…
– Не сердишься на меня? – заглядывая снизу вверх ему в глаза, спросила Катя возле желтого светофора.
– За что?
– За вторжение?
– Вольному воля, спасенному рай! – хмыкнул Юрка. – Я не спасся.
– Если не понравится, ставлю коньяк.
Фильм не понравился. Ей, впрочем, тоже. Коньяк пили у нее.
– Ты прав, это скорее претенциозно, чем изысканно, – говорила Катя. – Не ожидала от Эдьки (так звали автора). Повторяет то, что уже было. А, впрочем, чего не было?
– Нас с тобой еще не было! – прогудел Юрка. – Но было нас, неповторимых.
Катя очень быстро и очень вкусно приготовила ужин, неслышно унесла посуду. Она была оживлена и празднична, она была переполнена всякими сведениями. Разговаривая с ним, она одновременно что-то вязала – что-то вроде кофты или джемпера. Нечто серое с красным.
– Хочешь – тебе?
– Что ты!
– А чего? Вот поглядишь, какой будет красотизм. Точено тебе. Зайдете за заказом через недельку.
– И не подумаю.
– Ну, все, все. Решено. Идея овладела массами.
Юрка не успел оглянуться, как за несколько недель был одет по новейшей моде, обласкан, окружен – нет, не просто вниманием, полной заботой, которая распространялась даже на вкусы и пристрастия.
– Это смешно, что ты согласился делать стометровку с Вилем. Он же импотент. Творческое ничто. Только слова говорить может.
– Иногда и слово есть дело.
– Ты, как всегда, прав, дорогой.
Она играла в согласие и покорность, изящно пародируя их. И Юрка понимал, что это ее максимум: покорства в ней заложено не было ни на грош.
Он купался в тепле их отношений, мягчел и оттаивал – и вдруг с удивлением обнаружил, как недоставало ему всю жизнь мягкости, ласки, даже доброты: ведь бабка суровая была, что ни говори. И своим занятая. Всё люди у нее, люди, а без них хозяйство, огород, корова, пчелы, печь с травами, сами травы – ведь их собери, высуши каждую по-своему, разложи. А мать как вернулась, недомогала, ходила, опираясь на палку, плакала, стучала палкой, осердясь, – не до сына ей было. И он уже вырос тогда и всем юношеским эгоизмом рвался жить: видеть, обонять, осязать жизнь, ждать, когда окажет она чудесное свое. Ждать, как ждал, бывало, прячась в кустах у гнезда, когда прилетит к уродышам птенцам, состоящим вроде бы из головы только и клюва, их красавица птица – мать. И как тайно вложит в клюв то одному, то другому копошащуюся мясистую добычу.
И вот теперь что-то возмещалось ему за суровое в детстве, давалось полной мерой.
– Ты доволен мной, о повелитель? – опять же шутливо спрашивала Катя, вставая на одно колено и молитвенно складывая руки. А ладошки узкие, а пальцы длинные, ногти холеные – коготки, покрытые перламутром.
– Да… ить… премного довольны.
– Что прикажешь рабе своей?
– Кваску бы испить.
– Сбегаем в кабачок? У меня десятка, а, Юр?
У нее частенько бывали деньги – она перепечатывала что-то на машинке, писала рецензии. И он, принимая, никогда не мог отдариться. А если не принимал, она смеялась:
– Жест имени Крапивина-Северного, да?
– Да, да, столичная штучка. У нас в провинции за мужчин не платят.
Легко, весело, как по-накатанному, бежали дни. Юрка заметил, что теперь менее охотно ходит на занятия. Сначала оправдывался: Катька, мол, набита всей этой теорией под самую завязочку. Но уж когда понял, что и он курсовой стометровке не думает, смутился. Не хотелось – и все. А хотелось читать о кино, говорить и спорить о кино, строить кинотеории, смотреть кинофильмы.
И вдруг догадался: хотелось быть киноведом, вот что!
Эта мысль пришла, когда слушали с Катей музыку, развалясь на ее широчайшем зеленом матраце. И Юрка вдруг поднялся рывком, захохотал в голос.
– Чего ты, господи боже мой, дикий человек!
– Да так, своему. Ах ты, вот ведь!.. Ну и ну, а? Познай, говорят, самого себя. Ах ты дьявол! В другое, как говорится, качество… Ну и Катерина!
– Не поняла, дорогой, – сдержанно отозвалась она.
– И не надо тебе. Ни в коем разе не надо. Зазнаешься.
Тревога отбежала от Катиных глаз. Но зато поселилась в Юрке – глубоко и потаенно. Заработал едва слышный камертончик. Но это – глубоко, без выхода на поверхность.
А Катя уже говорила о каких-то ста километрах от Москвы, о каком-то задичавшем жасмине и что ехать лучше поездом. Короче, в который раз звала к себе на дачу. Ведь у нее и дача была, у Катьки. Крохотный домок, заросший по бокам вьюнком и жимолостью.
Катя давно пыталась отодрать Юрку от фильмов, учебников, книг, чтобы вручить ему прекрасный день на даче.
Затревожившемуся Юрке было бы именно теперь и отказаться, а он махнул рукой выше головы (такой обаятельный жест сдающегося человека):
– Эх, губи, злодейка!
А для себя это было так: «Валяй, глупый человек. Как творится, чем хуже, тем лучше».
И на другой же, день поутру помчался вместе с Катей. Приехали – дорожки не пробиты.
– Что, все некогда?
– Точно, Юр.
– Да кто у тебя есть, кроме тебя?
– У меня, Юр, кроме меня, никого нет. Потому что… Ну, в общем, родители – отдельно, я – отдельно. Ты разве не видишь – я развиваюсь в сторону самостийности?
– Как не видеть… Вижу.
– «Ка-ак не видеть…» – передразнила она его распевную речь. – Знаешь, это забавно: такой злой деспот – и вдруг так поешь.
– Другой бы, Катюш, взялся перестраиваться. А я, пожалуй, не стану, а? Бог с ним. Некогда.
– Давай, давай, совершай скорее. Я тебе, надеюсь, не мешаю?
– Как это женщина может мешать?
– Ого! Ты, между прочим, самонадеян!
Они стояли на крылечке террасы, и Катя пыталась повернуть ключ в двери. Ее неумелые движения (какая радость: хоть в чем-то не умела!), ее нежная щека и мочка уха, не закрытая вихрами волос, и солнце, тепло, травяной, листвяный запах при каждом движении ветра… И пчела пробасила, ударив в стекло, и птицы орут. И так все залилось радостью!.. Неповторим этот миг. И прекрасен. И благословен.
Юрка тронул губами ее жесткие волосы.
– Катька, спасибо.
Она не ответила, чуть потянулась к нему. Умница! Не беда, что бойка. Вот ведь такт пересилил бойкость – промолчала.
Дверь они так и не отомкнули. Спрятали сумки и всякие шмотки в кустах, пошли по дачной дорожке. Катя открыла потайную калитку, и они, миновав кишащие, шелестящие череззаборной зеленью закоулки, вышли в дубовую рощу. Земля была побита коровьими копытами.
– И мы к водопою, – сказала Катя.
Они шли и толкали друг друга, бросались листьями, Катерина щекотала травиной Юркин затылок, и он, замедлив шаг, неожиданно схватил ее за руку, она вырвалась, побежала, Юрка – следом. Так они выскочили на поляну и вдруг… увидели крохотное круглое озерцо, похожее на болото, и у берега – настоящий, новенький, голубой с белым катер. Большой. В этой луже! И тут заработал мотор: в катере оказался немолодой серьезный человек с бородой.
Они рассмеялись – от этого зрительного несоответствия, от молодости, теплого солнышка, воли! Хохотали в голос, закрывая ладонями рот. Смеялись, отворачиваясь, боясь обидеть человека, который ковырялся в моторе, проверял его.
– Сейчас двинет, – захлебывалась Катя, – не остановить!
– Не было бы шторма! Опрокинет посудину!
Когда отсмеялись и Юрка обнял Катю за шею, она притихла вдруг, погрустнела, будто кончился в ней запас веселости.
– Ты чего?
– Мне, Юр… – начала она и запнулась.
– Ну?
– Мне предлагают командировку. Очень интересную. Но я теперь не принимаю решений без тебя. Советуюсь.
Юрка почему-то испугался, но не разлуки, а назревающего разговора. Может, чуть – капельку! – не дозрел до него. А может, не она должна была начать.
– Советуешься? Что-то не замечал.
– Мысленно.
– И я даю хорошие советы?
– Они чаще всего совпадают с тем, что я думаю.
– Очень удобно.
– Ты недоволен?
В голосе ее впервые прозвучала обида. А может, боль. Неужели влюбилась? Всерьез? А он? Видит – рад, нет – не скучает. Разве так может быть, чтоб не болело, не гнуло к земле? Почему недобрая и не повернутая к нему Лида Счастьева (он даже сейчас задохнулся болезненной памятью)… Первая любовь? Неутоленность? Мальчишечьи бредни? И неужели опыт первой любви оставляет инерцию такой силы, что все равняется по ней? Увы, это так, так бывает.
– О чем подумал? – спросила вдруг Катя быстро и ревниво. Ее нельзя было, не за что обижать. Но и усложнять отношения не хотелось. Они и хороши-то были легкостью. Эх, сам виноват с этим «Катька, спасибо»! Ведь она тоже кое-что понимает!
– Видишь ли, Катерина, ты человек сильный. Я уж думал.
– Ну и что? – спросила она сумрачно.
– И я тоже. Это плохо совмещается.
– Мне этого не казалось.
– Видишь ли…
Она опустила голову, сощурила глаза:
– Ну-ну…
– Тебе при твоей энергии нужна в другом человеке слабинка. Ты считаешь, ну, вернее, ощущаешь – ведь это иррационально – такою слабиной мою провинциальность.
Верно?
Она не сделала протестующего жеста. Ждала: что дальше? Он остановился. Катя подняла голову, глянула прямо:
– И тебе обидно? Это что, твой комплекс?
– Не знаю… Нет. Просто я дорожу этим. Ну, тем, что вынес оттуда.
– Я не посягаю, – сказала она другим, лишенным счастливых красок голосом. – Пошли назад. Пора в город.
«Вот и все? – испугался Юрка. – Неужели все? Но я не хотел этого. Не хочу терять ее! А зачем обидел? Она права, права: обидно, если тебя не услышали, перевели разговор на другое. Неосознанно сделали, но – тем больнее. Дурак я, вот дурак!»
Юрка догнал быстро шагавшую Катю, обнял на виду у всего поселка, поцеловал в щеку (она была совершенно сухой!), в нос, в шею возле уха. Вот теперь глаза ее стали чуть мокроватыми.
– Ты меня за дурочку держишь… – улыбнулась она. И, уже входя в калитку, вдруг притянула его и засмеялась счастливо. – А я и есть дурочка.
С этого дня Катя не искала встреч с ним. А Юрка не сразу заметил перемену.
На одной из лекций Буров получил записку. Тонким, женственным почерком было выведено: «Надо поговорить. В. А.».
Юрка оглянулся, встретился глазами с Вилем, кивнул.
– Тебя теперь не поймаешь, – сказал Виль. – Ты теперь на коротком поводке.
– Допустим.
Юрка не любил вмешательств, но косвенно поговорить о Кате было приятно.
– Да нет, это дело твое. Не ты, как говорится, и последний.
– Это, Виль, меня не волнует.
– Надеюсь. А так – чего ж! Я тоже вращался в этой орбите. Но я обычен, а тут – экзотика.
– Я, что ли, экзотика?
– А, пустяки. Просто я из зависти. Я вот о чем: стометровку-то будем делать?
– Знаешь, Виль, ведь мне ничего в башку не влезло до сих пор.
– И мне. Какое совпадение! Ну, давай подумаем. Может, попросить кого-нибудь со сценарного?
Нет, не хотелось бы со сценарного. Но теперь, когда поломалась счастливая гладкость отношений с Катей, Юрка вдруг почувствовал себя сильней. Вот ведь вздор какой! – будто не радость, а что-то другое, «антирадость» может, делает человека сильным. Резона нет, но чувствовалось так.
Они вышли на улицу. Юрка у двери крепко пожал руку Вилю Аушеву.
– Дай три дня, идет? Как в сказке.
– Даю, как в сказке. Но смотри, если что.
– Голову секи!
Расстались, смеясь.
* * *
Шел домой, к тете Дуне, и тихонько пел, чему-то радуясь:
Тетя Дуня, тетя Дуня, Дуня-тонкопряха.
Пешком шел. Уж и ходить-то отвык – все на машине, которую сам не умел водить (шоферил-то в Крапивине на грузовой). Шагал не торопясь и чувствовал себя твердо и строго, и неласковый ветер шевелил волосы, коротко подстриженные узкой и крепкой женской рукой.
Твердо и строго. И что-то уже ворочалось в нем и стало искать выхода, выдоха, хотело выдохнуться, чтобы стать, зажить. Господи, как мог столько времени болтаться без дела?! Не думать даже. Хотелось скорей в читалку или к Дуне – посидеть в тишине, подумать. О, как хотела утоления эта (теперь – эта) жажда!
Он по привычке сделал рамку из пальцев, поглядел сквозь нее на бегущую улицу. Дом попался вдалеке – высотный, кусок дерева, застывшие у светофора машины – множество. Большой обычности кадр, официальной захватанности. Так и надо. Захотел сразу, как только помыслил о родной стихии, получить от нее подарок: вспомнил обо мне, дорогой, – на, держи кадр, сюжет, фильм!
Он еще раз, уже не надеясь, поднес рамку к глазам. И вдруг – стоп! Стоп! Стоп! Резкость! В рамке оказался человек – узколицый, покрытый ранним загаром. Он был, как и прежде… нет, даже больше, чем прежде, худощав и элегантен! Он спешил, глянул на ручные часы, прошагал мимо палатки с капустой на фоне все того же высотного дома (Юрка вел за ним объектив). Уйдет ведь, пожалуй! Ушагает!
– Виталий!
Неловок оглянулся, крутнул головой, будто скинул с себя что-то, и сделал полушаг навстречу.
– Юрка! Буров!
Человек был рад и смущен (почему бы?), это был тот и не тот Виталий, все же с десяток лет пролегло.
– А я гляжу: что за щеголь меня окликает?
– Щеголь – это я, Виталька. Как ты?
– Да вот в свой институт топаю.
– Лесные дали?
– Конечно.
– А вообще?
– Вообще, брат, – заговорил тихо, будто никуда и не спешил, – странное меня держит ощущение. – Он обвел взглядом улицу, Юрку как часть ее… – Было, шло что-то в руки такое… важное… Было – как перед дальней дорогой. И все это вылилось в крохотный вояж…
Он беззащитно глянул ореховыми (отцовыми) глазами в Юркины азиатские. В тех вдруг метнулся азарт.
– Чего ты, Юрка?!
– Ух, брат! Ты мне… Ты мне – такое… – Юрка поперхнулся, протянул руку. – Я тебя разыщу. Есть телефон?
Виталий начертил цифры на бумажке, подал.
– К себе не зову… – И снова замялся: – Сам знаешь почему.
Нет, Юрка не знал. И не стал допытывать. Даже думать не стал. Потому что совместилось то, что хотело соединиться, рвалось одно к другому: катерок близ Катиной дачи – и эти недоуменные и беззащитные ореховые глаза: «как перед дальней дорогой»… «крохотный вояж»…
Юрка кинулся было назад – догонять Аушева. Потом сообразил: небось уже дома – живет недалеко. И позвонил из ближнего автомата:
– Виль, Вилька, гони бочку пива! Придумал!
Крохотный сценарий набросали в один вечер. Тем более что Виль хорошо умел излагать на бумаге. Очень хорошо.
Это была, конечно, удача – встретить Виталия. Без него не сошлись бы эти кончики мыслей, не завязались бы узлом. Трудно сказать, почему так, но его присутствие (даже просто присутствие, как косвенное участие!) всегда высвобождало в Юрке какие-то атомы (соки? силы?), чтобы они бродили, соединялись в мысли, порой даже в замыслы. Виталий был, пожалуй, единственным человеком, которому Юрка завидовал: его элегантности; его гармонии в движениях; быстрой его, окрашенной чувством речи, даже этим запинаниям – из-за пауз Виталий говорил короче, значительней.
Вот Виталий сообщает что-то Лиде, – почтительно нагнув голову, в школе, на вечере, на его, Юркином, выпускном вечере, куда он и ринулся-то из-за Лиды: она была приглашена как будущая преподавательница – только что окончила университет. Этот наклон головы одновременно и почтителен, и ласков. И еще – по-мужски снисходителен: ведь Виталию приходится нагнуться, чтоб заглянуть в ее глаза.
А Юрка – все резко, рывком. Он бы не смог так долго глядеть в Лидино лицо, не мог бы сделать мягкими глаза, которые у него действительно разбойны и нахальны. Всем он мысленно говорит: «Ну и ладно, вы – такие, я – такой». Виталию же, который и сам чему-то завидовал в Юрке (смешно – чему бы?!), он никогда не смог бы навязать себя такого. Превосходство Виталия было для него очевидно. И Юрка только старался быть поинтересней, почетче с ним, подтягивался, брал из душевного резерва. А каждодневно так нельзя. Потому и дружба не сложилась. Но было большее: острое притяжение. И это – твердо знал – взаимно.
Есть, высказывалось кем-то мнение, будто творческий человек неосознанно знает, кто нужен ему для работы, и тянется к тому. Вероятно, здесь есть правота. И Юрка не разыскал Виталия теперь, когда это стало легко (вот он, телефон!) из какой-то несвойственной ему робости, из-за десятилетней прокладки: прежняя манера общения не возможна – оба выросли, не мальчики, – а новую искать… А тут экзамены, учебный фильм, Виль Аушев – циничный эрудит, съемки!
– Виль, давай Володю Заева попросим снять курсовку.
– Я с ним в контрах.
– Ну, я попрошу.
– Не пойдет. Верь слову. Да он и аппаратуру не достанет, такой рохля.
– А как быть?
– Все добывают где-то.
– Где?
– Дай осознать.
После этого Виль ускользает при встречах, не подходит к телефону. Ясно: не осознал.
Юрка, пропуская занятия и толкаясь локтями, добывает сам. Все. Включая катер и актера.
– Виль! Назначай давай день. Пора снимать.
– Ой, Юрка, я сбился с ног, ищу тебя. Наш сценарий утвердили, – я прямо убегался! Меня спрашивают: «Где катер возьмете?», «Кто будет снимать?». Где ты пропадаешь? Или, как сказал Борис Леонидыч:
Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
А?
Юрке так захотелось вмазать ему за это снисходительное «Борис Леонидыч» (прямо приглашал его Пастернак чай вместе пить!) и за цитату (писалось в боли, в озарении, а такие вот захватают липкими пальцами!)
– Слушай, давай без цитат!
И за глупый намек вмазал бы, и за вранье: сценарий он «утверждал». Чего там бегать-то? Прочел педагог и вернул. А что на вопросы не можешь ответить, так я, что ли, виноват?
– Я, кажется, Виль, перед тобой провинился? Виль притих:
– Ты что, Юрь Матвеич?
– Вот так. Когда поедем?
– Когда скажешь. Я – в любое время.
Поехали. Виль подбил на поездку приятеля с машиной – так что в «москвичек» запихнули и оператора, и кофр с кинокамерой, и все прочее. Одно только место пустое осталось – актерское: не пришел актер.
– Может, туда подъедет, – утешал Юрка. – Адрес я дал.
Ехали как на пикник. Всю дорогу Виль рассказывал, смешил, веселил. Начал с той истории про ревнивую жену и про яичницу (что, мол, хотели это снять), а потом и пошло, и пошло!
– В дерево въеду! – захлебывался смехом приятель за рулем.
– Ой, мужик! Вот комик! – вытирал слезы молодой оператор. – А я еще гадал: ехать – не ехать?
«Вот оно что, – думал Юрка. – И этот мог не прийти. Повезло нам, значит. Ну и Виль! Меня бы и на четверть пути не хватило».
Высадились на поляне возле озерка. Начались приготовления. Катер, к тому времени уже убранный за забор, пришлось катить на тележке и снова спускать на воду. Пожилой и очень серьезный хозяин его тайно волновался, но интеллигентно молчал. Юрка подумал: а может, попросить его вместо актера?
– Э, нет, нет, – ответил тот с укоризной. – Я все же научный работник. У меня полно дел.
– Простите, – повинно склонил голову Юрка. – Актер у нас… того…
– Сыграй сам, – предложил Виль. – Юр, правда, сыграй. Подходишь.
На этом, собственно, и кончились ценные указания Виля. Все, что говорил он как режиссер, было мимо цели. Просто удивительно! Все – мимо. Даже, кажется, его приятель понял. И тогда Юрка взялся распоряжаться сам.
– Сперва снимаем кусок воды. У этого берега. Только у этого.
– Ага, ясно. Чтобы казалось, что дальше – большая вода?! – догадался оператор.
– Так. Так. Теперь мостки. Часть поляны. Здесь я рюкзак положу. Пойду. Вот так. Потом катер… Тут вроде бы место для трансфокатора более выгодное, а?
– Точно!
Пока все поставили, скрылось солнце.
– А, черт! – бранился паренек. – Да здесь в два дня не уложишься.
Это сперва бранился. А потом вдруг зажегся от Юркиного напора, увлекся, а когда потребовался отъезд камеры и съемка сверху – то, что делается с вертолета, – молча полез на сосну.
– Хорош! Пойдет, Матвеич!
Как-то странно, но Виль будто потерялся. Даже когда надо было доглядеть вместо Юрки (в актерском куске), он то ли не появился, то ли не подал голоса – никто даже не заметил его отсутствия.
Начался дождик. Паренек был прав: конечно, не уложились в один день.
* * *
На столе в Дуниной комнате лежала записка:
«Юр! Где ты? Позвони в понедельник от 15-ти до 23-х.
К.»
Юрка обвел комнату как бы Катиным взглядом.
Стол под вытершейся клеенкой, рядом – сундук, дальше – железная кровать под белым покрывалом, со взбитыми подушками. Вниз клалась чистая подушка, на которой не спали, а сверху – две остальные, и на них вышитая накидка, вид получался очень опрятный.
Был как раз понедельник. Значит, прибегала сегодня, красивая, душистая, обворожила Дуню и соседей, черкнула будто небрежно. А бумага розовая, из набора, – взяла с собой. Тоже душистая. Соскучилась, стало быть.
Юрка обрадовался! Сам удивился, как! И чего он испугался (а он испугался!) тогда, на озере? И почему смог так долго не видеть ее? А ведь как соскучился! И что за странное наваждение, что в ее присутствии (именно – в ее, когда так интересно, легко) – вдруг похожее на угрызение совести ощущение недозволенной праздности, времени, идущего мимо.
Юрка позвонил часов в семь:
– Катерина!
– Юрка! – Голос ее прозвучал хрипловато.
– Ты чего?
– Ничего. Просто хотела знать о тебе.
Теперь превалировало обычное грудное звучание и чуть позванивало от улыбки: Юрка слышал ее, эту улыбку, и видел сквозь улицы.
– Ты как распределен во времени и пространстве?
– Никак. Свободен.
– Ну, гора с плеч. Жду тебя.
Она вовсе не хочет, чтоб он оправдывался. Есть потребность – пусть расскажет. Знает ли он, сколько они не виделись? Нет, не знает. Ровно месяц. Не может быть? Запомнить было легко: в тот день, когда ездили на дачу, ей исполнилось двадцать пять лет, не надо поздравлений. Нет, нет, она просто рада его видеть. Ну, так что было?
– Я, Кать, сделал одно малое, весьма малое открытие. Эти курсы – они не на творчество отбирают, а на хватку. Вот смотри: мастера на лекции не приходят, мы бродим, как щенки по закуту, – где мамка? А ее и нет. И в какой-то момент ясно: хватит школярить, ведь не семнадцать лет! Пришли все бывалые.
– А ты кем был?
– Я-то? Ну, учителем, хочешь? Ребят вот так держал, они у меня, гады, дыхнуть лишний раз не смели.
– Представляю! Ох, Юрка!
– Шучу. Я хорошо их учил. А еще шофером работал в леспромхозе. У нас там леса.
– Прогнали из школы?
– Нет, Катерина, это я вру. Только мечтал о школе.
– Почему?
– Это, брат, любовная история.
– Ого! А я полагала…
– Ну, так хочешь дальше про открытие?
– Да, конечно.
– Вот взять еще этот учебный фильм. Его надо сделать, не имея ничего – ни транспорта, ни аппаратуры, ни оператора, ни актеров, ни денег, черт возьми! Самим снять, отмонтировать, озвучить. Что это – на талант, что ли, экзамен? Черта с два! Талант – дело десятое! На характер, на пробойность – вот что! Тут-то я и понял, что могу. Пока сокурсники, и Виль в том числе, хныкали, я уже был на «Мосфильме», у ассистентов операторов. О них я заранее разнюхал, еще когда в библиотеку вгиковскую бегал. «Кто из вас, ребята, спрашиваю, учится на заочных операторских во ВГИКе?» – «Ну, я», – один говорит. И другой: «И я». – «Надо вам снять курсовую работу?» Им надо. «А режиссер уже есть?» – «Нет». – «Пожалуйста, я режиссер». А у ассистента, сама знаешь, все в руках: аппаратура, пленка, павильоны… Я им, конечно, кот в мешке. Но один взялся.








