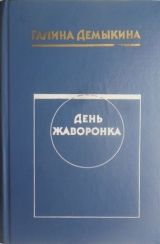
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Глава IX
Он сказал женщине, бинтовавшей вены, вспухшие на ее ногах:
– Ты меня женила на себе. – Сказал в который раз. Только теперь она была в бинтах, точно связана ими, и лицо от наклона было красным, и не было поэтому храбрости от сознания красоты. Ей, дочери далеких крестьян, было ясно: больная – не работник. А от крестьянской доброты, от милостивости их отгораживали годы городской жизни. И она промолчала. Впервые. Это было ее поражение. Подспудно знала: упущен шанс. Ему, Степану, нужен был окрик, посланец силы: силы боятся. Но она промолчала. Так началось.
Светлане покупались апельсины.
– А ты чтоб не смела брать у ребенка! Смотри, Свет, чтобы мать твои апельсины не воровала.
Впрочем, надо с начала, доступного Светиной памяти и моей достоверной фантазии.
Запоминается ли в детстве обстановка?
А как же.
Новая двухкомнатная квартира. Без налета временного, как это было у молодого Степана в нашем переулочке. Напротив: все устойчиво, респектабельно, не без шика.
Два желтых кожаных кресла (гордость дома);
Пианино «Красный Октябрь» – новенькое – черный лак (гордость);
буфет красного дерева, Настиной работы салфетка;
со временем – очень много книг в прекрасных переплетах. В основном – классика. И специально для них построенная полка карельской березы. Никаких теперь верстаков, рубанков и стружек (стругали рабочие). Только хозяйский надзор.
И вторая комната – тесноватая, захламленная. Там спали. Светка с матерью – на большой, двуспальной, отец, то есть Сидоров, – на железной. Светлана завидовала белым его простыням, верблюжьему одеялу с оленями и пододеяльнику на пуговках. Потом ему надоело делить с близкими эту радость пребывания. Но это позже. Сначала вот это:
– Смотри, Свет, чтобы мать не воровала апельсины.
А своей матери:
– Ты не ходи сюда, не срами. У меня люди бывают.
Бывали и люди. Чаще других – Человек в Светло-сером. Теперь он приходил на равных. Светка немного боялась его неподвижного лица, но страх возмещался соевыми конфетами, а иногда и печеньем «ракушка» – сверху вафли в виде раковинных створок, а внутри шоколад. При виде Человека в Светло-сером во рту делалось сладко. А потом он у Светки облекся ощущением тайны.
Другие люди запомнились хуже и бывали реже. Пожалуй, одна только толстая, хорошо пахнущая женщина с мягкими руками, теплой уютной шеей и тоже уютным смехом, идущим изнутри холеного, кормленого и этой сытостью обрадованного тела. Ее звали Татьяна Филипповна, а за глаза Танька Рыжая, и о ней всегда что-то добавляли на ушко, по секрету от ребенка. А ее муж говорил, хлопая ее по мягкой спине:
– Танька хоть и б…, а люблю ее, потому что умеет из дерьма конфетку сделать.
Светлана пыталась вообразить: как это? Но не получалось.
Собирались «люди» редко, но шумно, много пили, пели «Поедем, красотка, кататься» и еще:
Начинаются дни золотые
Воровской непродажной любви.
Ой, вы, коня мои вороные,
Вороные вы кони мои!
После первого куплета замолкали, переглядывались. И тогда Человек в Светло-сером лихим, прекрасным голосом срывал тишину, срывал с размаху, как по гребням волн:
Устелю свои сани коврами,
В гривы конские ленту вплету!..
Пролечу, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.
Тут оживала и Настя! А то она только блюда разносила да посуду мыла. А тут оживала. Подбоченится, тряхнет головой, перехватит:
В ресторане мы как-то сидели,
Оскорбила я чем-то его,
Вспыхнул он, и глаза заблестели,
И ушел, не сказав ничего.
И сообщала со всей болью и забубенностью, как потом встретились случайно на пирушке и:
Он сказал мне: не пей, не позволю,
А я выпила кубок до дна!
И, откинув голову, вела вместе с ним разгульно и самозабвенно:
Начинаются дни золотые
Воровской непродажной любви.
Когда гости расходились, Степан припирал её к стенке и стукал ногой в ботинке по ее распухшим ногам:
– Потаскуха! Потаскуха. Нужна ты ему! Мне и то не нужна. Светка, принеси ремень. Я мать выдеру.
Светка, застывшая было в шоковом ужасе, кричала диким криком, на разрыв горла, на выворот нутра. Ей было страшно, и жалко, и отвратительно. И совершенно невозможно было жить дальше. Она кидалась на пол, била ногами, заходясь бесслезным ором.
Просыпалась утром. Отец подносил ей горячего молока. Она пила, давясь слезами: ей невыносимы были его обеспокоенные глаза, из-за которых она не могла сказать ему, что не любит.
Она его не любила. Рада была, когда мать наконец решилась уехать. Он сказал:
– Уходи.
А Настя вдруг ответила:
– Сейчас соберусь.
Предложение было привычное, а ответ – новость. Настя тяжело расставалась с мужем. Он был ее молодым избранником, давшим вкусить радость материнства (не к Светке, нет, а к нему – к умному, непонятому юноше!). Уехав от него, она тосковала, плакала, писала письма во всякие инстанции. Принимала яд (правда, немного) и велела не пускать к себе Человека в Светло сером, чем, не ведая того, повысила свои акции. В Светло-сером не женился на ней лишь от страха: тогда косо смотрели на разрыв с семьей. А Степану сошло. Он был смелее. Когда вызвали объясниться, сказал:
– Нет, нет, я семью не бросал. Деньги посылаю. Вот квитанции. Ребенка в детский лагерь на лето отправлял (квитанция). Другой женщины у меня нет. А жить с Анастасией не могу. У меня огромная нагрузка. Ответственность. Работа, сами знаете, какая. Нужно хоть немного понимания. А она темная, за столько лет ни одной книги не прочла. Куда глядел? Молод был, да и рассчитывал перевоспитать. Кроме того, мы не расписаны, хотя не считаю это решающим фактором. Дочку? Нет, не брошу. Встречаюсь с ней. Да, довольно часто. Ну, спасибо на добром слове. До свиданья.
Какая у него была тогда работа? Трудно сказать. Планирование, в общем. И что-то еще, не менее важное. Теоретические труды. Он был очень толков. Он был толков, а Светка росла, и тогда, вероятно, изредка встречаясь с ним и ведя умные разговоры (это тебе не мать!), переняла эту волевую гримасу – растяжение нижней губы. Это не он сказал: «Человек – всего лишь мост, перекинутый между зверем и сверхчеловеком», – но Светлана по простоте душевной приписывала это высказывание ему.
Удивительный все-таки человек! Кто теперь читает Ницше? А он и про религии разные читал, и слово «экзистенционализм» я, помнится, услышала очень давно от него: ему кто-то переводил прямо с листа Кьеркегора.
Светлана от разговоров с ним совершенно шалела. Но если бы это было системой, а то так, наскоком, жили-то порознь! Близости это им не прибавило.
Светка росла и все больше перегоняла его. Вот уже родинка на его лбу стала вровень с ее глазами, потом – с губами (она считала, что это родника); потом перешла на щеки; неуловимым изломом перекроила лицо, вышла к скулам и без того широким; углами прорвалась вверх. Это было как болезнь.
– Ты изменился, отец, – сказала Светлана.
– Заметно? – его узкие глаза метнулись почти тревожно. – Ты об этом? – И он очертил пальцем в воздухе геометрическую фигуру. Она робко кивнула. А через несколько месяцев, встретив отца в условленном месте, Светлана удивилась неподвижности его лица. Но того, геометрического, не было.
– Ты стал похож на одного человека. Я его боялась в детстве.
– Гм. Он бывает у вас?
В этот день отец повел Светлану в ресторан. Там собирались его сослуживцы. Все они ласково кланялись Сидорову, показывая глазами, как хороша его дочь.
– Знакомьтесь, моя дочь.
– Знакомьтесь. Моя Светка. Да, да, растем.
– Им время цвесть, а нам тлести! – пошутил единственный изо всех молодой и очень светлоглазый человек.
Но Сидоров не принял шутки и от парня отвернулся. И после, когда тот подошел к Светлане и пригласил танцевать, Сидоров был недоволен.
– Я иду по стопам вашего отца, – сказал светлоглазый во время танца. – Вы знаете, чем он занимался в молодости?
– Нет.
– Вот-вот. И мой сынишка не знает. Но я человек новой формации и к тому же обаятельный, верно? Я наступаю на пятки вашему папаше. Он не жаловался?
– Нет. Его трудно побороть.
– Конечно.
Человек засмеялся, поднес ее руку в губам, заканчивая танец. И весь вечер следил за ней веселыми, очень светлыми на смуглом лице глазами.
Сидели в красном зале, тянулись друг к другу, а особенно к Сидорову, бокалами:
– С выдвижением!
– С переходом!
– С отъездом!
– Счастливо отдохнуть!
Только теперь Светка догадалась, что отца повысили и что он уезжает отдыхать. А это – чествование и проводы.
– Ты куда едешь?
– О, о, о… – Он впервые за весь вечер улыбнулся, и то лишь ей, ей одной.
– Давай остановимся, – сказала Светлана.
Мы сидели на песке возле узкой реки – той самой, по которой старик собирал дрова. На другой стороне был лес, темнивший воду в реке, как ресницы иной раз затемняют глава. И потому речка там была не жаркой. А возле нашего берега вроде бы грелась у песка.
– Я искупаюсь!
Она разделась, вошла в воду и поплыла на боку, поднимая над водой белую точеную руку. Плыла точно лось или другой красивый зверь, собирая вокруг своего тела, как в фокусе, лучи солнца, отраженья сосен, движение воды, создавая иллюзию долгожданной и счастливо обретенной гармонии.
А гармонии особой не было. В людях – не было. И в соседском доме жила четырехлетняя дурочка – рыжая девочка с плохо прорезанными и излишне широко расставленными глазами. Голова ее росла, а туловище – плохо, и ноги не держали тела из-за этой головы. А изо рта текли слюни. Мать – молодая рыжая и тоже широкоглазая – носила ее на руках, нежила и успокаивала всех:
– Оно обойдется. Люсюшка обойдется. Верно, доченька?
Поила девочку козьим молоком, возила к доктору, одевала чисто и нарядно. И девочка тянулась к ней телом, лишенным крупицы света. И при взгляде на них в сердце что-то рвалось, кричало. А потом смирялось. И привыкало. И начинало вериться: обойдется. Люсюшка обойдется. Когда так любят, должно обойтись.
За девочкой присматривал дед. Сын его, шофер, постоянно бывал в рейсах – возил из леспромхоза дрова, торф, и все на дальние расстояния. А сноха, рыжая эта женщина, Кланя, была в полевой бригаде: то полоть, то окучивать. Но домой среди дня забегала постоянно. И дед верил в ее доброту.
– Ухватистая баба, – говорил он. – И сердечная. Мишка мой другого рисунку. Разноперый парень. Не знаешь, когда и чего от него дождешься.
– А как он к дочке?
– Да ведь как… Бить не бьет и жалеть не жалеет. Он, думается мне, от ней и в шоферы-то подался. Чтоб с глаз долой. А то ведь на тракторе здесь, при колхозе, работал.
– Девочку, наверное, отдать можно. Как больную.
– И-и-и, рази она отдаст.
Старый не осуждал. Лишался сына; рыжая эта женщина лишалась мужа. А кандалы своя несли бережно и любовно.
Неразумно, а? Нет, неразумно. Но милый, Неосвобожденный Человек присутствует здесь. Не освобожденный от чего? От звериного инстинкта к детенышу? Может, от совести, от чувства вины? Может, от привычки жертвовать собой, не дорожить, не беречь себя (небережение, небрежение…). Это удивительное исконное подсознание, освобождающее от любви к себе.
Вот от чего открещивалась всю жизнь Светланина мать, Настя. И отец, Сидоров Степа, тоже, конечно. Только вот Настя вернулась сюда, к истокам…
Приехала огрузневшая, с распухшими перебинтованными ногами. На покой приехала, хотя еще и не так стара. И дочку привезла. Но это не насовсем. Показать только. А Светлане понравилось. Вот чудеса! Мать всю жизнь рвала эти связи, радовалась, что ушла и дитя увела от коровьего хвоста, как она говорила. А Светлану тянет обратно.
Настя приехала не с пустыми руками. Отцу привезла Степанову цигейковую жилетку, брату – сапоги, его рыжей жене Клане, которую еще не видела, – целый ворох своих кофточек. Она из них давно выросла (если так можно сказать), но все – как новенькие, потому что Настя была женщина аккуратная.
А девочке, племяннице, набрала кукол, мячиков, все детские Светкины платьица захватила. Не знала она, какая это девочка. Но, увидев, пожалела.
Настю со Светланой поселили в доме, сами перешли в пристройку. И потекла тихая жизнь.
– Я бы здесь осталась, – говорит Светлана. Она валяется на песке, возле речки, щурит глаза на солнечное небо. Я уже заметила – ей идет купание: выходит из реки с ясным, посветлевшим лицом, а узкие глаза делаются синими, и синева эта точно обволакивает всё вокруг.
– Что ж тебя останавливает?
Светлана задумывается. Потом смеется беззаботно:
– А ничего! Ровным счетом! Возьму и останусь. Ведь я биолог. Неужели в колхозе работы не найду?
– Я всегда боюсь необратимых процессов, – говорю я. – Но ведь ты – другое поколение. Вы лишены, вероятно, нашей осторожности.
– Не совсем. К сожалению.
Она еще нежнее глядит на высоченные сосновые берега, на отблескивающий солнцем изгиб реки… Временное пристанище. Счастливый интервал. Куда уйти от плена городской квартиры, хорошей работы, от плена вечерних огней и редких, очень редких, но все же развлечений. Захочу и пойду в театр (кино, музей, консерваторию). Обычный ход мыслей. Слишком уж обычный…
Светлана недобро косит в мою сторону, лицо покрывается бурыми пятнами. Будто прочитала, о чем я. Обиделась. Садится на песок, обнимает руками колени и кладет на них голову:
– Вы зря так подумали. Я еще что-нибудь выкину. Почище! Этого мне мало.
И правда, что я знаю о ней, чтобы оценивать?
– Прости.
Она согласно кивает. Ей не хочется сердиться. И продолжает об отце. Потому и я расскажу дальше про Сидорова. То, чего не знает точно Света, и, значит, не могу на этом настаивать и я, – только догадка, пойдет с эпиграфом:
А ты все выше, выше, выше,
Теряешь притяжение земли…
Глава X
А ты все выше, выше, выше,
Теряешь притяжение земли,
Теряешь близких, веру, авторучки…
Паденье вверх.
Как ты легчаешь!
Как высоко ты падаешь,
мой друг!..
Степан проснулся в светлой комнате, просвеченной сквозь белые жалюзи солнцем.
Нет, проснулся не Степан, а Степан Иванович Сидоров, человек почти известный и на работе незаменимый. Крупный человек, несмотря на малый рост.
Проснулся тот, кого повысили. И эти льняные простыни, и натертые полы, и графин, поблескивающий чистейшей водой, и чисто протертый стакан – все это было заслужено. Положено ему. Именно, столько положено. Ни больше и ни меньше. А может, положено больше? Вдруг – больше?
На открывшемся из-под белевшей салфетки углу ночного столика – тонкий слой пыли. За ночь осела или вчера не стерли? Провел пальцем, вздохнул облегченно: за ночь.
А вот бутылка нарзана почти пустая. Это уж не дело. Должны были поменять. Неужели здесь не до конца уяснили, кто он?
Хотел позвонить – нажать кнопку над кроватью, но других непорядков не нашел и успокоился. Кроме того, сегодня не болели шейные позвонки, как это было в первые дни пребывания здесь, в санатории.
Сидоров поднялся, накинул синий стеганый халат, вдел ноги в замшевые, тоже синие тапочки и подошел к окошку. Собственно, это была балконная дверь, и балкон этот висел на высоте третьего этажа плюс еще высота холма, на котором расположился санаторий. Сегодня Сидорова покинуло надоевшее за последнее время ощущение брюзгливого недовольства. Ему все казалось, что на него глядят свысока. Ах, эти взгляды сверху вниз, пусть основа их чисто физическая!
И он все лез и лез выше. Чтобы никто, никогда.И вот сегодня, исключая этот проклятый нарзан, он впервые, пожалуй, ощутил высоту. Не то чтоб она его порадовала. Но успокоила.
Больше в это солнечное утро Сидоров не ощущал ничего, и это было прекрасно. Он покинул жаркий балкон, снова завесил балконную дверь белым (это учтиво и услужливо – повесить занавес, чтобы ему, Сидорову, не было жарко) и подошел к умывальнику, вделанному в стену. И здесь было все в порядке: кран блестел, кафель хорошо протерт, раковина чистая.
И вдруг Степан Иванович понял, ктоон. Да! Да! Ему теперь ничего не надо добиваться и требовать. Услуги пойдут впереди него, метя хвостом дорожки и сдувая пылинки с пиджака. Особенно если бы… Но дальше думать он не смел. Потому что иначе опять заболит в груди: «Ага, не достиг, не достиг. Чего-то не сделал. Не сумел. Растяпа. Уехал отдыхать не вовремя. А вдруг, пока ты здесь…»
Но Степан Иваныч отмахнулся от мыслей и набрал в ладони, сложенные лодочкой, воды. Оплеснул лицо, шею, грудь. Растерся чистейшей мохнатой простыней. Да, простыней. А прежде давали всего-навсего полотенце.
Потом сбил капельки, упавшие на шелковый халат, перекинутый через стул (это тоже гордость, хотя и незримая: подняться и накинуть такой прекрасный дорогой халат. И к нему – тапки того же цвета. И все, заметьте, привёз сам из дальней поездки. Такого ансамбля нет ни у кого. Надо оставить на виду, чтобы горничная…), и начал одеваться. Можно опять попросить завтрак в комнату. Но сегодня лучше выйти к столу. Не такой уж он зазнайка. Сам из простых!
Люди, окружавшие Сидорова в этом доме, были разные. И одного с ним роста, и высокие. Они все не точно знали, кто он, только могли догадываться, и потому держались каждый сам по себе, не раскрывая карт. Все одинаково вяло жевали бутерброды с икрой и семгой, некоторые брезгливо отодвигали жареный картофель на край тарелки, а были и такие, что покупали в буфете вино и уносили в свои отдельные комнаты.
Сидоров еще не освоился и потому поел молча. За его столиком сидели двое мужнин – пожилой с бельмом на глазу и помоложе – светлоглазый, напоминавший того молодого волка, что на прощальном вечере, кажется, понравился его дочери. Это сходство раздражало, возвращая мыслью к работе.
Сидоров даже хотел пересесть, но потом взял себя в руки.
О расшатанные нервы Сидорова!
О его усталые, тяжелые глаза!
О эта пустота, населяющая бурливое сердце! Кипение мысли при полном молчании чувств! Чего только не умеет построить, разрушить, оправдать человеческий разум! Как страшно вверить ему судьбу лягушки – это в детстве – и судьбу людей (одного, десятка, сотни) – в возмужалости. Где закаляются до полной непробиваемости такие сердца?!
О Степа Сидоров, как я несправедлива к тебе.
Не ты ли идешь сейчас по тропинке ухоженного парка и вдруг ощущаешь странное покачивание деревьев, дорожки, травы… Так видит человек, когда идет вразвалку. Грузный человек – вразвалку. И губы его оттопырены, потому что подперты щеками. Толстыми щеками. Но ведь Сидоров тощ… Спокойно!
Степан Иваныч почувствовал некое переселение душ. Будто он уже не он, Сидоров, заместитель, а тот – Главный с тяжкими из-за толщины движениями.
Превращение кокона в бабочку… И почти тотчас же что-то сорвалось внутри. Небо, шатаясь, набежало на дорожку, а поперек лежал кто-то короткий, толстый, с застывшим лицом – точно такой, в какого за минуту до того радостно превращался Сидоров.
«Распустились. Не убрали», – успел подумать он. И уже теряя ощущение воздуха и тверди, понял вдруг, что ото он сам, сам лежит на дорожке, и его пальцы хватают прохладный утренний песок.
Очнулся Степан в больнице. Это была, несомненно, городская, столичная больница, лежал он в отдельной, довольно светлой, но не такой прекрасной, как в санатории, комнате. На столике возле кровати прямо на салфетке валялись пилюли рядом с тарелкой. Что было в тарелке, он не видел, но видел торчащую ложку.
– Слава те господи! – услышал он не особенно радостное восклицание. Вошла старая грузная нянька, села на кровать. – Ну что, доедать-то будем?
– Где я? – спросил Сидоров и сам себя не понял. Язык неловко шевелился во рту.
– Не обыкнет никак, – качнула головой нянька. – Какую уж недельку в больнице лежит!
Она не относилась с почтением. Нет, ничуть! Это сразу было видно. Значит, теперь так. И тяжелые слезы замутили его глаза. Теперь, значит, так.
Нянька отворила форточку, и из нее прямо на лицо упало несколько раздробленных капель.
– Закройте… – тихо попросил он. Очень тихо.
Нянька не закрыла. Она вывезла из угла таз со щеткой, намотала на щетку серую тряпку и стала подтирать пол.
Теперь, значит, так.
– Придет дохтур, врежет нам, – шептала старая не ему, а от привычки говорить с собой. – А что ж мне разорваться? Один немой, другой хромой…
Ев темные жилистые рука ходили возле его лица (она вытирала столик тоже серой, может, той же тряпкой). Они напомнили другие руки – белые, толстые, как они запахивают халат, как скрещиваются на груди, как поднимают тяжёлый желтый чемодан… И опять глазам стало жарко.
– Позовите… Пусть она…
Нянька остановилась. Поглядела тоскливыми глазами.
– Чего ты? Вот немой! Горюшко мое. Врача, что ли, позвать? А? Врача тебе?
Она тяжело вошла к двери, и он увидел её темные ноги без чулок, со вздутыми венами.
– На… Насти…
И теперь уже громко, со всхлипом, заплакал.
Родных не вызывали. Никто не знал, дорог ли он кому-нибудь. Ведь прошло так много времени. Без чина, без речи, без желании. Он лежал даже без маски – доктор снял ее с некоторой брезгливостью и сунул в тумбочку. И на лице никакой геометрической фигуры – одна только боль. Сначала-то очень старались спасти. Потом стало ясно. Перевели в другую больницу, поменьше. Но палату дали отдельную. И няньку приставили одну на троих. Здесь он и открыл глаза. Здесь и заплакал.
– Кончается немой, – сказала нянька врачу. – Настю какую-то зовет.
Доктор – молодой, черноглазый, быстрый – влетел в палату, увидел мокрое от слез, усохшее за последнее время лицо с узко прорезанными темными глазами, брюзгливым ртом. Сейчас лицо было желтым и не вмещало ничего, кроме беспомощности.
– На… Настя…
– Вы хотите, чтобы мы позвали ее? – спросил скороговоркой врач, привычно беря руку больного и щупая пульс. – Сейчас позовем. Сейчас позовем… Сейчас… Няня, сестру. Кислородную подушку, пожалуйста. Сестра, Тася, кордиамин… Да, да…
Потом Сидоров уснул, измученный заботами медиков. А доктор стал сам, лично звонить на бывшую работу, откуда изредка справлялись о Степане Ивановиче.
А Степан Иванович шел с маленьким флажком или с яблоневой веточкой, шел по песчаной тропе в коротких штанишках, каких не носил никогда, и в детской матросской шапочке с лентами. Он давно был мал, а теперь еще был весел и беззаботен, и это передавалось поступи, и он шел, как ходят дети под солнышком, по дорожке, посыпанной песком. Он знал, что в кармане его курточки свернута бумага, а в ней точно, абсолютно точно сказано, как жить. Не ему, а всем. Как всем быть. И он был счастлив и успокоен этим сознанием. И ему легко было подойти к любому человеку и протянуть руку:
– Здравствуй. Я – Сидоров.
Без чинов; без боязни, что глянут сверху вниз; без желания, чтоб оцепили. Зачем? Ведь в кармане его курточки… Он был богат и щедр.
– Здравствуй. Я – Сидоров.
Что-то холодное задело его по губам. Он мотнул головой. Может, листок яблоневой ветки? Как тогда, в трамвае. Тогда у кого-то была ветка. А он еще ездил в трамвае. И сквозь ветку увидел старика в тулупе. Ветка – значит, весна? А тот в тулупе. Топтался, задевал, спрашивал.
Пьян?
И все старались – подальше. И Степа (он тогда был Степа) отодвинулся. И вот старик один на площадке. И так – ни к кому почти (может, к парню, что стоял на ступенях) – вдруг взвыл, протянул руки:
– Жена у меня с дочкой на самолете летели – разбились. Жена с дочкой. Вот телеграмму дали…
Степа еще подумал: разбились, а телеграмму дали. Пьян. На водку просит. Потом понял: старик спрашивает, как проехать в больницу. Парень стал растолковывать, но старый махнул рукой, сошел. Он качался на ходу. И теперь Сидоров взял его под руку и повел, потому что бумага, которая в курточке, вмещала и это.
Но слова что-то задело по губам. Это не лист. Не ветка. Что-то твердое. Что-то ненужно твердое. Некий металл. В голосе, в жесте указующем:
– Сядь. Пригнись. Да я тебя!..
Сидоров не мог перенести этого. Это нельзя было. Это нельзя. С ним так? У которого в курточке… Он зашарил иссохшей рукой по груди, ища карман. Но в белой больничной рубахе кармана не было. И значит, не было бумаги. И значит, ничегоне было. Ни солнца, ни пожатья чужой руки, ни этого старика в тулупе, которого теперь (не тогда, а теперь) он пожалел и повел, чтобы утешить, потому что даже если есть бумага, горе не так легко уходит из сердца.
Сидоров не поверил и опять стал искать карман. И вдруг зарычал, как зверь, и испугался своего рыка.
– Будет уж тебе. Пей сок, – сказала нянька и зевнула, закрыв рот свободной рукой.
– Я пойду, – попросил он. – Я хочу в поле, и васильки, головками качая… Темно-голубые.
– Пей, пей. И что плетет, немец. – И снова холодной ложкой в губы, толк, толк.
И тут вошла Настя.
– Милый мой! – По щекам ее текли слезы. – Маленький мой! Сыночек! – и припала теплой и мокрой щекой к его щеке. – Что с тобой сделали? – Она подняла его на руки, качнула: – Баю-баю!
И понесла, прижимая к большой груди, его – крохотный комочек из костей и слабого мяса…
– Мама очень плакала, когда он умер, – сказала с оттенком удивления Светлана. – Трудно поверить, но она его любила. Всю жизнь.








