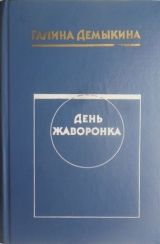
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
– Меня возьмешь в монтажную?
– Приходи. Отберем. А звук я сам буду класть. Тут – не оглянись, не промахнись.
Юрий был бодр, возбужден. Виталий дивился, как легко он находит слова для актеров, как следит, чтобы не терялся темп от куска к куску. Юрка все держал в памяти. Смешно, но даже костюмы – кто в чем был одет, – хоть, ясно, это дело не его. Он был деспотом на съемочной площадке. Но поскольку ярок, точен, сметлив, все принимали его деспотизм как должное. Даже Володя Заев.
– Слушай, хватит мне этих световых чудес, – сказал ему как-то Буров. – Умерь индивидуальность. Не самовыявляйся. Пусть эта сцена пойдет в простоте. – И добавил мягко: – Мне тут передых нужен.
Володя, который обычно обижался легчайше, не возразил и велел снять задний подсвет.
Старая гримерша Танечка, костюмеры, осветители, вся операторская и режиссерская группы, не говоря уж об актерах, были не просто готовы к съемкам, а по мановению короткого буровского пальца как в бой кидались – так он их наэлектризовал.
Виталий помнил: Юрка и в школе был командиром. И зачем-то спрашивал себя, примерял чужие одежки: «А я бы смог?»
И зря думал об этом. Нет, не смог бы, не смог. Не та хватка! Есть профессии, для которых надо родиться: то есть не только в таланте дело, но и в характере. Талант должен быть поддержан характером.
Буров с начала работы вел записи предстоящих дел:
Директора подобрать (чтоб без Тищенки).
Лучше подождать Стася Петрова.
Еще раз – см. смету.
2-й режиссер (чтоб непременно был Стеклов).
Добиться Заева с 15-го.
См. павильон – изба – плохо!
Рано тает! Как быть?!
Ускорить выезд на натуру (снег тает). Машина (заявку!).
Она…
Юрка усмехнулся над этой записью. Ведь он хотел заменить Ону! Была такая нелепая мысль! Разве нашел бы? Хорошая оказалась артистка. Вот ведь примитив, а таланту бог дал вдосталь. Работать с ней тяжело. Устал. Вообще устал. А впереди весь монтажно-тонировочный!
* * *
Вот я и потеряла все. Как в той птичьей сказке. Эта женщина, царевна, говорила: «Только не спрашивай, кто я!» Но человек всегда спросит. Ему все надо. Узнает и сожжет крылья. А ведь у нее тайна была. А мне был выбор: с ним быть или роль играть. Дура я, дура! Мне бы отказаться! Все про меня узнал и перышки мои – в огонь!
Нам в институте часто говорили: на сцене сквозь роль просвечивает нутро актера – ну, какой он, значит, человек. Я не верила, потому что бывает, что дурные люди играют прекрасных и все в зале плачут.
Он выпотрошил все мое из меня. Теперь хорошо меня знает! Велел вспомнить детство, и первую любовь (как я была влюблена в соседского мальчика Олави), и даже отца. Отец у меня был добрый, тихий. И все при нем были добрые и тихие, даже мама (теперь-то она другая!). Мы тогда уже в Юрбаркасе жили (теперь мама сдала часть дома), и у нас была пасека (и пчелы тоже добрые), был лохматый пес Блускис… Отец меня в поле с собой брал, вроде как Чириков Аленку (мы ведь крестьяне), о траве, о посевах рассказывал. Только я так не болела, как Алёнка. Но теперь мне кажется, что и я болела. И когда Чириков наклонился над ней, то есть надо мной, и шепчет, будто молится:
– Дочушка, пожалей ты меня, дочушка, родимая! – я заплакала.
Юрий рассердился. За дело, конечно. Только ведь мне-то никто таких слов не скажет. И я остановиться не могла. И он не скажет. Теперь. А ведь он добрый. А что на съемках обманул: «звонил, мол, все у тебя в порядке», – так это не для себя. Для дела. А потом – ведь и верно, ничего плохого не нашли. Хотя он, конечно, об этом не знал. И почему в голову все он лезет? У меня обида: он и сказки, может, для дела рассказывал: посадит на колени, как маленькую, и рассказывает. Еще – стихи… Неужели только для фильма? Нет! Нет! Неправда это! Он прежде на меня смотрел так – чуть вбок, – это при других. А уж когда мы вдвоем – особенным, «нашим» взглядом: что вот, мол, мы вместе и что я ему нравлюсь. А вчера посмотрел спокойно так, открыто, кивнул даже. И ничего не пробежало из его глаз в мои. Я знала, что так будет. Знала. Все перышки он мои пожёг. Все до одного.
* * *
Диспетчерская до 12-ти.
Ролик № 1. Поправки.
1. Титры см!
2. Выбросить сапоги (вагон).
3. Чище переход к деревне.
4. № шифра.
5. Монтаж «по Домье».
Полсмены с 20.30 до 24-х.
Выбить смену (с 16 до 24-х).
Ролик № 1.
Переход из зтм в зтм (не выйдет – выкинуть!).
Проход у реки – 2-й дубль.
Следы на песке запороты! (Искать!)
Аленка безобразна (см. дубли).
* * *
Монтажный стол, маленький экран, с двух сторон – диски. Тут режут пленку, склеивают ее липучкой, то есть скотчем, давят прессом.
– Талька! – оборачивает Буров воспаленное лицо. Подвижная ноздря его так и ходит. – А? Гений Володька, да? – Но чаще, гораздо чаще наоборот. – Ну? Можно из этого дерьма слепить хоть полфильма?
Обычно Виталий видит его лохматый затылок. И даже затылок сосредоточен и напряжен. Режиссер лепит фильм. Работа, конечно, адовая, и Юрий жадно выкладывается.
– Смотри в оба! – вопит он Виталию. – Мамаша пошла!
На экране пожилая женщина в платке. Черты мягки, обычны. Это – Нина Смирнова. Но ее не узнать: грим, свет. Сперва не обращаешь внимания – идет и идет человек вдоль деревни. Но вот она у Чириковой избы. Быстрый тревожный взгляд ее – на окно. Не просто тревожный: в нем ожидание, тоска, страх. И вдруг сдвинула брови, увела внутрь все, что было на лице. Стучит в окно. Аленка метнулась за стеклом, распахнула незапертую дверь: входите.
– Ты кто? – спрашивает женщина.
Говорит не как все. Чуть уловимый акцент выдаст нездешнюю. Аленка глядит молча.
– Кто там, Аленушка? – слышен старческий голос из избы.
Алена все молчит и смотрит. Потом зовет женщину:
– Войдите в избу.
И та идет. Заново, ее глазами, видятся сени, ведерки с водой, прикрытые деревянными крышками – аккуратными, Чириковой бережной работы; потом – комната с Алениными рисунками, странными: вот огромная оса в сухих еловых ветках, вот – во весь холст – мухомор, похожий на еще не раскрывшийся цветок, а у его подножья крохотная, забытая человеком корзинка (человеком, который рядом с этим грибом не больше гнома). А на другой степе, возле семейных фотографии, – портрет.
Женский.
Гостья сбрасывает платок. Всматривается.
Теперь видно, что это одно лицо – молодое и старое. Лицо той женщины, которую уносили во время боя. Алена прижала руки ко рту, чтобы не крикнуть. В это время из-за переборки выходит старик. Ему не надо портретов. Он понял сердцем.
– Поди, дочка, достань из колодца молока, – просит он. И видно, как руки его трясутся. И что он стар. И потерян.
Он и женщина долго молчат, глядят друг на друга.
– Я приехала… – начинает женщина.
– Угадал я, – отвечает Чириков. Они замолкают.
Алена приходит с бидоном. Собирает на стол. Она хрупкая, тоненькая, но совсем уже взрослая девушка. Растерянность ее не прошла, но она так же, как пять минут назад эта женщина, свела брови, втянула свое в себя.
– Ты знаешь, кто есть я? – спрашивает женщина. Алена тянется к ней глазами:
– Да.
– А знаешь, зачем я здесь?
Алена медленно опускает голову, лица ее теперь не видно.
– Marta, mein Kind! Erkennst du mich nicht? – шепчет женщина в растерянности, радости, в страхе новой потери.
И девочка гнется ниже – и тихо:
– Ма… – И вдруг бросается к женщине. – Мама!
Чириков недвижно сидит, отворотя голову к окошку.
Буров отбирает, режет, лепит куски. Пока лента не озвучена: никаких слов нет, – Виталий просто помнит их. Он знает, что позже монтажница подложит фонограмму по хлопушке – два движения помрежа на пленке совпадут с двумя хлопками-звуками. И тогда все они заговорят синхронно, как говорили на съемке. Но это еще черновая фонограмма. Потом будет озвучивание в павильоне. Правда, эта сторона дела ему так же темна и тяжела, как подсчет деревьев в лесном хозяйстве и как отчеты в институте. А вот Юрка! В перерыве (надо же монтажнице отдохнуть – Юрка-то сам и не отрывался бы!) он как в лихорадке – и все о том же, о том:
– Виталий, я что думаю: сколько у нас было трепа о высокой плоскости, о духовности. А фильм-то получился того… бытовой. Не вышло! Не вышло ни черта!
– Ну, старик, не ожидал от тебя! Ведь этот Чириков, простой, вроде бы даже темный человек, – ведь он птицу воспитал! Человека птичьей высоты. Такого полета звонкого!.. Да есть ли выше духовность, чем его? А та сцена, когда Чириков с Аленой сидят в избе, сумерничают…
О, это было все не просто так. Не просто «сидят в избе».
Когда Алена кинулась к матери, Чириков застыл, повернувшись к окошку. Женщина гладила девочку, подняла ее смутное, заплаканное лицо. Алена старалась не глядеть, прятала голову на плечо у матери, и тогда мы видели, сколько в ее лице радости, которой она не дает прорваться. Не даст, потому что рядом, в избе, тот, кому она обязана жизнью.
– Endlich habe ich dich wieder, mein Herzchen! – шепчет женщина.
– Мама, я… я не понимаю. Ich habe alles vergessen! – плачет Аленка. – Я забыла.
– Девочка, а я выучила… выучила язык, чтобы найти тебя… Я знала… Я надеялась.
Теперь они обе плачут навзрыд, и снова перед Аленой знакомая поляна, перестрелка, копна сена и это лицо – вот это самое, только молодое, бледное, искаженное мукой и страхом – страхом за ребенка. Видение ее, наконец, обрело плоть. И она потрясена.
– Мы поедем домой… Ты помнишь наш дом? – говорит женщина, сжимая худенькое родное тело.
Но тело это вдруг напрягается, деревенеет. Девушка оглядывается на неподвижно и отсутствующе сидящего старика. Каждая морщинка его добра. Прищур светлых глаз, попытка казаться спокойным – она знает все это, и понимает, и любит до самых тайных своих и заветных глубин. И мы это видим по ее лицу, по нежности и состраданию в ее глазах.
– Мы можем поехать… – Женщина смотрит на ручные часы. Потом прослеживает взгляд дочери. – Если хочешь, не сегодня. Можно завтра.
Но Алена уже не сводит глаз с Чирикова.
– А папа? – спрашивает она. Но спрашивает робко, без веры, потому что знает: Чирикову не будет места рядом с ними… рядом с матерью.
И женщина, поняв, что решается в эту минуту, говорит жестко:
– Твой отец убит. – И, отважившись, добавляет: – Вот кто убил его.
Чириков резко поворачивается. Лицо его беспомощно.
– Я не убивал.
– Я видела, – женщине уже нельзя, теперь уже некуда отступать, – вы спрятались за дерево… Все отбежали, а вы – за дерево. Чтобы прикрыть их огнем.
– Я был ранен, – точно оправдываясь в своей храбрости, говорит Чириков.
– Это безразлично. А мы с мужем и с дочкой были возле копны. Вы помните?
– Девочки не было.
– Я ее спрятала в сено. Но вы стреляли в ее отца. Он был в штатском. Помните? Помните?
– Не помню я его. Но даже ежели… то была война, – отвечает Чириков, не пытаясь убедить. – Он тоже стрелял.
Перед глазами Алены снова поляна, истоптанный снег, потом этот качающийся колосок. И – полное доброты лицо чужого солдата, такое, что она сразу потянулась навстречу. И как он бережно поднял ее, дивясь легкости маленького тела. Она перевела взгляд на колосок, и он сорвал для нее, раз уж она просит. И как потом в незнакомой, чужой избе мыл ей в окоренке ноги, тер своими огромными ручищами – ласково и тоже бережно. И эта хозяйка избы с почерневшим лицом, жаворонок из ржаной муки… Алена невольно оглянулась на полку, где стоял он, усохший, растрескавшийся.
– Я не знаю, – говорит она скорее себе, чем матери.
– Но он убил твоего отца.
– Да как же я мог? – вдруг будто просыпается Чириков. – Как же я мог себя-то убить? Ведь вот я. Вот он я, ее отец. – И совсем тихо: – Я, может, и выжил-то потому, что нужен был ей, Аленушке.
– Ее зовут Марта, – холодно отзывается женщина.
Девушка вздрагивает. Как кнутом прошлось по ней новое имя. Чужое.
– Это, наверно, другую… – умоляюще возражает Чириков. – Мою – Аленушка, Аленка.
И – совсем безнадежно:
– Пусть она решает. Ей жить. Мы-то уж…
И вот они вдвоем в избе, в неверном свете белого северного вечера, – Чириков и Алена.
Женщина лежит в летней избе, где постелила ей дочка. Она, конечно, не спит. Но что-то мешает ей выйти, разрушить разговор, который (она это отлично понимает) ведется между двумя людьми, одного из которых она так любит, а другого не умеет простить.
– Эх, доченька, это великое дело – мать. Ты не обижай ее. Это я тебе по совести говорю. А если по сердцу…
Аленка подходит к семейной фотографии, висящей на стене, показывает на маленькую девочку в длинном деревенском платье. Девочке года два-три, и она сидит на руках у молодой, гладко причесанной женщины.
– Это я? – спрашивает Алена.
Чириков кивает. Она смотрит на женщину:
– А это… – И не договаривает, встретив горестный взгляд старика. Ей открывается вся огромность его утраты. Он второй раз теряет дочь. Второй раз.
И тогда она, обычно сдержанная, вдруг обнимает его. Сердце ее разрывается. Девушка не плачет, но отчаянию ее нет конца.
– Я не могу, – говорит она. – Не смогу…
И не совсем ясно, чего она не сможет – уйти или остаться.
И тогда Чириков; ласково отстраняя ее, подходит к комоду, достает оттуда старую деревянную шкатулку.
– Что ты так-то уж сгорилась, Аленушка? Не вся твоя жизнь в стариках. Придет пора – полюбишь хорошего человека…
– Ты как сказку говоришь… – вздыхает Алена.
– А что ж сказки? Они из жизни идут. Полюбишь, начнешь семейно жить. Как в церкви-то прежде при венчании читали: «Отлепись от отца с матерью, прилепись к мужу своему…» Так и есть оно, уж я знаю. А у меня вот… приданого-то не собрал… а колечко только. Наше, семейное. Ты береги. А будет у тебя дочка, так – ей. Потом. Когда в пору войдет.
Аленка взяла тоненькое колечко с бирюзинкой.
– Хм… Дочка… У меня…
– А что? Будет, будет. Это ведь счастье какое – ребеночек в люльке. Да при муже-то хорошем…
Притихла Алена, думает о своем. А вдалеке, на другом конце деревни, начинается гулянье. Медленная девичья песня – без гармоники, на несколько голосов:
Ты ходи – не обманывай,
Ты люби – не разгадывай.
Друг ты мои, красили девица!
Ты роди-ка мне сына
Белого сыра.
Ты роди-ка мне
Белую лебедушку.
Алена встрепенулась: молодая ведь. И Чириков кивнул ей ласково:
– Иди, доченька, иди погуляй. Да косыночку-то надень. Больно уж она тебе личит.
– Все! – говорит Юрий. – Не соображаю больше. – Смотрит на часы. – Ого!
Они выходят из монтажной. И Виталий тоже чувствует – устал. То есть он-то сам давно устал и практически перестал быть полезным: сообразить, к примеру, какой кусок лучше, уже не мог.
– Эх, боюсь, налепил не то, – говорит Буров, сбегая по лестнице. – Много там быта прет. И сантимента. Не то я хотел, не то!
– По-моему, в меру, – отвечает Виталий. Ему нравится то, что выходит, что постепенно начинает проступать. – Есть там, Юрка, не абсолютная буквальность, понимаешь?
– Не! Не понимаю.
– Ну как же так? Бывает в искусстве, в любом – живописи, литературе, кино – все похоже, похоже – не придерешься…
– Правдоподобием это называется, мой друг теоретик. – И смеется. – У меня был приятель, он почти ни одной буквы не выговаривал! Он бы сказал «теаэтик», что с той же охотой могло бы означать «человечек». Ну, так что, теаэтик?
– Ну тебя, сбил. Так вот я про что. Чего смеешься?
– Сметлив. А тебя, между прочим, сроду не собьешь.
– Ну и не пробуй. Так вот. Бывает так, все похоже. Стол – это стол, изделие из древесины. Снег – снег, – замерзшая вода. Человек – одушевленное скопище клеток, всяких там генов, хромосом, РНК, ДНК…
– Чего-чего?
– Неважно. Кислоты такие – рибонуклеиновая в дезоксирибонуклеиновая; – это я убиваю тебя эрудицией. Чтобы сквитаться за твой чертов дар. Комплексую.
– Какой дар?
– Потом. Я о фильме. Видишь ли, Юрка, я ведь тут сбоку припека – полуавтор, статист – и потому могу судить трезво. На сцене – ты. Но мне кажется – есть в том, как ты снимал и как монтируешь теперь, есть нечто, что держит фильм выше буквальности. Есть еще что-то поверх быта, плоти…
– Должно быть. Должно, – уже серьезно кивает Юрий. – А что быт – так ведь в чем ему, духу-то, удержаться, как не в плоти.
Они выходят на улицу. Воздух уже темен, огни из окон и от фонарей едва разрежают тьму. Идут молча, и Виталий каждым нервом, каждой клеточкой кожи чувствует Юркину взвинченность. Но он не знает, что это уже другие заботы, потому что назавтра опять все заваливается.
…Найти голос
(Лина Строева не может).
Попросить 4-й тон-зал для репличного озвучания.
Диспетчерская!
– Ты меня слышишь, Юрка!
– А?
– Я говорю – ты убедителен. Понимаешь?
– Ты про что, Талик?
– Что все вращается вокруг тебя. Всё и все.
– Так я – режиссер. Вокруг костюмера им, что ли, вращаться?
– Не о том! Ты же знаешь, о чем я. Если бы ты остался со своими картинами, то я, и Она, и Володя Заев, и сто людей еще бегали бы к тебе смотреть их, спорили бы о выставках, о художниках, о колорите, рисунке, мазке, фактуре – черт знает о чем еще!
– Ну?
– Что «ну»? Не со всеми же так.
Юрка вдруг рассмеялся.
– Талька, ты завидуешь моему могуществу, а? Не скрывай! Скажи мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмешь ты – знаешь кого?
– Догадываюсь.
– Прав я?
– Наверное. Ведь эта веревочка, Юр, еще с Крапивина вьется.
– А как же. Два взаимных завистника.
– Неужели и ты? Чему, Юрка?
– Всему. И изыску этакому, узкому лику, как с иконы, и культуре, и эрудиции твоей проклятой. Начётчик чертов! Книжный червь! Ну, и… сам знаешь. Это уж после. И ведь только в Москве узнал. Позвонил тебе – тогда, после встречи. А онаподошла. Меня – как током! Ладно, дело прошлое. Ты ее не больно-то счастьем одарил.
Юрий теперь говорил тихо, бурчал себе под нос. Виталий едва улавливал.
– А ты бы? – почему-то спросил он, дивясь своей бестактности. Никогда ведь не говорили об этом. И не следовало.
– Я бы? – Юрий вдруг остановился, глаза сузились, лицо смялось, как в первый день их знакомства. Вздрогнула, ожила подвижная ноздря. – Я бы? Тогда? Если б она… ко мне? Да я бы… Я бы… – И задохнулся. Потому что, видно, и любовь эта, этаименно, была подвержена такому же азарту, такой же самоотдаче, как все, на чем сходились лучи его живого интереса. – Да не было бы счастливей женщины! Все бы двери ей отворены, все цветы дарены, все ее прихоти… А хочешь еще честней? Я тебя убить хотел. Думаю – подстерегу там, в твоей этой московской улочке… Потом понял – куда мне. Но смерти я тебе, Талька, желал.
Они стояли посреди площади – Юрий бледный, взбаламученный, Виталий не глядел на него: щурил глаза, всматриваясь в плетение веток чьего-то дворового тополя. И – смешно! – ощущал себя чуть выше (ведь тот, кто слабее чувствует, всегда больше защищен) и тут же завидовал (опять завидовал!), что никогда не мог так. Не мог разрешить себе.
– А теперь, Талька, – Юрий прижал обе руки к груди, – вот – честно – я рад. Я бы, может, без этого… без горя… так в работу не влез. Я не умею делить пирог: вот тебе, а это не тебе. Не умею. Устроен по-дурацки. И мне мешало бы.
«А Она?» – хотел спросить Виталий, но не хватило храбрости. Поскольку это ему, Виталию, было важно. Было. Против воли. И еще подумал о себе: разве мне-то не мешало? И ответил честней те: нет. Так и сказать нельзя. Меня это съело. С потрохами. И не было щита, чтоб заслониться. Не было того, что стало бы выше любви, выше долга. А пристрастие было? Было. Эти самые ДНК и РНК и попытка подглядеть одну из бесчисленных тайн природы, чтобы за ней оказалась другая, третья, чтоб разверзлась потом пропасть вроде вселенной и оказалось, что ты увидел одну из крохотных звездочек среди бесчисленных еще не открытых.
Но заболела мама… Но начались драматические нелады с Лидой, потом рождение Пашуты, довольно-таки ощутимая бедность. И – не позволил себе, не отважился. Чувство долга? Пусть так. Нет – осторожность. Робость. Та впитанная из тревожных сумерек, окружавших маму, ее слабые плечи, ее пугливый взгляд:
…Улетали филины, остался один.
Остался один, на сучочке сидит…
«О мадам, то, как проходит наше детство…» Теперь они шли молча – каждый в своем – до перекрестка, где обычно прощались.
– До свидания, мой режиссер.
– Приятных снов, соавтор. – И вдруг рассмеялся. – А все-таки она у нас полетела, а? Фильм засыпали, но Алена полетела. – И добавил доверительно: – Онка до того не в форме была, я боялся: мы с тобой взлетим, а она останется. Как в том анекдоте, знаешь, – поезд отходит, провожающие успели впрыгнуть, а тот, кого провожали, пассажир – нет! – И вдруг оборвал: – О, чуть не забыл. Она завтра уезжает к себе. Приходи провожать. – И сжал руку. – До завтра.
Виталию показалось, что разговор был нарочно оборван. Жалеет? Не хочет расспросов? Впрочем, он и прежде так: «Ну, до завтра».
* * *
Он сказал, что я кошка, что привыкла к дому, а не к нему. И что пусть я уезжаю. Потому что я много беру его времени и он не может работать, когда я за спиной все время плачу. Я сказала, что я не буду плакать, а он говорит: все равно. А куда мне ехать? Если в Юрбаркас, так мама меня не примет, потому что она вышла замуж. Она сказала, что вот я старая, а вышла замуж. И тогда я написала, что я тоже вышла. А она ответила, чтоб я теперь присылала ей деньги. Разве ей муж не дает?
Он говорит, что я плачу. А как же не плакать? То я болела, теперь он прогоняет. Я могу поехать к Юргису, он мне пишет письма. Он тоже режиссер. И имя то же. Но у него есть жена. Может, он ее бросит? Но Юргис не сможет так махнуть рукой за голову – э, пропади все пропадом! И он не скажет так: «Онка, счастье ты мое несуразное!» И что я дурочка, и что я зверушка, и что я птича (потому что по-русски «птичка» слишком ласково). И сказку никакую мне не расскажет. Я совсем не могу спать. Я все время об этом думаю. А он вчера проснулся, поглядел в мои открытые глаза и сказал: «Не вынуждай меня на благородство. Тебе же будет хуже».
Про что он сказал? Может, про то, чтоб меня здесь оставить? Мне бы не было хуже.
А еще он сказал, что я запустила квартиру, что так грязно не было. Это неправда. Было так же. А сейчас он пошел покупать мне пальто: мы вчера у одной артистки мерили – она продает. Может, мне не ехать? Но он сказал: «Онка, у нас с тобой – всё». «Всё» – это по-русски значит ничего. Ну, пусть хоть пальто купит. Юргис никогда не сделает так. Только если женится. А вдруг он на мне женится?
* * *
День выдался темный. Ветер нес пыль и мусор. И всё в лицо, в лицо! А в небе шевелилась сырость. И вокзал был серый, и стояли они как на юру – кругом видны, продуваемы ветром. Хорошо еще, что пришел Алик. Он притащился с легким чемоданишком, был не к делу весел, а сам все заглядывал в глаза: пристроит ли его Она в родном своем городе куда-нибудь на квартиру; не сердится ли Юрий Матвеич Буров, что он едет с Оной; не мешает ли Виталию Николаичу и Юрию Матвеичу на этих проводах? Надо, надо развлечь, возместить убытки! И он старался.
– Ну что ж, друзья, вот и наша Она приобщилась… Возьмет людей за души. Такая роль – потрясение! – И хихикнул. – Как говорится, роль берет за душу, а актёр – за роль, ха-ха!
У Оны был такой уж не обогащенный вид – старенькое пальтецо, плохо отглаженные брючки, цветной платок, обтянувший узкую мордочку и подчеркнувший бледность и худобу. Она какое-то время побыла все же красивой, счастливой, принаряженной. Еще когда была «хлопушкой». Теперь ей вроде бы снова было все равно.
Юрий удивлялся прежде:
– Почему ей ничего не надо? Ведь я помню: купил новые ботинки, впервые – хорошие, так на них будто крылья выросли, прямо летал по Москве. А Онка…
Ее кожа была лиловатой от ветра, глаза совсем тусклы, будто это и не она на качелях, с сиянием вокруг головы…
– Она, знаешь, как здорово ты получилась на качелях! Мы с Юрием вчера…
– А?
Виталий обнял ее за плечи, отвел в сторону.
– Что случилось, Она? Я не могу помочь?
Покивала головой: нет, мол, нет. И улыбнулась жалко. Ах, какой бы Лида на ее месте выдала парад победы! Как ослепительна была бы ее улыбка (чем хуже ей, тем ослепительней!), как ярко блестели бы зубы, а голос отзванивал триумф. Неужели Юрке нужно такое? Сила, во что бы то ни стало, сила, даже вопреки здравому смыслу?
Он подумал об этом, потому что видел: Юрий раздражен. Не опечален, не смущен, а зол. Зато Алик…
– Виталий Николаич, Она, идите сюда, есть новая хохма!
– К дьяволу! – огрызнулся Буров.
– Нет, послушайте! Следователь спрашивает женщину:
«За что вы убили мужа?»
«Надоело, что он пускает дым колечками».
«Но так поступают многие курильщики».
«В том-то и дело, что он никогда не курил».
Алик засмеялся, взглядом приглашая к смеху остальных. Виталий улыбнулся. По щекам Оны поползли две здоровенные слезы: она ведь тоже никогда не курила, а дым колечками надоел. Так ведь?
– Ты сегодня прямо снайпер непопадания, – цыкнул на Алика Юрий.
Но тут, всем на радость, подошел поезд. Стали втаскивать Онины вещи (их оказалось много, насовсем, значит), спрашивать о чем-то проводницу, помогать Оне разместиться. Потом постояли молча. Тяжело молчали.
– Присядем на дорожку, – сказал Юрий. Сели, потеснив соседей по купе.
– Ну, будь, Она, – резко, без наигрыша, сказал Юрий, обнял и поцеловал в щеку. Потом еще раз поцеловал, подержал в ладонях ее маленькую мокрую мордочку. – Не скучай там. Будет роль – вызову.
– Да, да, – покивала она.
Виталий тоже подошел. Но Она как-то его не увидела, даже механическая память изменила: потянуться к нему и подставить щеку.
С Аликом и вовсе забыли проститься.
Вышли из вагона. Поезд пошел, пошел, унося в одном из своих окон грустное, тихое, удивительно милое лицо.
Виталий первый протянул руку.
– До свидания, Юра. – Голос прозвучал холодно.
– Не злись, – наклонился к нему Юрий. Глаза его были красными. Вернее всего – от ветра. – Не злись. Надо выбирать. Я же говорил – не умею делить пирог.
– Да что она с тебя спрашивала?
– О, ты не говори. Ей всё надо было отдать, потому что – болото. Ничего своего нет. Только всасывание.
– Не очень понял.
– И еще, может, такое: для меня, Талька, что на полотна мои переходило – конец! Пропадало. Ничто, брат, не выдерживает пристальности.
– Ты в уме, Юрка? Это же – Она. Не оса, не кусок сосны.
– Знаю! – перебил он и провел ладонью по сморщившемуся лицу. И не досада была, а боль, может быть, вина. – Запутался я. Ни так не могу, ни эдак. А уж через силу, через раздражение – кому такое нужно?
– Ну что ж, до свидания, Юра.
– До завтра.
* * *
Теперь с маленького экрана в монтажной Она смотрелась с болью и нежностью, как прошлое, которое еще рядом, а уже не дотянешься.
Они оба долго и по-особенному отбирали куски. И Юрий тоже. В нем тоже болело, это было видно. Он, впрочем, и не таил.
– Вот здесь она работает как надо! – говорил Юрий тихо. – Видишь, взгляд диковатый, а притяжной, верно?
– Это еевзгляд. Не Аленкин.
– Наплевать. Они одинаковые.
Алена вышла из избы еще грустная: такой разговор со стариком! Старик – не отец. А рядом спит мать. Которая прятала ее в сене, уже в бреду кричала о ней санитарам и потом искала свою дочку по свету. Выучила чужой язык, шла от деревни в деревне по едва заметному следочку.
…Алена подходит к окошку, заглядывает в него. Мать не спит. В полутьме лихорадочно светятся ее глаза. Глядит в потолок, думает, вспоминает. Тоже второй раз теряет дочку. Тоже. А тот, кто ей не отец (Аленка заглянула и в его окошко), согнувшись над лавкой, чинит ей туфлю. В дорогу? Или по привычке? Нет, по любви!
Но вот Аленку окликают, и она бежит к подругам. И оттаивает, вздыхает свободно. Забылась понемногу. Подпевает, как умеет. А сама все глядит на тот дом, где сливовый сад, откуда – вот он! – появляется учитель. И сразу рывок камеры, выхватывается его лицо – нервное, ждущее. Он тоже не зная знает, что здесь она, Алена. И тут взгляд ее диковатый. Увидела его, и – всё. Пропала. И уж куда ни сворачивает «улица» – так в тех местах гулянки зовут, – всюду он в поле зрения. Ее. Вот он с девушками здоровается, вот закурил, перевел глаза на Алену. И тоже замер. Подошел к ней. И сразу темнота. Кусок темноты, в которой что-то клубится, шевелится, то вдруг вспышка, то опять темь и сквозь нее – нежный, как стебель травы, звук. Валторна. А потом в луче, похожем на лунный, шевелятся облака, гнутся ветки (вернее – тени ветвей), а одинокий звук крепнет, поддержанный другими. Сложная оркестровка: так они разговаривают. Потому что ведь не важно, какие пустые слова они друг другу говорят. А музыка в них, в самих.
И вот они вышли в поле. Светло – север, ночи белые. Идут. Нет, он идет, а она кружит возле него, поет, как тогда, на качелях: только ему такое! Он протягивает к ней руки – она отбегает. Он за ней. И вот поймал, схватил, целует, шепчет что-то, гнет. Грубо. Может, для кого в самый раз, а ей не вынести. Вырывается, руки разметала, кричит гортанно… И вдруг – небо. И внизу смятая рожь, где они были, колосья, сломанные стебли… Потом – то же, но мельче, издалека… широкий обзор – поле, лес по краям, а земля далеко уже…
И на стежке – маленькая фигурка. Это он, учитель. Тянет руки вверх, в руках у него косынка. Следим направление его рук и взгляда.
Вверху, в просторном белом небе, – птица.
* * *
Художественный совет (э, да что там «совет» – люди: режиссеры, редакторы, члены коллегии – все из плоти, духа, рвения осуществить право на труд, осторожности, доброжелательности и недоброжелательности, дипломатичности, прямоты и кривоты, желания понравиться, взять реванш, умения восхититься, умерить свой пыл, резать правду-матку, и т. д. – еще на страницу пли даже больше, потому что людских помыслов так много – не напасешься бумаги), так вот: худсовет просмотрел фильм и молчал. Выло в фильме нечто не дававшее прямого ответа, ускользавшее от ясных ходов. И это тревожило. Они понимали. И многие оценили. Но кто-то (и вовсе не «кто-то», а НектоУважаемый, авторитетный) должен был начать. А он не начинал. Может, не пришел, может, нежился в постели или проводил отпуск на берегу теплого моря; а то еще зубрил историю кино во ВГИКе (имеется в виду, что он был еще студентом) или играл в песочек на детской площадке; а возможно, укрыв пледом старческие ноги с подагрическими шишками, рассказывал внуку (правнуку) содержание одного из первых в мире фильмов – «Ограбление поезда» – фильма-дедушки (прадедушки) современных детективов.
Одним словом, начать было некому, и тогда слово взяла Вика Волгина, та самая, прежде юная, теперь уже бывалая редакторша, которая давным-давно следила недобрым оком за деятельностью Бурова. Вероятно, нет смысла передавать ее речь: бывают при всей своей ожесточенности весьма убежденные люди.
– Да, пожалуй, – отозвался один из ведущих режиссеров. Он был сторонником иного, чем Буров, направления. – Если снять с выступления Волгиной некоторую резкость, которая едва ли уместна…
Молчаливо и строго сидел Тищенко. Он предупреждал. И самого Бурова предупреждал, и тех, кто слепо доверял ему, и тех, разумеется, кто недолюбливал этого выскочку. Ни от кого он не утаил своего мнения, до кого прямо донес, до кого – косвенно. И вот теперь оно должно было прорасти, дать всходы, цветы, плоды.








