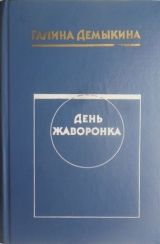
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Если бы Юрий Матвеич Буров пришел на просмотр, если бы удостоил (так сказала Вика – «не удостоил»)… ведь говорить плохое в лицо вообще трудно, а работникам кино в особицу. Но он не явился. И вот еще один голос, не громкий, но крупный, из числа тех, которые призваны были озвучить праведный тищенковский гнев. И еще два голоса… Трио, квартет, секстет… Того гляди хор. И тогда – конец фильму.
– Может, я стар и ничего не понимаю, – вдруг тихонько, будто сам себе, сказал Вас-Вас. Наступила тишина. Он длил паузу. Тишина стала стеклянной. – Может; я, конечно, совсем отупел… Помните, как однажды Буров неодобрительно отозвался о моем детище… Мы всегда втайне знаем, удачного ли родили… И я знаю, и каждый. А то, что выдал нам сегодня Юрь Матвеич… Простите меня, но мне… Но меня это глубоко задело, взяло за живое. Держало меня, старого лиса, от начала до конца. И вот что я хочу сказать. Есть вещи, которые не надо раскладывать на составные части, – иначе они делаются бессмысленными… Зачем, в самом деле, Виктория, э…
– Петровна, – услужливо подсказал кто-то.
– Да. Так вот зачем редактор Волгина взяла такой сложный механизм, как… ну, скажем, рояль и разъяла на металлическую часть, деревянную часть, молоточки, кусочки фетра… или что там у него?.. И вот рояль потерял свое назначение. Хоть на растопку, право. Искусство, оно, друзья мои. – не мне вам говорить, – имеет дело с эмоциональной сферой. И мы всегда знаем, какие молоточки, то есть какие струны, задеты. – И улыбнулся. – Привязалось! Так вот во мне задеты добрые. Да. А что до теоретической части, тут мы все мастаки, и я не хочу прибегать к этому оружию: оно стреляет в обе стороны. Да. Простите за выспренность.
И сел, грузный и рассердившийся.
Говорят, что у хорошего актера есть не один десяток надежных штампов. Но – не правда ли? – лучший актер все же тот, у которого их нет. Искренность победительна. Это только кажется, будто Вас-Вас взял на себя роль нежащегося в кровати; отдыхающего у моря; зубрящего программу ВГИКа, кутающего старые ноги в плед. Он, конечно, был «уважаемый», «авторитетный», «некто». Однако сработало другое: искренность. Он отворил эту жилу. И зашумели, заговорили, уже не все по делу. И оказалось, что имевшие уши услышали, а имевшие глаза узрели.
И как-то на время забыли о Тищенко. Так что ему пришлось дать себе трудную, но верную клятву (клятвам он не изменял), что фильм в прокат не пойдет.
А Юрка? То есть, простите, Юрий Матвеич Буров? Бурова не хватило. Он проснулся в тот день в такой тревоге, что удивился сам. И руки, наливавшие кофе, дрожали, как у девочки перед первым свиданием. Ах, как ясно видел он, что предстоит! И – лица: удивленные, равнодушные, тайно восторженные (что толку от тайноговосторга!), злорадные, «верные общему делу», строгие, сытые, неутоленные – всякие. «Надо того… для храбрости…» – подумал Юрий. Он уже забыл, когда пил в последний раз. Сто лет назад. Но початая бутылка стояла и вдруг потянула, и притяжение это смяло все доводы. Немножечко совсем… полстаканчика…
Когда раздался телефонный звонок, он с трудом оторвал голову от стола.
– Да, Виталий. Да, дорогой… Приняли? Не врешь, а? Не то чтобы «нас возвышающий обман»? Ну-ну… – Он не мог говорить, горло почти сомкнулось. – Что?.. Вика Волгина? Да пусть она… (Хорошо, если никто не подключился случайно к разговору, – в опутанной телефонной сетью столице это бывает.) Таких, Талька, легко, им… И Тищенке… А вообще-то мне плевать… Я… Я не для них… Мне плевать уже! (И опять хорошо бы не подключиться.) Нет, не приезжай… Я… не в форме.
Потом он плакал. Просто плакал слезами, и на полированном письменном столе была лужа. Не от радости плакал и не от обиды – от усталости, которую не сиял хмель, от пустоты, образовавшейся в том месте, где прежде жил, кипел, варился фильм, от непривычной бездеятельности.
– Я – придаток к сценарию, актерам, киноленте. Я не существую помимо. Кто там? Войдите!
И входила Аленка со своим туманным взглядом. И взгляд был уже чужой, и старый Чириков, и женщина с жаворонком из черной муки. Но это были уже посторонние, другие, не его. А птичья Алёнкина судьба хоть и откликалась в сердце, но глухо. И горе старика и Аленкиной матери казалось переносимым. А то новое, что с некоторых пор мешало спать по ночам, еще не хотело сказаться, было, как видно, не время, и потому взыскующе зияла пустота. Ведь пустота – вместилище. В природе ли вместилища быть незаполненным? И там уже копошился некий человек со странной особенностью видеть то, чего не видят другие.
Как это?
Ну вот, к примеру: собрались люди чествовать там кого-то. Юбиляр этот пробивался в жизни, всех расталкивал, и наконец дали ему премию, или звание, или повышение по службе. В его комнате столы стоят с едой и питьем; запуганная жена на кухне; все вокруг него снуют, улыбаются. А вошел ЭТОТ, поглядел: достигший-то – белый весь, бескровный, больной. И, может, жена его некрасивая, старая, а лицо ее прекрасно. А?
И возражал сам себе: тайна не пропала бы. Ведь жизнь из тайны состоит. Конечно, из тайны! И ничего не пропадет. Потому что это только озарение на минуточку, вот и все. Человек этотопустил глаза, и опять все движется, сияет, и мы в полном неведении, ктои что, каждый человек – загадка. А дальше уж идут поступки. Тут земля нужна. Чтоб было этой сказке куда ноги поставить. Реальная такая жизнь, и вдруг – взрыв! озарение! И опять потом жизнь.
И так мучительно не знал он, как повернуть эту жизнь, эти жизни, и так ясно видел выхваченные куски, кадры…
Не хочу, не хочу! Пусть будет пока пустота! Дайте передых, что вы!
Но в природе ли вместилища быть незаполненным? Может ли оно?
Стук в дверь.
– Кто еще? Кто там?
Это была Тоня Лебедева. Всамделишная. То же беспокойное, рано отжившее лицо. Положила руки ему на плечи.
– Юрка, я видела фильм. И мне захотелось, знаешь, захотелось быть актрисой. Хорошей, прекрасной актрисой. Если с фильмом будет что не так, я помогу. У меня есть ход. Не веришь? Мы все… мы горы сдвинем!
– Да, Антоша, да, конечно.
– Ты чего ж напился? В такой день? Несуразный человек!
– Ерунда, Антошка. Видишь ли, я и не человек. Я – приспособление к кино: киноглаз, кинопленка, киноидиот, киногений, киносволочь. Но! – Юрка поднял палец. – Но не сам. Не своей волей. Как бабка. Я тебе хвалился бабкой?
– Что-то не помню.
– Ну, не важно. «Не суди, говорит, меня строго – мне это дано. Не свободна я». Во, Тонька! Не свободен я. Поняла?
– Поняла, поняла. Может, поспишь чуток?
– Ты глупая баба. Глупая, но милая. Я, может, только тебе это и могу… да… А кому же? Они все, знаешь… Иди ко мне. Нет, постой. Сделай из пальцев клетку возле глаз. Вот так. Кинокамера. Объектив. Посмотри на меня. Есть там моя рожа? Видна? Еще видна? Наводи получше. Резкость давай, резкость! Так. Я тебе открою тайну. Я совместился. Поняла? Совместился с работой. Чего ты хмыкаешь? Я тоже, когда помоложе, хмыкал: ну, думаю, фраза. Оно не фраза, Танюшка. Да не мажь ты эти, к черту, бутерброды, не пьян я! Истинно, истинно говорю:
Жизнь совместилась с работой– поняла? Я не хвалюсь. Ничего тут такого нет похвального. И никакого счастья нет. Ноша это. Горб. И никто не поможет нести его. Никто. Ни одна сволочь.
* * *
Цон-цони-цон – тонкий звон разбиваемого фарфора. Чашечка о чашку – цони-цон! И клинопись птичьей, галочьей стаи – непонятная, не предназначенная для разгадки. Черные подвижные значки на сером, темнеющем небе. Человек, если он принимает все это, легко вписывается в тихую, неявную, богатую оттенками жизнь леса, травы, птичьих передвижений.
Виталий просто так приехал в тот лес, где снимали, подобрал дубовый лист, похожий на тот, о котором когда-то говорили с Юркой. Такой же был на нем зеленый, подрумяненный орешек, похожий на яблоко – маленькое яблоко для маленького лесного человечка. Можно думать и так. Но здесь есть и еще более таинственное, не требующее слепой веры, как хочет того сказка.
Виталий разломил орешек: орехотворка – длинное, гибкое насекомое. Все просто, да? Но и тут, даже тут человек остановился перед тайной. Почему, к примеру, в этих орешках-галлах всегдаоказываются только самки орехотворки? Может, эти насекомые лишены пола, как, допустим, грибы? Вовсе нет! На корнях того же дуба можно легко найти совсем другие галлы, и там уж – вот и разгадали! – довольно часто встречаются орехотворки самцы. И, как оказалось, лишь те самые, которые выводились на корневых галлах, откладывают яички в листья дерева. Да, но зачем это понадобилось природе? Где тут целесообразность, о которой еще Дарвин… И для чего нужны эти вот создания из лиственных галлов?
Виталий улыбнулся: может, пока те размножаются, эти осуществляют какую-нибудь научную работу или создают прекрасную музыку леса, летопись рода, бессмертную какую-нибудь орехотворную живопись? (Могучая научная мысль, ценный вклад, не правда ли? Молодец, сорокалетний биолог!)
А что? Почему у насекомых не может быть какой-то иной жизни, кроме растительной? А ведь душа и у человека не найдена! И все это смешано в одном водовороте бытия, где не одушевлено лишь то, что умерло или убито: отломленный сук, упавшее дерево, скошенная трава…
А я еще не скошен, алё, папоротник! Не отломлен от жизни, привет тебе, елка! Мне еще все интересно и открыто. Я еще хочу, могу, знаю, здравствуй, жестокий человек Юрка, и спасибо тебе: именно ты из этого воздуха, из наших притяжений и отталкиваний, на нашего общего подъема извлек для меня полет. Еще есть возможность взлететь. А? Всегда еще есть возможность взлететь.
Рябили березы. Желтые и бурые листья на земле были мокры. По оврагу, петляя В прячась, крался ручей; в омутке под серой ольхой кружил жилистый, жухлый лист вверх черенком. В сеть высвеченных до серебристой белизны голых веток овражной черемухи было поймано серое небо. Оно там двигалось, билось, дышало.
Место было незнакомое. Виталий впервые в жизни заблудился в лесу. Не зря, видно, говаривали старые люди, что здесь «водит». И заблудился там, именно там, где водит, – и эта подвластность иным силам тоже значимой и, пожалуй, счастливой ношей легла рядом с его приобретениями. Он не боялся темноты в лесу, знал, что всегда найдет дорогу – надо только отдаться чувству пространства, которое ни разу еще не подводило. Но Виталий не спешил. Скрипнуло дерево. Он обернулся на звук. Была ясная и трезвая уверенность, что, если протянуть руку, в темном воздухе среди перепутанных веток черемухи и ольхи легко нащупать мокрую и холодную от росы ручку двери. Под углом в пятнадцать градусов.
Маски
От автора
Я пишу это не для того, чтобы рассказать о себе: «я» – это не я. И не надо так думать. Но за все остальное ручаюсь, невзирая на некоторый вымысел, без которого не бывает ни сказочного, ни реального.
И не для того, чтобы прославить Сидорова, хотя Сидоров, он – конечно. Но может быть и другой; просто Сидоров душевней.
Повесть эта – о любви, несмотря на то, что любовь почти не бывает – только стихи да песни.
Но оказался на земле – в промежуток как раз моего бытия – человек, глаза которого так легко меняют цвет и значение. И существование его – как оправдание моей жизни, что и она зачем-то нужна. И где бы, когда бы он ни пересек мой путь, сбиваясь с ноги оттого, что на него глядят, и морщась от недовольства собой, его имя всегда, всегда совпадает с моим, если даже у него разные имена и непохожие маски.
Вот о масках тоже.
Я хорошо знаю одного мастера масок, – он очень тихий. И потому многие полагают, что его нет. А как же нет – я сама его видела. И его коллекцию камней из Коктебеля. Если его нет, кто же тогда собрал коллекцию?
И последнее. Я люблю идти вперед, а назад не люблю: набьешь сумку продуктами – тяжело, – я ведь женщина; поэтому, если вы отнесетесь ко мне – как и я к вам – с доверием, давайте пойдем вместе. Но тогда вам придется помочь мне донести мою сумку.
АВТОР
Глава I
Над жизнью светило солнышко. И над деревянным домом в два этажа, каких тогда было полно, да и теперь немало в нашем огромном городе.
С железного козырька над крыльцом падали прозрачные капли и пробивали лунки в сером весеннем снегу. А там, под обледеневшим прозрачным снегом, шла едва различимая жизнь капель, красных камешков и песка. На это можно было глядеть, глядеть, глядеть…
Пока не выходила соседская Надька в вязаном капоре и фиолетовых штанах, торчащих из-под пальто.
– Бабка опять водки надралась, – хрипло сообщала Надька. И жизнь капель прекращалась.
– Она выйдет?
– Выйдет. Давай дразниться.
На втором этаже грохала дверь и скрипели, оседая, деревянные ступени. Иногда шаги учащались, и тогда стонали перила. Это значило, что бабка оступилась: чуть не упала.
Надька жестко щурила желтые глаза:
– У, ведьма. – И кричала: – Ведьма!
Бабка была где-то посреди лестницы. Шла молча.
– Кричи «ведьма», – просила Надька.
– Ведьма, – шепотом говорила я и отбегала от крыльца. Надька – за мной.
Здесь она начинала прыгать и задирать ноги.
– Давай, давай! – шептала в сторону, мне. – Чего стоить?
Я отходила еще дальше.
– Бабка-тряпка! – выкрикивала Надька, и по резкости ее движений я понимала: старуха уже вышла во двор. – Бабка дура, хвост надула! – без улыбки орала девчонка и все прыгала, превращаясь в сплошное фиолетовое мелькание. – Дура! Дура! – и кидала кусочками льда и – с упреком – мне: – Эх, ты!
Я на секунду поднимала глаза, чтобы взглянуть на оплывшее желтыми мешками, густо набеленное лицо, его обезьяньи тоскливые глаза.
…Особенно эта пудра, сквозь которую просвечивало желтое и водянистое.
Пьяная видела нас, но не замечала и не увертывалась от льдышек. Она была беззащитна и безобразна, как полураздавленная на дороге жаба: кошмар моего детства.
– Да ну ее, – говорила я Надьке. – Не надо!
– Надо, надо, – хрипло твердила Надька, и в глазах ее стояли слезы.
Старуха пересекала двор и стучала в крайнее окошко соседнего дома:
– Настя, глоточек! Настя!
На окно задергивалась штора. Старуха опускала голову и так же, не замечая нас, возвращалась домой. Надька набирала льдышки и, прячась за угол, швыряла, швыряла их в Настино окно.
Иногда дверь соседнего дома отворялась, и на крыльцо выходила красавица Настя.
– Это что же за семейка! – зычно выкликала она. Волосы ее были растрепаны, рукав халата оторван. Но все равно сразу все становилось похожим на театр от ее удивительной красоты. Она, не стыдясь слов, бранила старуху и ее сына, за которого вышла было замуж, да выгнала потом. А лицо ее и весь облик оставались прекрасными.
Отворялись двери, форточки. Затевалась перебранка.
Я бы не стала о Насте – подумаешь, Настя! – если бы однажды следом за ней не выбежал тоненький паренек лет восьми и не вцепился в рукав халата:
– Мамо́тшка, из надо́!
– Отвяжись, – повела она плечом. – Иди в комнату, Ян.
Но мы его уже увидели. В кожаной заграничной курточке, полубрючках, застегнутых под коленями, и в ярко-желтых, на толстой подошве ботинках, каких не было ни у кого. Да еще имя такое: Ян… Потом уже, несколько дней спустя, я разглядела его: глаза светлые, широко расставленные на коротконосом губастом лице.
Я тогда ничего еще не знала о себе – ведь было мне не больше семи. Но мгновенные симпатии и антипатии доступны даже детям. И ощущение радостной зависимости от другого – тоже.
И совсем ничегошеньки не знала я в то время о Сидорове, о Степане. А ведь он жил рядом. Только он и тогда уже был много старше. Другое поколение. Но потом я узнала: он боролся. За свое культурное возрастание боролся. Рос рывками, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Много думал и сразу воплощал. Ну, насколько мог.
В шахматах больше любил ход конем. А в крокете – мышеловку. Была тогда еще такая поспешная игра с молоточками: тук по шарику, тук, тук… Пройдешь через все ворота и заколешь свой шар о колышек. Но игру эту он освоил уже в городе, в нашем дворе, куда приехал к отцу из деревни. У отца жесткие усики над пересохшими от внутреннего жара губами. Его, отца-то, как он сам потом признавался, сызмальства томила деревенская тишь – тянуло, тянуло в иную жизнь. И вот – поколотил Степана, чтоб не озоровал, и заплакавшую жену, чтоб не плакала, – и уехал в город. Ищи-свищи. А тут (уж это не сам – другие рассказывали) к нему стала ходить кондукторша с трамвая, чуть семья не поломалась. Хорошо еще, мать Степана приехала в город. Она будто почуяла. «Мне, – говорит, – еще в деревне перед самой свадьбой недоброе колдовали: на жнивье кто-то солому скрутил и красной тряпочкой обвязал. Я нагнулась с серпом-то и вижу. Сразу поняла, что это. Только не знала, от кого пришло».
Степан очень стеснялся ее: темная женщина. А сам он много чего узнал, Степан Сидоров, еще там, в деревне. Из книжек. Очень был паренек способный. И пошел в город. У отца поселился, в уголке. Потом дали комнату по уплотнению. И все учился, учился, думал: как людям жить, да и мало ли про что. Время давало темы.
Но это все – в общих чертах, схема. Потому что, повторяю, я его тогда не знала. Так что не могу привести живых деталей. А уплотнили Степаном бывшую владелицу этих вот деревянных домов, нелепую такую женщину – Светлану Викторовну (потом она еще не раз появится на этих страницах). Она себе две лучшие комнаты выбрала – одна даже, говорят, с камином. Ну вот Степана и вселили. Так что ничего, – с жильем уладилось. Слава богу.
Тогда трудно было с жильем. Строительства почти не было, никаких пятиэтажных с балкончиками, а тем более – двенадцати. И все ждали – снесут наши хибары. А они и по сей день стоят. Рядом большие построили, а эти стоят.
Я там была сравнительно недавно. Остановила такси и поехала.
Когда поднимались на гору (он горбатый, переулочек-то!), вдруг показался закат – малиновый, перечеркнутый тополевыми набухшими ветками. Раньше почему-то здесь не было закатов. Может, меня рано укладывали спать?
Этот визит мой был не просто так, – что, мол, делается там, в оставленном гнезде? Нет, визит был к старику. К мастеру масок (я уже упоминала о нем). Он один и остался в этом переулке: кто уехал, кто помер. А он всегда был очень старый, так что ему нечего было терять.
В дни моего детства он носил полусапожки с ушками (потом они снова вошли в моду, но чтобы это случилось, времени пришлось обойти круг в несколько десятилетий).
Старик был театральным бутафором.
Возвращался с работы всегда в одно время – маленький, с коричневым лицом и такими же темными руками. В одной руке тросточка – живое полированное дерево с волнами древесных сухожилий, будто льющихся сверху вниз, а наверху – отлично вырезанная львиная голова и два блестящих металлических глаза. Средний палец старика был вложен в открытую львиную пасть. В другой руке – очень старый саквояж, с какими прежде ходили доктора. И оттуда торчали клочки цветной бумаги, шелковые лоскутки, кисточки для краски и клея. Он часто работал дома, ему, видно, по старости лет это разрешали. Там, в его комнате, на втором этаже, как раз над Настиной квартирой, происходило таинство: из ничего волшебно возникали круглолицые куклы, негритята, белые кони с черной гривой или розовая птица фламинго, и все это запросто сушилось на подоконнике и хороню было видно с противоположного тротуара.
Мы, ребятня, ждали его возвращения, сидя на заборе. Это было очень несложно – забраться туда: во дворе как раз возле забора лежала груда круглых булыжников, оставшихся, видно, с тех давних времен, когда мостили переулок. Влезешь на эту горку, ухватишься руками за верхние тесины… Ну да кто не лазал по заборам?
Нам казалось, что с мастером масок нельзя разговаривать на обычном языке. И мы кричали:
– Чудирик!
– Риварчак!
А он поднимал сухую коричневую мордочку и отвечал заговорщицки:
– Авалала-карала.
Или еще более странно:
– Вы свароги или чернобоги?
Позже я узнала, что Сварог – это бог неба у языческих славян, а чернобоги – просто нечистая сила. Но тогда ничего такого не было известно. И мы смеялись, радостно, перемешивая чувство превосходства (вот играем в одну игру, а ведь он – уже взрослый, старичок) с благодарностью (взрослый, старичок, а играет с нами в одну игру).
Но мне он, кроме того, открыл тайну знака. Какого? А вот сейчас расскажу. Помните, у Насти поселился заграничный мальчик Ян. Вскоре мы подружились. И он, будто других имен не существовало, называл и меня – Яна. Меня Аня зовут, Анна, а он говорил – Яна. Похоже, конечно, но неточно.
Вот мы с Яном и увидели этот знак.
Наш переулок – я, кажется, уже говорила – одним концом выходил на проезжую улицу, а другим упирался в парк. Доску в заборе отломал кто-то из взрослых. Так что перешагни только поперечную планку забора – и ты на тайных травянистых тропинках, среди веток, листьев и птиц. Это диво – такой парк среди огромного города. И главное – парк пустой, потому что с другой стороны, со входа, надо было предъявлять пропуск. Что-то там было этакое. Закрытое. Но нам-то, вы понимаете, до этого не было дела. Нам, конечно, старшие не очень-то разрешали туда. А Яна просто не пускали.
– Гуляй под окном, чтоб я тебя видела, – говорила ему Настя. Я все думала: какая же она ему мама? Почему он ее так зовет? Он приехал с отцом недавно из Финляндии или из Эстонии, уже не помню теперь. И Ян говорил: «Мамо́тшка красивая». А она только откроет форточку:
– Домой!
А в это утро ее не было дома. И Ян сказал:
– Мама ничего не говорила про парк. Можно пойти. (Он произносил слова так же странно, как и прежде. Но я уже не замечала.)
Было очень солнечно. Земля на дорожках подсохла и бугрилась кое-где от будущих побегов. Было много серого листа под деревьями, и у Яна глаза сделались темными и блестящими. Он глядел, глядел вверх и видел небо – теплое, и теплые пятна солнца на ветках, и черных скворцов, и я вдруг тоже начала это все видеть и радоваться.
– У нас тоже деревья, – сказал он деревьям. – Ты моя сестричка, – сказал он мне.
Я хорошо помню: мы нашли тогда фиалку. Очень бледную, белую почти – под прошлогодним, пахнущим прелью листом.
– Перед глазами травы и дерева, – проговорил Ян.
Мы стояли на коленях на влажной весенней земле около этой фиалки. А когда вскинули головы, почти уткнулись носами в черную кору липы. И все это глядело на нас затаенно и счастливо.
– Перед глазами травы и дерева, – повторил он, будто молился. И я тоже сказала так. Потому что это была живая трава, и свернутые в трубочку упругие листья, и полные бегущих соков корни кустов, и прекрасная – тоже живая – кора дерева. И мы были частью всего этого: странное ощущение ведовства, ничем не ограниченных возможностей: мы могли, помчавшись по тропинке, взлететь или стукнуться об землю и превратиться в куст, пень, травяной побег.
И вот тогда мы увидели этого странного человека. Он шел с противоположной стороны парка, разводя короткопалыми ручками ветки кустов. Он был не выше этих кустов! Меньше нас! Но это был не мальчик. Дяденька. Желтое прокуренное лицо, лысоватая голова. И никакой бороды или красного колпачка. Обычный костюм: длинные брюки, пиджак, галстук; очень маленькие, но тоже взрослые ботинки. Он шел, выбирая, где посуше. Даже иногда приподнимал брючину, чтобы не запачкать. Деловито.
Это был не гном. Гномы никогдатак не ходят. Они вообще не такие, гномы. И глаза у них шустрые: все разглядеть, всему нарадоваться вдосталь! Они ведь любят всякие тайны, чтобы их разгадывать, сдвинув на лоб красный колпачок и почесывая в затылке.
А этот будто все заранее знал, и скучно-скучно ему.
Вдруг он чихнул тоненько – мы не засмеялись – и провел по дряблому лицу рукой. Я покосилась на Яна, но он отвернулся. Будто мы присутствовали при чем-то нехорошем.
А человечек подошел к большому тополю, из пиджачного кармана вынул нож, не спеша сострогал кору до белого древесного тела и что-то там нарисовал. Потом отошел на два шага, полюбовался работой, засмеялся – так же тонко, звеняще – и побежал назад, придерживая полы пиджака.
Потом уж, когда его давно не стало, мы поднялись с колен и подошли. На дереве, на белом мокром срезе, был карандашом обозначен квадрат. Ровный-ровный. Мы постояли тихо. Я увидала, что у Яна белое лицо и бледные какие-то глаза. Он вобрал голову в плечи, взял холодной рукой мою руку, мы пошли к забору, молча перебрались в городской переулочный мир. И, не прощаясь и не глядя друг на друга, разошлись по домам.
Ну вот, а теперь про старика – того, к которому я ездила не так давно. Про мастера масок. Он старый, и можно подумать, что у него есть какие-нибудь особенно мудрые мысли. А это – нет. Вот теперь, недавно, он мне сказал, правда, и то от обиды: «Человек человеку – никто». Потому что болел, а соседи даже не заметили. Кажется, так. А прежде он и вообще мало разговаривал. Был озабочен. Мы, конечно, не знали причины. Теперь только. По прошествии.
Теперь-то к нему ездят на машинах – ему и от соседей почет иной. А тогда, бывало, постирает, развесит рубашки во дворе, а домашние наши хозяйки морщатся: плохо постирал. А он – старенький. Пожилой уже человек. И на скамеечку сядет. Только мы, ребятишки, и любили его. И он нас.
Я подошла, помню, однажды и села рядом с ним на скамейку. И прутиком на песке – раз-два-три-четыре – начертила квадрат и говорю:
– Что это?
А он:
– Разве не домик?
Я:
– Нет, это не домик. Это на дереве человек один начертил. Сделал срез ножичком и на срезе начертил.
– Где?
– В парке. Мы с Яном сами видели.
– В парке? – переспросил старик. И я поняла, что он огорчен. Очень огорчен. – Ну, значит, все прахом пойдет. – И рукой махнул.
– Что прахом?
– Все. Парк. Деревья. Да и вы оба дружить не станете. Разлетитесь в разные стороны. Знакэто.
Я сразу поверила. Как не верить такому старику?
Я и Степы Сидорова матери поверила, когда она про жнивье да про красную тряпочку вспоминала. Я забыла сказать: она дом в деревне заколотила и к мужу насовсем, переехала – к Сидорову-старшему. А тот уж ремонт сделал: весь паркет к чертовой матери выковырнул и пол белой душистой доской застелил.
Жену сперва отколотил, а потом принял. А кондукторшу прогнал. Жену, правда, переименовал. Ее Мария звали, а он Мариной окрестил. Марина Ивановна.
Но Степана-то Сидорова все равно не видно было. Он в то время мужал. И учился. А потом однажды вышел с книгой, зажатой между боком и рукой, аккуратный, чистенький. Лицо строгое, глаза с ледком.
А мне все надо было: подбежала и поглядела, что у него за книжица, – потрепанная, старая, сразу видно: не зря носил – читал.
– Интересуетесь? – наклонил он ко мне голову. И серьезно, как взрослой, объяснил: – 1903 год издания. Дибидур. «Священный союз».
– Что такое «Дибидур»? – спросила, совершенно опешив.
– Французский историк. История дипломатии.
– А… почему… «священный»? (Я уже слышала это слово рядом с другими словами о боге, что его нет.)
– Священный… Хм… Так он назвал систему отношений европейских государств после разгрома Наполеона.
– Наполеона?
– Вы что же, не слышали про Наполеона?
– Слышала. – Я не соврала. Но имя это больше ассоциировалось для меня с пирожным.
Степан любовался моей ошеломленностью. Он, кажется, впервые улыбнулся, а пальцы его правой руки все время сгибались и распрямлялись – это было какое-то упражнение, похожее на хватательное движенье.
– Да, девочка, Дибидур, конечно, тоже шовинистичен, но не так, как Зибель или Бранденбург.
– Бранденбург…
Когда бутафор, мастер масок, произносил свое «Авалала-карала», мне было понятно все. А тут – ничегошеньки. Только почему-то страшно. Да еще говорит мне «вы»: «Интересуетесь?» Я долго потом не решалась подходить к Степану.
А старик-бутафор после нашей беседы на скамеечке точно приворожил меня.
Как он выйдет из дому – я тихонько за ним. Он с тросточкой, ток-ток – вот меня и не слышно. А он куда? За хлебом или так, погулять, на солнышке погреться. У нас недалеко скверики хорошие, с прудами. А однажды он шел домой и шоколадку из кармана обронил. Я ему:
– Вы потеряли.
– А… – говорит. – Ну, пойдем чай пить.
Я не поверила даже. В счастье свое не поверила. Дом, где он жил, был деревянный, а лестница каменная. Прохладная. Я шла по этой лестнице – не дышала, боялась, ни передумает.
Возле двери старик долго копался в кармане, отыскивал ключ. Потом долго не мог попасть этим ключом в дырочку замка. Потом возился в темном коридоре возле своей двери – тоже не мог отпереть.
И вдруг открылась эта дверь. Брызнуло солнце, закружилось. Мои глаза сразу выхватили малиновый колпак на стене, рядом – длинные ослиные уши; на столе – кружевной пышный воротник, а на блестящем паркете крохотные золотые туфельки. Чьи?
– Входи, входи, – подтолкнул меня старик.
Я стояла теперь посреди комнаты, но я и кружилась в золотых туфельках, примеряла малиновый колпак, и вдруг все вещи делались огромными, а потолок – высоким, как небо, – это я теряла рост. Тогда я брала за руку знакомого негритенка – он как раз спрыгнул с подоконника, где сушился на солнышке, и мы убегали под шкаф, находили там в углу норку – у-у-ух! – падали вниз, и… я стояла посреди комнаты.
– Усаживайся к столу, Аня. Ну, ну, садись. Будем пить чай!
На старике была вельветовая курточка с блестящими пуговками, такие же брюки и высокие валяные тапочки. Он открыл шкаф – достать заварку, а другая створка и отворись. А там на полках – лица. Разные: смуглые, белые, с носами длинными и приплюснутыми; один смеются, у других губы опущены, третьи – ни так, ни эдак. Будто живые. Но без глаз. Я даже испугалась. Закричала. А он прикрыл дверцу, подошел, погладил по голове:
– Ну, чего ты? Это маски. Обыкновенные. Как на карнавале. Чего тебе бояться?
И я засмеялась. Правда – чего мне?
В чай он сыпал немного лимонной кислоты. Поэтому чай из коричневого делался светло-желтым, будто и не заваривали.
– Зачем же тогда? – спросила я.
– Все в нашей власти, – ответил он. И поднял сухой коричневый палец. – Цвет во всяком случае. – И грустно скривил лиловатые губы.
А вкус был замечательный. Как лимонад.
– Вот, например, – сказал он, – память. У тебя хорошая намять?
– Не знаю, – ответила я.
– Подумай.
Я подумала. Я помнила все-все, что знала. И даже то, чего не знала. Например, про Дибидура и Бранденбурга. И про «Священный союз». Я тогда и не подозревала, какая это радость – помнить все, что знаешь. Нет, не радость, конечно, – не всякое хочется помнить! – а сознание силы и власти над своим миром: ничто не уйдет без спросу!
– Ну вот, ты все помнишь, – догадался он. – А я кое-что уже позабыл. А нельзя. Но у меня есть книга мнемонических упражнений.
– Что это – мнемонические?..
– Это для развития памяти.
– Разве можно развить намять?
Он с грустью кивнул мне.
– Да, конечно. Человек с собой может сделать почти всё. Если очень постарается. – И, помолчав, добавил: – Как, впрочем, и другие с ним.








