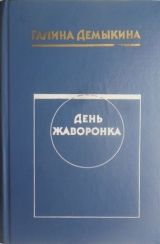
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
У психологов есть такой термин – «вытеснение». Это – в простейшем изложении – когда память вытесняет тяжелое, нежелательное, подменяет чем-то другим. Так, вероятно, и произошло с Виталием, иначе провал памяти, в который рухнул весь военный период, нечем объяснить. Впрочем, мальчик был мал, чтобы разобраться во множестве сложного. И даже начало воины для него связалось с маршами по радио (всего лишь с маршами!), а потом с затемнением и вкусом сладковатого суфлейного молока.
Так же смутно помнил он, как номер хозяин дома – дед: ходил-ходил по половицам, поглаживал стены, ведра в сенях, потом ушел в светелку и помер. А плач и стон стояли долго: все жалели деда. И он, Виталий, тихо плакал, чтоб никто не видал.
А времена шли суровые. К тому же не было отца. И письма не приходили. И из-за узкой маминой спины жизнь уже начинала корчить гримасы: то мать не взяли учительницей в школу и она подалась на прядильную фабричку – и ничего-то не умела, что-то там грузила, стерла руки до кровавых мозолей. То Виталий потерял продуктовые карточки (хорошо еще – в конце месяца), и они голодали бы страшно, если б хозяйка, ворча, не отсыпала муки («Не помирать же этим неумехам в моем доме!»).
Но это все шло вереницей, будто спешило к тому дню, вернее, к тому вечеру, когда выплыл из весенних белых сумерек человек, притяжение к которому построило потом жизнь: что-то отняло у нее и что-то вложило из странных, не имеющих имени ценностей.
Было это года три спустя после войны – Виталию сравнялось пятнадцать.
За время войны город зарос, задичал, даже облик потерял городской.
От самого центра во все концы расходились полосы огородов с картофельными грядами. У всех в те несытые послевоенные годы были свои наделы. Даже приезжим – и Виталию с матерью в том числе – определили по сотке. Им достался надел недалеко от парка. Земля там была хороша: речушка веснами разливалась, надо было только не полениться выдрать кусты. Виталий не поленился. Он никогда не ленился, если дело касалось земли. Разворотишь ее, – а там белые личинки майских жуков. Пять лет таятся они, гложут корни растений, чтобы потом, быстро пройдя стадию куколки, пулей выстрелить в едва затемневший апрельский вечер. Гадость, да? Но Виталию было интересно. А когда над ним, задержавшимся на огороде дотемна, промахивала летучая мышь, он точно ощущал прикосновение другого – не то забытого, не то не узнанного еще мира…
Обезлюдевший парк жил по законам леса: веснами там высиживали птенцов славки-черноголовки; кроты набрасывали кучки земли по ходу своих строительных работ; храбро сбегали по стволам елей и сосен белки.
Однажды на противоположном пологом берегу забрезжил костерок. Он высветил двух парней и девушку. Парни были взрослые. Одного, который обычно на ходу лущил семечки и сплевывал мокрую шелуху, Виталий встречал часто. Звали его почему-то ласкательно – Ленечка. Другого не знал. Девушка тоже была взрослая. Но ее знали все. Ее фотография висела в школе; с ней велели непременно здороваться, если она проходила мимо. Виталий считал это справедливым. И не только потому, что Лида Счастьева (звать-то как: Лида Счастьева!) была героем войны. А еще и потому, что смотреть на нее – радость.
Теперь Виталий, сидя на вывороченном пне, глядел на другой берег, затаясь. Девушка протянула руки к костру. Извечное женственное движение. Но выполнено оно было резковато. И смех ее, и неразборчивые слова звучали надтреснуто и резко. Незнакомый парень был красив. Но ей больше нравился Ленечка. Ее повороты в его сторону, все движения были мягче, любезней. «Поженятся, разведут лущителей семечек», – почему-то со злобой подумал Виталий. И еще подумал: «У зверей все это милее. Проще и милее». Но что его здесь не устроило, додумать не успел, потому что сзади кто-то осторожно подходил.
Виталий оглянулся. Рядом стоял парень примерно его лет.
– Закурить есть? – спросил тот, глядя на костер, за речку. Глаза у него были узкие, лицо круглое, широкое и – маленький нос с трепещущей ноздрей. Одна ноздря была неподвижна, а другая жила и вздрагивала, и от этого лицо казалось каким-то рваным, что ли. – Закурить, говорю! – нетерпеливо повторил он.
– Н…нету.
– Врешь небось?
Виталия не ответил. Парень, не отрывая глаз от костра, выкинул вперед руку, как для удара (Виталий подобрался), а потом разжал пальцы.
– Давай пять. Меня Юрка зовут. – И кивнул на тот берег: – Перемахнем по мосточку?
Движения его были быстрые и очень определенные. В разбойном этом облике что-то привлекало, тянуло.
Виталий сгреб в карман отцова идола, молча глядевшего из расселины пня (всегда незаметно брал с собой).
– П…перемахнем!
Легкими прыжками, под прикрытием темноты и веток, звериной побежкой мчались они по весенней земле, перепрыгивая грядки. Деревянный мосток взяли в два прыжка – и тоже тихо, как-то шепотком. И оба смеялись хриплым, придушенным смехом.
Лида не удивилась, увидев ребят. Но вдруг покраснела. Это было так странно: ведь она совсем взрослая!
Разговор у костра сломался, стал гаснуть. Собрались по домам. Юрка успел сказать Лиде:
– Я, когда стану режиссером, возьму вас в свой фильм.
– Я к тому времени состарюсь, – усмехнулась она.
– Продержитесь еще лет десять, ладно? – попросил он, жалобно и нахально щерясь ей в лицо. И махнул Виталию – пошли!
– На сегодня хватит, – пояснил он по дороге. – Первый разговор требует краткости.
– Почему?
– Подрасти – узнаешь. – И лицо Юрки сильнее прежнего разодралось улыбкой. Казалось, будто это лицо резиновой куклы бибабо, которое кривится, сморщивается, оплывает в зависимости от движения человечьей руки внутри полой головы. Юрка, вероятно, уловил смысл устремленного на него взгляда и резко хохотнул.
– Рожа должна быть приманчивой, ясно? А манит не только красота.
Оба рассмеялись и, смеясь, хлопнули рука об руку.
– Светлых снов!
– И вам того же!
Так летний вечер швырнул пятнадцатилетнему Виталию Юрку Бурова, точно вырвал из небытия. И потом, куда бы ни шел, видел всюду – на улице, в школе, в парке – его азиатский лик. И как не замечал раньше?
Но – странно! – они чуть кивали друг другу издали и не делали попыток заговорить, хотя скованность движений и лиц выдавала взаимную зависимость. Будто была между ними тайна. Виталий дорожил этим «будто». А может, и была?
«Он не весь тут… – в тревоге и радости думал Виталий. – Он – не так уж все просто. Там есть, за этим разбойным ликом, – есть! Простор, что ли? Есть где разгуляться…»
А почему так думалось – и сам не знал. Помнил Юркин азарт – как тот глядел за реку, и хриплый смех, когда бежали по мостку, и Юркин жалкий и нахальный оскал навстречу Лиде. «Разный, разный парень», и почему-то проклевывалась радость.
Быть может, то была тоска о друге.
Мать Виталия была тихая женщина. Разве можно быть такой тихой? Она все еще работала на фабричке. (Почему не идет в школу? Впрочем, кажется, ее не берут. А почему?) И что они торчат в чужом доме? Ведь говорила, что сразу после войны уедут в Москву. Неэнергичная! Чтобы ехать, надо силы приложить. А где у нее сила?
– Талик, ты, говорят, запустил школу? – Ее голос слаб и просителен.
– Кто говорит? – Он резок. Сам не знает зачем.
– Я видела Павла Павловича.
Виталий смущен. Он действительно «запустил». Он ходит по городу и слушает его, этот город. Слушает и смотрит, будто прощается. Потому что выше холма, на котором привольно царит городок, выше леса, выше любви и человеческой памяти поднялось вдруг белое здание, опершееся на колонны. И приманчивей коньков, украшающих избы деревеньки Крапивенки, прильнувшей к самому городу, – вымчали над белыми колоннами черные нервные кони, тонко вздрагивающие и напряженные каждой жилочкой… Черные застывшие кони над колоннами, и изящная колесница, и прекрасный юноша – бог, натянувший поводья… чтобы сдержать ли, направить ли бег-полет…
Он видел Большой театр только на гравюрах в отцовой библиотеке. Но представлял ясно – в цвете, в окружении домов и снующих людей, ощущал запах красного бархата, помнил (мог ли помнить, ни разу не побывав?). Нет, бывал, конечно, только очень маленьким! – помнил, как медленно, постепенно гаснет огромная люстра, и уходит из зала свет, и оживает сцена, сначала становясь единственным, что есть, что дано тебе счастливо и щедро: в звучании, в гармоническом движении… И так притягивало, что Крапивин начинал казаться сиротливым, жалким даже, и несправедливость эта рождала раскаяние и любовь к нему, похожую на вину. И что-то придумывалось сладко и беспокойно:
А что такое радость возвращенья?
Наверное – другой конец прощанья.
Как будто бы – убытков возмещенье,
А может – и исканий окончанье.
Это было вовсе не то, что хотелось. И все же наполняло, поселялось внутри, где-то между желудком и сердцем, щекочущее чувство, похожее на ожидание. Именно ожидание.
И еще – надежда: есть какой-то человек, которому все это будет интересно. Непременно будет интересно.
И при чем тут мама с волнением о школе, о его будущем?
– Мама, я сам как-нибудь.
Что-то в ее страдальческом облике тайно раздражает его.
– Не волнуйся, мама, я догоню.
– Хорошо.
Она совсем худая, лицо потеряло четкий овал, оползло, глаза, прекрасные мамины глаза неподвижны, как у слепой. И узкая спина. Как за ней было схорониться, даже прежде, тогда?!
– Мам, давай я съезжу в Москву насчет квартиры.
Она опускает голову.
– Нельзя, сынок. – Это говорится твердо. – Не время. – И сразу просительно: – Кончи школу здесь. Может… еще вернется… – И осекается.
– Живите, живите, – подает голос с печи хозяйка. – Худо ли у нас? – Она стала старая, много лежит, но дом не запускает и хозяйство бережет. – Мы еще придел приделаем, будет у вас своя изба.
Окна у дома узкие, коротенькие, дверь низкая (чего так строили – дом большой, а окна и двери…), полы погнулись. Но Виталий полюбил. С тех пор ещё. Когда дед. Когда отец!
Белотелая Маня вышла замуж и – точно проснулась – подтянулась, стала деловая: прибежит, картошки нароет, полы вымоет.
– Да ты чо, дочка…
– А, примыла. Не наймать же! – И уйдет ходко.
А сын, тот, что на тракторе, Серега, запил и залютел. Был он любимец, и старуха благородила его образ, как умела:
– У него голова-то – ууу! – когда трезвый-то! Дак ведь вот вино…
А он женился, переехал в Крапивин, стал шоферить. К матери заходил в подпитии, навещал. Разожмет кулак, положит на стол мармеладку, глянет умильно: гостинец привес. Был он востроносый, узколицый, быстрый в движениях – красивый вроде мужичок, ладный, хоть и росточку некрупного. А глаза въедливые. Виталий не любил его. И пользовался взаимностью.
– Расти большой, да не будь лапшой, – насмехался Сергей.
Виталий смалчивал: знал, что гладко не ответит, а запинаться перед ним гордость не позволяла.
На этот раз Серега, как муха в варенье, влип в разговор об отъезде и о встрече с Пал Палычем – на том благостном его повороте, когда мама сообщила:
– Предложил мне младшие классы.
Виталию хотелось положиться на судьбу: вот, значит, такая судьба – им оставаться здесь, у старухи Марьи Гавриловны. И это снова ожесточило: но ведь кто-то должен приложить усилия! Сама не хочет и ему не велит. Что ж, так и жизнь проживем здесь? Тогда нечего торчать в школе. Работать надо.
– Детям моим дом мой ни к чему, – отозвалась своим мыслям бабка Марья. – А я уж из годов вышла.
– Я тогда, мам, работать пойду, – сообщил тоже о своем Виталий.
– Что ты, Талик, надо школу окончить.
И пошел, как обычно, разговор, похожий на подстройку инструментов в оркестре:
– Вон лесины какие еще дедом привезены. Придел приделаете. А меня прокормите.
– За… зачем школу, мама, если в институт не поступать?
– Как же не поступать? Отец хотел…
– Это ведь что – чужие, а дед мой как вас жалел… Царство ему небесное…
– Верно, Марья Гавриловна, добрый был дед!
– А то! Сроду не скричит. Да – да, и нет – тоже да!
Вот тут-то он и прорезался, востроносый Серега. То молча стоял у притолоки, глазами зыркает, а теперь возговорил умильно:
– Дорогие гости ли, хозяева… уж как и сказать… Не взыщите. – Он снял кепку, отвесил поклон, юродствуя. – Мотушку мою не обижаете? Матушка, не в обиде ли вы?
– Садись, садись, сынок, шшей налью.
– Э, твои щи! Стаканчик бы поднесла.
– Уж поднесено вроде.
– То – чужие, а то – мать. Разница. – И вдруг круто: – А у жильцов бумага есть здесь проживать?
– У нас временная прописка, – ответила мама, бледнея.
– Вот то-то, что временная. А сколько годов это время-то? Год ли, два – жисть, может, вся. Мы и живем временно. До смерти.
– Не беспокойтесь, Сергей Степанович, мы на ваш дом не претендуем.
– А чо мне тревожиться? Мой он – и мой.
– Не твой дом, Сережка! Ты вон, как съехал, доски и полу не сменил, все погнило.
– Ладно, мать, с тобой разберемся. А вот с ими…
Ни разу такой разговор не заходил. И что ему? Живёт в другом краю города. Но что-то, видно, копилось, и теперь пьяно и зло плескалось внутри, затопляя края.
– Я такой-то вот лоб был, как этот малый, да к я на тракторе работал.
– И я работал в колхозе.
– Знаем вашу работу. Убытков не сочтешь.
Можно было спросить: «А вы считали?» Но это надо бы сразу. Или: «Не нравится – не звали бы». А был бы хороший разговор – просто можно рассказать, как выбирали эту картошку руками из грязи, как мерзли руки, как далеко было ходить до деревни, да мало ли что. А тут Виталий молчал и молчал. Что ж – чужой. И мама, белая совсем, сжалась в комок – и тоже ни слова. И чего уж так пугаться?
– Вот орешь, Серега, а Елену-то нашу Петровну в учительки обратно зовут. – Старухе хотелось мира. Она любила всех троих, – как их очертить добрым кругом?
– Да живите, мне что? Кровать пролежите, что ли? – и пошел к двери. Даже гостинец забыл отдать. – Старуху-то всякий обдурит.
Черная злоба залила вдруг Виталия. Так и вцепился бы в этот аккуратно стриженный затылок, перекусил бы… Мама глядела беспомощно. Другая бы не промолчала, отбилась. А разве отец позволил бы? Да он…
В дверях качнулась черная кепка, под ней – востроносое лицо. Он не был утолен, и потому его осенило:
– А чему така женщина может учить, котору муж бросил? – Палец его чертил воздух. – Чему?
Виталий не заметил, как очутился возле, как узкое, верткое тело оказалось у него в руках. Он нес это извивающееся тело с омерзением, точно большого червяка, и бросил возле крыльца на землю, и оно поползло с рыком и угрозами: «Сожгу, сожгу, и дом не отстоите!» – Оно цеплялось за изгородку и уползало вдоль кольев, сворачиваясь и разжимаясь.
Виталий сел на расхлябанную ступеньку. Глаза еще плохо видели. Чего он так разозлился? Не только из-за отца. Чего пьяный дурак не наболтает. Нет, выбил его этот Серега из какого-то хрупкого состояния, когда думалось, виделось, сочинялось, будто разбил домик-ракушку – и вот, лишенный укрытия, мягкий, беспомощный, остался на жесткой земле…
– Ой, не придет боле! – охала в избе старуха.
– Мы уедем, – пообещала мама.
– Да ты что? Ведь он, когда трезвый-то, – ууу! – голова. А пьет – так кто не пьет? Но Серега, я те скажу, мужик тонкий, он свово не пропьет…
Вышла мама, кутаясь в платок. Старый платок, который она сама вязала, руководимая Марьей Гавриловной, вязала неумело, неряшливо. Но зато она другое может. Она, тихая, может, чтобы ее слушали на уроке. Голос как треснутый колоколец. А в классе – тишина. Не только умение говорить (она прекрасно рассказывает!), но еще дар, какой-то дар. У нее на уроках тишина без ее стараний. И потом она может помнить, всегда помнить отца. И заботиться о Виталии. А он – как кукушкин сын в гнезде маленькой птицы. Всё. Теперь всё иначе. Он сильнее. Теперь он должен, он!
– Ну что, Талик?
– Мам, ты не сердись. Но я теперь никому… не позволю…
Она улыбается нежно, гладит его затылок.
– Конечно, я так и поняла. Хочешь – поди погуляй.
Виталий побрел по дощатым улицам к окраине. В ту сторону обычно уходил Юрка.
Лето срывалось в осень, теряло смелость, искало тишины. Резко проступали деревья с каждым листом своим и веткой; мягко и покаянно светились вдали река, дорога, сжатые поля.
На проулка вышел Юрка Буров, зашагал рядом. И тотчас что-то дрогнуло и водворилось на место. Все получило ту цену, которую стоило: и грошовая обида, и такая же месть; осень с открывшимися далями и ожиданием перемен; хрупкое ощущение близких стихов…
– Юрка, послушай. А не понравится – промолчи, ладно?
Виталий стал читать ему про возвращенье… Странно, но он не запнулся ни разу – и с тех пор с Юркой не запинался никогда.
Юрка замедлял, замедлял шаг.
– Ну, еще!
– Больше нет.
– Ты что же… сам?
– Да вот…
– Пойдем тогда.
Они были возле Крапивенки, свернули и тропой, мимо огородов, двинули в лес. Лес был еще ярок осиной, березовым листом, ягодами шиповника. Слишком даже ярок.
– Идем, идем, – торопил Юрка.
И вывел в сухой ельник. Здесь цвет умерялся, теряя буйство. Ветки, лишенные игл, были похожи на паутину. Они сплетались высоко.
На одной из елочек была наклонно укреплена доска, а на ней – кусок картона. А уж на нем… Виталий не знал, что Юрка рисует.
До тонкостей выписанные ветки, светло-коричневые на желтоватом фоне, уходили вверх, четко накладываясь друг на друга, срезались краем бумаги (было ясно, что там, дальше, тоже они), а среди этих веток, в темном и странном самом густом их плетении, сидела гигантская оса, тоже очень точно изображенная. Здесь был ее дом, ее мир, и она умными, нечеловеческими глазами смотрела в упор. Виталий переводил взгляд с осы на Юрку, с Юрки на ветки ели, той, которая на картине и которая, как продолжение, за ней.
– Первый раз вышло, – сказал Юрка тихо. – И на том спасибо.
– Как это «и на том»? Здорово вышло!
– Ладно, пошли.
Он откнопил картон, отвязал от елового сука доску, краски закрыл и спрятал в траву. Потом и их взял.
– Все равно конец уже.
– Чему конец?
– Да лесу этому. Как нарисую что – так оно и пропадет. Больше уже не вижу. Еще спасибо – получилось. – И протянул руку: – Будь.
Пожатие было как благодарность. Только за что?
Так была вторая встреча. Виталий гадал: что за резкие уходы? Красуется? И жалел: так не сдружиться! И радовался: такое только мне, с кем-то он иначе. И тянулся, тянулся к этой дружбе.
Ещё было: вроде ни с чего? – Юрка подошел, заговорил о Лиде:
– Как увидал ее – всё. Чуть не упал. Будто стукнуло меня. Увижу на улице – весь день как осветится. Что такое? Просто пройдет она и сгинет. А я – как одаренный. Было тебе такое? Нет? Ну, может, будет.
– Она знает? – спросил Виталий.
– Откуда бы… Да знает, ясно: глянет и глаза отведет. А тогда – помнишь, вечером – покраснела. Ну ладно, давай пять!
Вскоре была история с Юркиной бабкой.
Пал Палыч отобрал ребят поздоровей помочь с дровами – погрузить на телеги заготовленные в лесу кругляки, сложить у школы. Виталий пришел – сразу увидал Юрку. Тот повел глазами: узнал, мол, и все. В лес шли группками, отдельно – классы-то разные. А там, в работе, уже смешались. Но Юрка держал дистанцию. На отдыхе развели костерок, поели деловито – устали все же. Потом затеяли прыгать с дуба. На дуб ведь легко – младенец залезет, ветки толстые и невысоко. Подбадривали друг друга:
– Отсюда сиганешь?
– А то!
– А с того?
Виталию понадобилось – с какого никто не прыгал. Юрка смотрел, почти отвернувши голову, краешками узких глаз. Молчал.
– Давай! – кричали внизу.
– Высоко взлетишь – ниже падать. Слезай-ка, парень.
– Давай, не трусь!
– Слезай, убьешься!
– Давай!
И он полетел. Огляделся сперва – широко огляделся, как вдохнул в себя поляну, пики елок вдали, рогатые корежины дубов. Раскинул руки и – уух! – тяжело ляпнулся об землю. А раньше, еще в детстве, ему казалось, что умеет летать. Был почти уверен. Но тут почему-то не сработало.
Сперва была только боль в плече. Потом поплыли кусты, трава, дуб. Закрыл глаза – и в голове плыло, плыло… Что же это? Потом утихло. Только болит плечо, подогнутая рука, на которую навалился. Откачнулся в другую сторону – опять поплыло.
Юрка вел его незнакомой тропой. А может, Виталий не узнавал, потому что часто закрывал глаза, чтобы не накатывали в них деревья и клочки неба…
– Вот развилку речную пройдем – и конец, – говорил отрывисто Юрка. В голосе не было жалости. Это потом наработал он мягкие интонации. Сперва обходился без них, – Вон, видишь, дом.
Виталий остановился. Он узнал. Одинокий дом стоял высоко, как на сваях. Маленькое окошко, на нем в этот раз никаких таких корней не сушилось. Но дом был тот. Тот самый, к которому когда-то ходили с белоголовым Володей Симаковым. («Я вырасту, тоже буду пьяница. Или в колдуны пойду». – «Колдунов не бывает». – «А бабка Устинья?!») В тот день, как ходили сюда, приехал отец. Мама бежала, и ветер сносил в траву ее счастливые слезы.
Дом на сваях был все ближе. Кто-то маячил на порожке.
– Юрк, ведь тут… это твоя бабушка, что ли?
– Ага. Ну и что? Боишься?
– Я вроде не трус.
– Это что прыгнул-то? Тут другая храбрость. Один, к примеру, драться боится, а директор закричит – не испугается. Или ночью на кладбище…
– Что ж тебе, директор и кладбище – одно и то же?
Юрка засмеялся.
– Не. Так у меня вышло нескладно.
Бабка – маленькая, сухонькая, в белом платочке, ничего в ней такого не было. Она сперва стояла на крыльце, будто ждала. А как увидела, спустилась с приступочек, засеменила навстречу. Сердито зыркнула на Юрку, промолвив что-то вроде «шишига» (будто знала, что прыжок был – имени Юрки, хоть и без его подстрекательств), и ласково повела Виталия на высокое крыльцо, потом через сени (обычные, как у всех) в светелку, что была в дальнем конце сеней.
– Взойди, взойди, голубок, – приговаривала она.
Вот у нее была жалость, и уверенная хватка, и покой. А одна ноздря тоже чуть вздернута, но это было просто деталью внешности – значения не имело.
Виталий глядел в бабушкины глаза, и которых – ни хитрости, ни умысла, на её худые, короткопалые руки, как видно, и теперь, в старости, знавшие работу на земле.
– Садись, садись вот тут, коло столика. Боль твоя простая, не подшкурная, как завелась, так и выведется.
Она принесла медный ковшик с водой, зашептала над ним:
– Есть славное Мугай-море, на Мугай-море есть Мугай-остров, в Мугай-острове сидит Мугай-птица… Прилетает птица к рабу божьему Виталию Николаевичу, отдёрывает когтями, отклюивает носом, перьями отмахивает притчи и призоры, ветреные переломы, падежи и пристрелы… – И все быстрей, быстрей и невнятней шепот! – Для смеху ли, от сглазу ли сделано – помоги! Помоги! Помоги!
От напряжения ее клонило в сон, она вздыхала, мелко позевывала и сплевывала через плечо:
– Оставь соби, оставь соби, нечиста сила!
Виталия опять дивило: откуда знала имя да еще и отчество? Он вообще-то ворожбе не верил, но сейчас не было ни смешно, ни странно. Испытывал даже гордость от противоборства старухи с сатаной – ведь сражались-то за него!
На секунду мелькнула зависть к Юрке (эта заступа у него всегда!), потом тоже стало клонить в сон А бабка уже стояла над его плечом:
– А вот я его грызану, грызану!
И беззубым ртом хвать, хвать рубашку и кожу – так, что щекоток по телу.
Потом поила их чаем. Дом был как дом. Ни трав никаких, ни еще чего. Только Юрка был тихий, бабке говорил «вы», а матери или не было вообще, или что-то с ней было не так, потому что она не показалась ни разу и о ней не говорилось. А дом был в бабкиных старых руках, это Виталий понял не спрашивая.
– …в месяцах есть по два дни злых, – тихонько рассказывала старая. – Ни сеять, ни садить, ни портищ кроить, ни свадеб творить, ни в заим давать, ни еще чего в эти дни делать!
– А какие, бабушка? – спрашивал Виталии.
– Ты вот коим днем рожден? – как видно, оберегая его, поинтересовалась бабка.
– Я? Двадцать третьего июля.
– Ну, твой день хорош. А, к примеру, июнь – Юрин-от месяц – седьмой да осьмнадцатый-от то злые числа.
– А добрые бывают?
– И добрые есть! На два дня злых один добрый.
Юрка молчал. Не участвовал в беседе и не рвал её нитей Легко молчал. Сразу видно – принимал бабку, дорожил. Он, может, и в свою странную живопись так легко шагнул из этого «Мугай-острова»…
А плечо ныть перестало. И больше не напоминало о себе. И голова не кружилась: хорошо, когда о тебе кто-то кого-то попросит.
* * *
На другой день Виталия прямо с первого урока вызвали к директору. Он шел пустынным коридором и недоумевал: чего бы?
Когда подошел к учительской, оттуда вынырнул Костя Панин – Виталий часто видел его возле Юрки.
Кабинет Пал Палыча был домашний, не страшный. И сам директор сидел в раздумье, опершись руками о стол. Старичок и старичок. Он не сразу заметил Виталия. А заметив, подошел, обнял за плечи, стал говорить, ещё не отбросив, видно, того, о чем думал:
– Мм… Да… Разные люди получаются. Ведь вы, собственно, уже взрослые, а?
– К… конечно, Пал Палыч.
– Как мама?
– Ничего.
– Ах, какой она прекрасный педагог! Трудно ей на фабрике?
– Очень. – И поглядел вопросительно на директора: что же, мол, ты?!
Старик развел руками, поднял плечи, – достаточно выразительный жест.
Виталий промолчал, потому что хотя и был разговор о работе вместо школы, но мысль о вузе еще не отстала… А собственно, почему он спрашивает?
– Видишь ли… У нас здесь отличный лесной техникум… А ты, я знаю, любишь биологию… Понимаешь, бывают обстоятельства…
Виталия это обидело. Его косвенно обвиняли в лени – что вот, мол, матери трудно, а он… Но ведь он помогал, сколько умел.
– Т…тогда уж пойду работать.
– Не только в этом дело. Вам лучше пока пожить здесь. Понимаешь меня? – Пал Палыч глядел, пытаясь протянуть между ними из глаз в глаза пить, связавшую бы их разговор: что вот, мол, они оба знают и не вкладывают свое знание в слова. А ведь Виталий не знал. Стоял молча, сжимал в кулаке деревянного идола, которого редко оставлял дома (а когда оставлял, почему-то прятал). И вдруг это осязание дало едва уловимый сигнал, молнией домчавший не осмысленную, но точную весть: отец!
– Ч…что с ним, Пал Палыч?
Но директор уже отвел глаза, и все встало на свои места. Он как бы закрыл русло, по которому могла потечь откровенность. Точно как это делала мама в подобных случаях.
– Не знаю, мальчик. Просто твоя мама подумала, что так будет лучше, а тебе сказать не решается. Просила меня.
– К…конечно, – ответил Виталий, опустив голову. – Как захочет мама.
– Ну вот и договорились, – вздохнул старик. – Вот и ладно. А теперь скажи: что с тобой вчера приключилось?
– Вроде бы ничего.
– А с дерева прыгал? Не стыдно тебе, такой взрослый… И вот – ушибся.
– И…ничего, Пал Палыч, все прошло.
– Прошло-то прошло, да… знаешь ведь, разные есть люди. Вот и ко мне тут заглянули, как бы сказать получше… ну, доложили, что ли…
– Про дерево?
– Нет, про бабушку Устинью. – Пал Палыч теперь глядел светло и открыто, и было ясно: если и сердится, то не на него. – И просил Бурова позвать, вот вы мне и…
В это время в дверь постучал и вошел Юрка Буров.
– Вы меня звали, Пал Палыч?
– Да, да. Усаживайтесь оба. – Директор указал на потрёпанный дерматиновый диван. – Так вы, я полагаю, в бога не верите. Как же тогда верите в колдовство? Ведь если нет бога, нет и его антипода – сатаны, нечистой силы, которую можно заклясть, выгнать из человека всякими шаманскими причитаниями. А?
Юрка опустил голову, и краска медленно поползла к его ушам, разошлась по щекам, по лбу.
– Что скажешь, Юра?
Он не поднял глаз и ничего не сказал.
– Я тебя спрашиваю, Буров.
– А я бы ее ни на кого не поменял.
– Кого?
– Бабку.
– Это прекрасно, – очень искренне выдохнул старик, – Это очень распрекрасно. Но любовь к человеку – одно, а любовь к его делу – другое. Разве не так?
– Нет, – ответил Юрка тихо, опустив голову. – Не может плохой человек делать хорошие дела, а хороший – плохие. – И добавил, впервые глянув прямо: – Так я думаю.
– Ты прав, конечно… – закивал старик. Голос прозвучал так, будто за этой фразой должна была следовать другая – через «но»: «Ты прав, но…» Однако не последовала. Он опять задумался и потом стукнул ладонями о стол. – Да. Прав. – И, опираясь на эти ладони, поднялся. Прошел три шажка до двери – и обратно (кабинетик крохотный, и пошагать-то негде).
Потом опять сказал, будто сам себе:
– Но ведь бывает и косвенная вина.
Он опять думал что-то свое и как бы нехотя вернулся к разговору:
– Ведь вот, к примеру, бабушка: к ней идут, как к доктору. А она не все же знает. Верно?
– И доктор не все, – совсем уже шепотом отозвался Юрка. – Но она очень хочет доброго.И делает. Вчера пришел к ней один – из-под самого Архангельска приехал, – у него вся кожа заволдырилась. Чешется весь. Денег, говорит, на мази перевел, – можно дом-пятистенок построить.
– Ну?
– А ушел – уже полегчало. Сегодня опять придет.
– И ты веришь в это?
– Во что?
– Что полегчало?
– Так видно же. И он сам сказал: «Легше».
– А что видно?
– Кожа побелела. Бабка часа два вокруг него колготилась. Она ведь не один причет – у нее и травы, и примочки травяные.
Пал Палыч согласно покивал головой.
– Ну вот что, пареньки. Давайте договоримся так: ты, Виталий, в случае чего обращаешься все же к врачу. А ты, Юра, все это, что ты рассказал, держишь при себе. И прошу, убедительно прошу – школьников моей школы ни во что такое не вовлекать. Ясно? А то мне вот приходят… сообщают… И я обязан…
– Да, – кивнул Юрка. – А кто?
– Ну, зачем же? Такого человека, конечно, стоило бы хорошенько выпороть. Но не по моей же инициативе, верно?
И он проводил ребят до дверей.
Всю дорогу до своего класса Юрка недоумевал: кто и зачем?
А Виталий не смог высказать своего предположения (нет – уверенности), потому что получалось, будто он боится, как бы Юрка не подумал, что это он, и из-за этого хочет замарать Юркиного дружка.
– Плюнь, – говорит он. – Ну, трепанул кто-то, кто видел.
– И чего лезут, чего в душу лезут? – разводил руками Юрка. – Ну ладно. Им всем до бабки – огогошеньки, как далеко! И Пал Палычу тоже, не думай. Ишь ты – «косвенно». Не хочешь – не делай, а уверен, что хорошо, – валяй.
* * *
Бабка лежала на большой кровати, которая пустовала в ожидании ее дочки, Юркиной матери. А та как ушла на фронт, так и сгинула. Вначале, правда, присылала фронтовые треугольнички – тетрадный листок и на нем несколько ровных строк её замысловатого почерка в завитушках: жива, здорова, пишите о себе. А потом вдруг сообщение о её контузии, и всё. Кто-то из бабкиных клиентов посылал запрос – ответили, что жива.
Сейчас на столе лежало письмо, но Юрка не заметил, глядел на бабку. Он думал рассказать ей о сегодняшнем, потому что оно обидело сутью своей – форму-то Пал Палыч выбрал добрую: кто смеет подглядывать, судить, доносить?!
Юрка тогда впервые столкнулся с этим. Но как скажешь, если больна? Бабка перемогалась давно, с самого того дня, как узнала о дочкиной контузии. Но сегодня совсем почернела, запали глаза.








