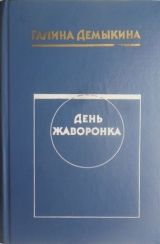
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Юрий будто в ответ сказал Виталию почти шепотом:
– Ей безразлично. Ей – только сегодня, сейчас.
Она глядела ясно. Так глядят глухие или не знающие языка. Но ведь она знала!
– Онка! – засмеялся вдруг Юрий. – Ты когда-нибудь на качелях качалась?
– О! – легко выдохнула она. – Это… это… – И она взмахнула руками, будто отделяясь от пола. Ей тоже было приятно переменить тему.
На краю деревни стоит елка. На ней – детские качели: толстая проволока и досточка. А крепится это на здоровенном поперечном суку. Мимо елки по тропинке топает солдат. Он уже в штатском, и девочка – в длинном платьице, босиком: деревенские жители. Она диковата и как-то странно говорит, но он, вероятно, и не замечает этого. Проходят мимо елки. Он кивает ей на качели – покачайся, мол (он и сам-то с ней отвык от человеческой речи), – но девочка крутит головой: «Нет, нет!» Чудная. Потом всё же подходит, качает доску, смотрит, как поднимается она и резко падает. Глядит, не то задумавшись, не то вспоминая. И вдруг бежит к солдату, хватает руку, тянет его прочь. Они идут по песку, и на песке четкие следы его сапог и – слабенькие, как воробьиные, – меточки ее босых ног. Они идут, удаляются по песчаному берегу, а небо темнеет, и на нем рельефно – ели, на их фоне светлым пятном осины, березняк, и простор такой – небо, даль.
– Вот это я вижу, – говорит Юрий, когда все уже записано. – Хоть сейчас снимать. И что эта девочка ко мне прилепилась? Спится. И всегда на качелях.
– А ты знаешь, Юрка, ведь мы пропустили всю дорогу из Германии. Или не будем?
– Да… надо бы. Теплушка, наверное, солдаты; грязный пол, на который подстелили для девочки шинель… Крупно – чьи-то сапоги, добрые бородатые лица, глаза… Ах, какая все банальщина лезет! – Юрий опять занервничал: задергалось лицо, вздулась ноздря. – Да черт бы с ней, с дорогой! Не видал наш зритель дороги! – И добавил тихо, осудив себя: – Нет, знаешь, кто профессионален, тот любой проходной эпизод сделает. Ему это пустяк. А мы вот не можем.
– Юрка, ведь я вообще…
– Молчи! Думаешь, я к тебе таскаюсь ради твоей тещи? Или твоего этого амура с лампочками?! – И уже совсем мягко: – Помнишь, мы первый раз в Москве встретились? На фоне высотки и капустного ларька?
– Как же, как же. Я тогда телефон тебе…
– Это из другого разговора! – И опять взвинтился (да что это с ним?!): – Ладно, хватит. Не будем больше писать. Чего-то не думается.
И сразу, как черт из бочки в старых сказках, выскочила Прасковья Андреевна:
– Чайку! Готово все. – Она уже успела и пирожок из готового теста испечь. – Вот Лидуша-то рада будет: нашелся, пострел!
Это, безусловно, была веселая и душевно здоровая теща. О, такая удача – теща без комплексов!
Они хорошо сидели вчетвером, вспоминали Крапивин. Потом прибежала Пашута.
Юрий поглядел на нее нежно и грустно. И Виталий понял, о чем он. Нежно и грустно. Неужели для Юрки все это – до сих пор? Неужели так бывает?
И опять Юрий будто услышал:
– Я бы тоже так назвал: Пашута.
И притянул к себе девочку.
– Меня зовут Юрий Матвеич, поскольку ты уже большая. А хочешь – дядя Юра, поскольку я много старше тебя. Как будешь звать?
Пашута покраснела, похлопала темными от смущения глазами и сказала совсем по-детски:
– Дядя Юра.
– Ну и отлично. А это – Она.
Она промолчала, улыбнулась узенько. И Пашута тоже лишь наклонила голову.
* * *
– Ты добрый?
Лида тоже любила так спрашивать.
– Подумай, дружок, сама. Составь мнение, – помнится, отвечал ей Виталий. Потому что забыл, как трудно составить мнение, когда любишь: все смещено – невнимательный взгляд ранит, а грубость прощается. Сколько раз по воскресным дням она волокла тяжеленные сумки с едой, в то время как он дома, в тепле, почитывал газету, и – ничего. А не вышел из комнаты встретить ее с работы (обычный, ежевечерний приход!) – слезы. Обида. Ссора.
Я не буду с ней ссориться. Она права, потому что больше любит. Беззащитней.
Виталий достал свою потайную тетрадь. Открылась запись под названием «Несправедливость», В тетради многое посвящалось Лиде – зло посвящалось, особенно стихи. Но прежде было иносказание (все же вотчина искусства). Тут же – просто и мелко: «За одинокую прогулку – втык». Или: «Может ли человек, сидя за чаем, мыслить вслух и притом – каждую секунду? Любое движение, так сказать, духа – в слово. А когда рот набит? Дай проглотить, моя радость». Дальше шла весьма прозрачная литературная попытка. Вроде бы рассказ под названием «Дача». Начало.
Дача
«Не знаю ничего более счастливого, чем одинокие завтраки на даче: никто не спрашивает тебя, что именно ты хочешь съесть, и – слава создателю! – ты берешь сам то, что хочешь.
Никто не просит тебя:
– Ну, еще немного молока! Или:
– Раскрой окно и закрои дверь… Нет, нет, лучше открой дверь, закрой окно и отвори форточку.
Никто не рассказывает скучных историй о приятелях и не сердится на тебя, что ты не поддерживаешь беседы. Не говорит:
– Перестань читать за столом, это неуважение к присутствующим.
Или:
– Не сиди с отсутствующим видом, это создает пустоты в беседе.
Когда я один, я спокойно просыпаюсь, встаю, не боясь кому-либо помешать, включаю электроплитку и ставлю на один ее круг чайник, на другой – воду для варки яиц. И пока я совершаю свой туалет – все готово. Ведь тарелка, чашка, ложки, соль и сахар стоят на столе, помытые и не убранные с вечера.
(«Неужели тебе лень поставить посуду в шкаф?!» – Лень! Лень! Да, мне лень!)
Я пью очень крепкий чай («Зачем столько заварки? Ведь не чифир готовим»), см яйцо всмятку, предварительно вылив его в блюдце и накрошив туда белого хлеба. («Сколько тебе лет? Три года? Четыре? Это атавизм – есть так!») Гляжу в окно, вижу и слышу птиц. И Господин Покой стоит за моей спиною и дышит мне в затылок. И от его дыхания будто подтаивает невидимая пленка, отделяющая, почти постоянно отделяющая меня от брызжущего красками, цветастого, глазастого мира, от игристого его дыхания, полного родникового холода и тугих пузырьков, которые лопаются возле самых твоих губ…
И вот я вхожу в этот мир, а он в меня. Острее и выше этой минуты слияния с прекрасным – прямого, без посредников! – я не испытывал».
* * *
Дальше не пошло, потому что гнев был излит – все сказано. Виталий плохо помнил тогдашнее состояние загнанности.
Я не буду ссориться, если Лида вернется. Я не буду… И конце концов, можно ей объяснить…
– Папка! – крикнула Пашута. Она теперь, после каникулярных успехов, да еще без матери, обращалась с ним куда вольней. – Папка, что это вы такое с дядей Юрой придумываете?
– Вроде бы фильм.
– Прямо из головы?
– Ага.
– Ну?!
– Да выйдет ли еще?!
– Па, а эта… ну… Она? Она кто?
И Виталий растерялся. Как сказать:
Хлопушка?
Божок?
Юркина (кто?)?
Артистка? (Так ведь хлопушка же!)
– Она тоже немного помогает.
– А… (разочарованно).
* * *
– Юрка, у нашей девушки нет имени.
– Назовем Алена, – готовно отозвался тот.
– Этих Ален!..
– Наша немного Премудрая… Ей как-то суждено потом потерять имя, пока не знаю как… Чириков ее так назвал. Что с него взять?
– Чириков кто? Солдат?
– Ага.
– Почему Чириков?
– Пусть, Виталий, а? Я его так величаю почему-то.
– Ладно, бог с тобой.
– Ну, спасибо. Окрестили души живые. Я боялся – откажешь.
– Значит, Алена и Чириков. Я что думаю, Юр: ведь Алёнка, верно, может долго бывать одна.
– Конечно. А что?
– Ей не так уж необходимо людское общество. Верно?
– Ну… в общем, да.
– Так вот, я уже заметил, что такие самодостаточные люди…
– Какие?
– Есть такой термин в психологии – «самодостаточность», когда человеку хватает себя, есть о чем подумать, что ли, всегда есть чем заняться… И к таким почему-то тянутся люди. Парадокс, а? Другой корчится от одиночества, и к нему – никто. А здесь – на! Бери! Парадокс и есть.
– Ну-ну! К чему ты? – остановил Юрий.
– Да вот к нашей Алене потянулись подружки, парни. Они окружают ее… Это когда уж она взрослая.
– Ясно. Когда заневестилась. Ну?
– А ей даже в тягость.
– Что ж, ни к кому ее не тянет? Никого нет по сердцу?
– Есть и такой. Учитель. Приехал. Он здешний, да отбывал в город учиться.
Юрка остренько глянул, но Виталий не заметил даже.
– И вот странное дело. Аленка качается на этих еловых качелях… это когда сливы осыпались (они потому и осыпались, что уже – учитель). Алена качается, а тот сидит с родными, дома, за самоваром, не видел еще девушки. А у него перед глазами плывет. Она вверх, и его комната внизу остается, она вниз – все восстановилось. А?
– Пойдет, – сказал Буров. – Давай настрочим эту сцену!
Виталию долго потом было неловко своего прямого хода, личного посыла. Хм – «самодостаточность»! Неловко, но и всколыхнуло в нем. Не такое невинное: то, что касалось судьбы, о чем долго потом думалось: «Если бы шло естественным ходом, без Лидиного вмешательства, решился бы?» И отвечал себе:
– Да, да. Решился. А дело было вот как.
Однажды в воскресенье собрался к ближнему ларьку за журналом (старик продавец оставлял ему интересное). Спросил Лиду, что купить. Оделся, а потом зашел за деньгами в комнату, заметил какой-то просчет в разложенной на столе лесопосадочной выкладке и стоя, в пальто, начал править.
Зазвонил телефон.
– Его нет, – сказала Лида кому-то. – Нет, просто вышел. Вернется минут через сорок.
Виталий слышал вполслуха, не отрываясь от работы.
– Это его жена, – говорила Лида. – Так, так. Но ведь он научной работой не занимался. И потом – другой город. Я и ребенок для вас, возможно, не довод. Но у него больна мать.
Надо было подойти и взять трубку, чего проще. Но Виталий медлил. Медлил потому, что не сразу понял, кто говорит и о чем. А когда сообразил…
Был на свете один, кажется, единственный человек, который сказал: «Вы, Виталий Савин, по складу ученый. И вам будет трудно все, кроме научной работы, помяните мое слово». Человек этот, молодой еще, быстрый, смуглолицый и черноглазый, одно время вел на их курсе практику: как-то так сложилось, что большего ему не нашлось. Но знал он много. Со своей невероятной шустростью доставал книги и, приглядевшись, поговорив с Виталием, стал давать и ему. «Вот вам, смотрите, – ногтем узкого пальца отчеркивал он абзац, – у мухи разрушили крохотный кусок хромосомы, в которой были гены, заведующие окраской глаз и формой крыльев… Не самые существенные признаки – верно? – скорее внешние. А без этих генов особь гибнет. Потому что, друг мой, большинство генов, если не все, действуют на многиепризнаки. Это – плейотропия, или многонаправленность. Но это еще не все; и каждый признак тоже определяется многими генами, Тут знаете, сколько всего?! Только копни! Черт ногу сломит! – Он весело обхватывал руками голову, смеялся, блестел глазами. – Вот, вот чем я буду, нет, чем мы с вами будем заниматься!»
Виталий тогда ходил счастливый, и только его почтительность к преподавателю мешала дружбе: не чувствовал себя с ним на равных.
Потом отменили практику, заняли ее место другим предметом. Преподаватель не появлялся. И Виталий был уверен, что тот давно и прочно забыл его. И теперь… вдруг – он?
– Я думаю – нет, – сказала Лида. – Впрочем, поговорите с ним. До свидания.
Виталий заволновался, выбежал в коридор.
– Кто звонил?
– О, ты здесь? А я… Звонил некто Искуситель с большой буквы (она назвала фамилию, ту самую!). Предлагал тебе уехать из Москвы и заняться научной работой. – И засмеялась. – Я спросила: «На какое время?» А он выспренне: «Науке посвящают жизнь».
– Чего ты смеешься?
– Фразе. Но волнуйся, он еще позвонит. Такие не оставляют в покое.
– А его телефон ты не взяла?
– Поверь мне – позвонит.
Он не позвонил. И ни в одном из научных институтов, куда Виталий обращался, о нем сведений не дали. «Вы, Виталий Савин, по складу… и вам будет трудно все, кроме…»
Но мама действительно была больна. А Пашута мала. А Лида работала именно здесь, в Москве… Волны улеглись, и жизнь заняла место, четко обведенное плоскостями стен и потолка московской квартиры, «…будет трудно все, кроме научной работы, помяните мое слово…»
Но ошибиться может любой. А если нет? Не ошибся?
Юрий Буров пропал. Несколько вечеров Виталий ждал его, потом позвонил:
– Ты жив, Матвеич.?
– Едва. Забегался с Онкой. То надо повести ее к врачу, у неё, видите ли, почки не в порядке. Теперь у нее упало давление. Вот поднимаю до нормы.
Говорилось это со смешком, и Виталий подумал, что Юрке, наверное, нравится возня: как с ребенком.
– Ну, привет ей.
– Спасибо. Но она и так, Виталик, с приветом. Ведь это чтобы взрослая баба не сходила сама к врачу?!
– Тебе же нравится! – засмеялся Виталий.
– Черта с два. Фильм горит. Знаешь чей? Панинский. Помнишь, был такой Костя Панин в Крапивине?
– Конечно. Прескверный был тип, не знаю, как теперь. Но ты, кажется, тяготел к нему.
– Не я к нему, а он ко мне. Защиты искал. А теперь вот хочет долги отдать.
– Как это?
– Да он наше начальство. И довольно ничего себе, крупное.
– О…
– А я люблю, знаешь ли, благодарных людей! Мог бы задрать нос.
– Ну-ну! Как говорится, рад за вас!
– И за вас. Почему? Да с нашим фильмом, который… в общем – на Панина большая надежда. Завтра приду.
* * *
Когда Чириков привез девочку в деревню, все очень удивились. Но промолчали. Его изба сгорела, родных не осталось. А там, на краю деревни, – избенка. Ветхая, вросла в землю. В ней старики жили и померли, и она пуста. Решили миром: дать солдату. Это как раз недалеко от той ели. И вот вошел туда солдат с девчушкой этой. А бабы-то (любопытно ведь!) в платочках своих, в широких юбках – шурх-шурх возле избы. А войти не решаются. Потом одна, глядишь, кринку молока несет. Постучала в окошко, пошла. Увидели бабы – и опрометью домой. И вот уж вторая вареной картошки тащит, важно так ступает. Третья соседка шарит по своему огороду – чего бы сорвать. Луку нарвала и морковину. А одна баба бегала-бегала – нет ничего в дому – год-то голодный, – так она куру с яйца согнала, с насиженным явилась. Явилась, а там уж сидят три бабы чинно на лавке. Сидят, глядят. И эта села. А девочка раскидала руки, спит на голой кровати, закутанная в шинель. И Чириков у окна сгорбился. Хорошие бабы у нас по деревням, хоть и любопытные. Разве без них взрастил бы Чириков девочку?! Она хоть и дикая, а своя стала. Идет по деревне, а ее окликают, подзывают, кто погладит, кто за стол посадит – накормит, а кто и вымоет в корыте да бельишко простирнет. Нет, без баб этих захирела бы маленькая девочка.
А уж дальше… Был во Франции в прошлом веке художник Домье. Если раскрыть книгу репродукций его картин и графики (а она как раз была в комнате Виталия) – сразу глянут на тебя рожи. Такие он рожи рисовал – жуткое дело!
И вот сидит Аленушка в доме, рассматривает игрушку, интересную ей такую игрушку Чириков из города привёз – калейдоскоп. Смотрит она сквозь него на свет, радуется цветным бабочкам и птицам, которые живут там, в трубке. Потом отводит глаза, а в окне… в окне нависает рожа. За ней через какое-то время – другая. Чирикова в доме нет. Рожи – в дом. Девочка пугается, кричит. А рожа ей: «Как тебя зовут, девочка?»
Та – в угол. Смотрит.
А рожа: «Скажи, девочка, он твой отец?»
Из угла опять молчок.
И тут изба искривляется, фикус становится рогатым, доски пола поднимаются. Девочка кричит. Рожи исчезают.
А дальше – уже несколько рож, да не в чириковском доме, а в служебном, официальном.
Ведь вот вы замечали – при всяком людском поступке, ну, при каком-то человеческом шаге, всегда найдутся рожи. Шаг хорош, но рожи его перетолкуют.
– Не украл ли чужого ребенка?
– А если и нашел, – может, кто-нибудь ищет!
– Надо публикацию дать. Девочка большая.
– Да она говорить не умеет.
– Вообще?
– Нет, по-нашему.
– Немку утащил?
– А может, у него там связь была?
– А-а-а! С немкой! Как это мы сразу-то…
– Так это что же, это же…
Рожи, пригнувшись, растекаются, сливаются с темнотой. А в избушке солдат укачивает девочку. Он рассказывает ей сказку. Вот такую:
«…она ему и говорит, слезами обливается:
– Зачем ты мои крылья сжег?! Теперь ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, в тридевятом государстве.
И пошел королевич искать свою любимую жену…»
А девочка слушает, слушает, и перед ее убаюканным взглядом не огонь пожара, не вспышки боя и не падающие тела, а причудливое смыкание и размыкание цветных солнечных граней, как в калейдоскопе.
– Спи, Аленушка, спи.
– Она найдется?
– Елена-то Премудрая? А как же!
* * *
Февраль был голубой от неба. Его можно было пить большими глотками прямо из горлышка. Виталий так и делал и ходил будто хмельной. Он прозевал, когда повернулся рычажок управления на «ясно».
Витал и не хотел вдумываться, отчего это.
Звонок в дверь.
– Талька, привет!
– Здравствуйте, Виталий. – И открытый взгляд прямо в глаза. Какие там осколочки – это были большущие серые глаза, часто менявшие цвет. Ее взгляд был лишен кокетства или значительности, в нем не было ни особого внимания, ни участья. Просто совершенно открытый взгляд при полной внутренней замкнутости.
– Она, вы когда-нибудь сердитесь?
Пожала плечами.
– Никогда?
Засмеялась:
– Спросите свой друг.
Юрий на этот разговор не отозвался.
Виталий взял отпуск (удивились, но дали) и днем, отпив чаю с тещей, садился за сценарий. Ему хотелось то, что там было, сказать хорошо. Ну, хорошо, как он понимал, как умел.
Юрка подсмеивался, говорил, что это не имеет значения, а потом вдруг стал дорожить этим. Виталий даже заметил, с чего пошло, – со слив. Он написал: «А в саду в это время все разом, шумно, падают сливы. И темно и тревожно лежат в траве».
Буров прочитал вслух и задумался.
– Да. Ты прав: «Темно и тревожно лежат в траве…» Мне это говорит.
Виталий попытался вслух описать Аленку – уже взрослую:
– У нее остались от детства неловкие движенья…
– …острая мордочка, – добавил Юрий.
– …прямой и открытый взгляд, а букву «л»…
– А букву «л»… – Юрий пристально поглядел на Виталия. – Букву «л», Талька, она произносит, как все люди. Это уж будь уверен.
Виталий смутился. Даже поморщился, недовольный с бой. Но Буров тотчас же будто зачеркнул этот разговор.
– Впрочем, чего гадать? Все будет зависеть от исполнительницы.
Однажды, когда не было Оны, Виталий спросил:
– Почему ты не снимешь ее с этой дурацкой работы.
– Работа, мой любимый Виталик, не бывает дурацкой. Все работы хороши, выбирай на вкус. Она и выбрала.
– Да она девочка. Небось пришла после десятилетки Еще и в тебя влюбилась!
– Ну, тут дело сложней. И она постарше. Кроме того, у нее, помимо хлопанья, есть множество других обязанностей. В частности, она неплохо заваривает чай. Впрочем, только на работе.
– Не свинись, Юрка.
Ничто, ничто не мешало литься голубому февралю из горлышка небесной бутыли!
– Клянусь. Очень неплохо.
Как, февраль, не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Все весною пахнет!
Виталий уже взрослым нашел эти стихи у Майкова и очень удивился: всегда полагал, что их придумала мама.
Ничто не мешало литься голубому февралю. Даже этот разговор: «хлопушка…», «чай заваривает…». Вроде бы что-то померкло, а потом беспричинная голубизна восстановилась.
Иногда, прежде чем сесть за работу, они выходили немного побродить. И тогда – солнце на красных кирпичах и все то же небо, которое запутывалось розовыми краями в ветках деревьев.
– Перекусим? – спрашивал Юрий.
– Как скажет Она.
– Немножко-немножко, – говорила она.
Буров знал малые кафе (где, впрочем, и его знали!) и хорошо там хозяйничал, его почтительно слушали официанты. Он любил прихвастнуть своей умелостью и в этом деле. Во всем, мол, успешен. (Наивное тщеславие!)
– Тебя, дорогой, разрывает на разные части, – сказал ему как-то Виталий.
– Твоя правда, – ответил он покаянно. – Но это – остатки. Ты поглядел бы на меня года три назад! Думал – и вправду разорвет! Жуткое дело!
Они ничего не пили (к удивлению тех же официантов), а брали с собой бутылочку хорошего пива. И шли дальше, почему-то совершенно свободные Мир расширился до ощущения свободы. Это ощущение было острым – в нем было что-то от родниковой воды. Глоток ледяной воды!
Отпуск Виталия длился, нежился, освещался ново. Лучшего отпуска у него еще не бывало. Во сколько бы ни лёг, вставал выспавшимся. Глядел в зеркало и не морщился, как обычно: а чего? Человек как человек.
Он вдруг ощутил силу: отлично соображал, все помнил. Мог рассказать смешное или страшное, мог острить, придумывать ходы. Мистифицировать.
Он родился в ночь с 22 на 23 июля. Ближе к утру. Стало быть, согласно гороскопу, который притащил Юрка, родился под созвездием Льва.
С 23 июля по 23 августа – созвездие Льва.
Знак огня.
Под покровительством Солнца.
Характер властный.
Натура богатая.
Ха! Учтем! Это я – «властный характер», да, да!
«Лев – центральная фигура зодиака. Ему; приходится очень трудно, так как много искушений применить свою силу, а основная черта характера Льва – доброта…»
Это была забавная штука – гороскоп. Забавная, как всякая попытка познать себя, установить какие-то закономерности в своем поведении.
«Родившийся под созвездием Льва темпераментен и импульсивен! – пел он по утрам, натягивая штаны. – У него огромные внутренние силы, он способен на подвиги!»
Теща, ожившая во всеобщем подъеме, уже не охала за дверью, а смело звала:
– Виталь! Чай со мной попьешь или дождешься своих?
– Со всеми попью, Прасковья Андреевна, – сперва с вами, потом с ними.
Ему правилось, как она в эмалированной кастрюльке заваривает брусничный лист «от ломоты в костях», и в кухне тогда пахнет не то рогожей, не то ошпаренной деревянной кадкой. Ему нравилось, попив чаю с ломтем хлеба, отломанным, а не отрезанным, самому убрать комнату, подмести, стереть пыль, поставить рядом с Юркиной машинкой три тяжелые пивные кружки, а пива прямо из холодильника – всего бутылка, и больше не надо – нет, и ни к чему. Ему хотелось купить ранних цветов для Оны, но боялся: Она могла вдруг не поглядеть на него так прямо, а ему нужен был совершенно открытый взгляд.
Ему и Юрку хотелось порадовать. И он работал: старался, придумывал.
И вот настал день, когда вдруг все сложилось. Не было лишь самого конца. Но его решили оставить «на попозже», потому что не так это просто – конец.
Ночью зазвонил телефон. Виталий ждал звонка. И боялся. Ждал и не хотел (теперь уже не хотел!), – надо же было что-то решать. Пока бежал в коридор (спешил, чтоб не проснулись Пашута и Прасковья Андревна), подумалось: «Попрошу ее, чтобы оставила все как есть. Пусть пока так». Снял трубку:
– Алло!
Оглушил бас:
– Талька!
Она полетела.
– Кто?
– Аленка!
– Тьфу, дурной!
– Сейчас приеду.
– Дверь будет открыта, не звони.
Юрий примчался очень скоро, схватил, перекружил Виталия.
– Вот, вот к чему все это шло: она взлетела! А я думал: почему сказка про птицу подошла, и эти следочки на песке, и как она на качелях?.. На качелях, а потом – в закат. Мне этот закат Володька Заев вот как снимет! И черные ели, и галки-птицы – цон-цони-цон! Ты слыхал, как они кричат?
– Да. Как фарфор о фарфор.
– Точно! Точно, старик! Неужели слышал?!
Юрка так кричал, так восторгался этой малостью, будто галки с их криком невесть какая редкость.
– Ты понял теперь?! Всё к этому, все к этому взмаху, вся жизнь. Представляешь – лечу!
Потом Юрий затих, махнул рукой, был у него такой жест – рукой от головы, широко. Нахлобучил шапку, схватил шубейку.
– Завтра ночью в Крапивин еду. Не нужно чего передать?
Это было совсем неожиданно.
– Что вдруг?
– Не вдруг. Я бываю там. Редко, правда. – И рассмеялся. – Дело, брат, есть.
Пошел. Но от двери опять вернулся:
– Я еще студентом сделал одну киноленту. Хорошую – «Большое плаванье».
– Ну?
– Она тоже, как говорится, «имени тебя».
– Путаешь, старик.
– Сроду я не путаю, не так стар. Помнишь – один раз мы всего и встретились, возле этих капуст. И ты говоришь: вот вроде к чему-то готовились этакому, серьезному, а вылилось все в пустяковый вояж. Ты так сказал – «вояж». Ну, зря готовились, а? Да она и имя-то свое избитое сразу потеряла, сбросила. Ну? Зря мы? Зря?
Телефонный разговор (один)
– Талька, привет! Буду звонить Косте Панину. Твое благословение?
– Благословляю, сын мой. Да не покинет тебя присутствие духа.
– Не покинет. Возьму этого типа на обаяние.
– Возьми и не урони.
– Циник! Я буду слабеющей рукой высоко держать наше знамя.
– Мчись с криком «ура», то есть «урам» – что по-татарски значит «убью» (но этого уже никто не помнит).
– Не закричать бы «караул», что прежде было призывом караула, то есть караульных, и о чем нынче тоже позабыли.
– Забил эрудицией! Иди! Дерзай!
Телефонный разговор (другой)
– Костя! Константин Анатольевич?
– Простите, кто это?
– Буров. Здравия желаю!
– А, Юрь Матвеич! Не узнал.
– Как мы, однако, повзрослели, а? Отчество и все такое.
– Это я под гипнозом большого кабинета. Забыл, что сегодня отпустил секретаршу. Ты чего, по делу или так?
– И так, и по делу. Я сценарий написал. Вместе знаешь с кем? С Виталием Савиным, – помнишь, у нас в школе учился?
– Нет. Не помню. Что за сценарий? Как говорил – сплошная гармония, да? Отделил чёрное от белого?
– Ты, брат, памятлив. Не знаю, что вышло. Хочу отдать на студию и ставить. По прежде – тебе.
– Ну, я ведь… инстанция…
– Знаю, знаю. Но помнишь, когда я вытянул твой прошпионский фильм, ты кой-чего обещал мне.
– Не отрекаюсь. Слушай, идея! Приходи давай в воскресенье ко мне. У меня будет Главный с женой, ну, и прочие. Произведи впечатление.
– Костя, я ведь не артист. И характер у меня того… и искательства эти… не мастер я.
– Ну, смотри сам. Это – шанс. А сценарий я читать не буду. Все эти твои идеи мне совершенно не понравились. Но тебя расхвалю.
Конечно, надо пойти. В крайнем случае посижу молчком – этаким поленом.
– Да, старик, приду. Расхвали меня. Я хороший.
– Конечно. Ты талантливый.
– Я еще и симпатичный.
– Ха-ха! Не сказал бы! Прости, тут меня ждут. Запиши адрес…
Поездка в Крапивенку отодвигалась.
Что, интересно, надо надевать на бренное тело, отправляясь в столь высокое общество? Костюм, разумеется, и галстук. Это в природе называется мимикрия – приспосабливаемость к условиям. Ну и надень. У тебя есть. Все разумно.
Чего ж ты напялил ярко-желтую замшевую куртку, цветной платок под воротник?
А очень просто. Предстоит не смешаться с массой, а произвести впечатление, то есть выделиться. Тут уж другая разумность нужна.
Квартира была просторная, но со всякой дешевкой вроде оленьих рогов над зеркалом и торшеров наподобие уличных фонарей.
У Панина была и жена (что очень удивило). Жена немолодая (постарше их вроде бы!), милая, домовитая. Привечала не шумно, но радушно, никого особо не выделяла. Кто есть кто, Юрка понял не по ее, а по Костиному приему. И еще понял, что сам он, Юрка, предварен рассказом и непременнодолжен показать себя. Этого ждали все. Только некоторое удивление по поводу своей курточки прочитал в панинских глазах.
– Это один из лучших наших молодых режиссеров, Юрий Матвеич Буров.
– Такой-то (фамилия).
– Такой-то.
– Такой-то.
– Василий Никитич.
Хоп! Вот он! Не по имени узнал – по повадке. Что-то было тут спокойное, лишенное напряженности (все-то немного навытяжку). А так – обычное лицо: длинное, с умными серыми глазами, со свободной улыбкой, открывающей прокуренные зубы. Не чванливое, не злое. Велик, но доступен. Ну, слава всевышнему, понравился. То есть он Юрке понравился, а это полдела, потому что все же не умел Юрий, как ни хитрил, разговориться накоротке с тем, кто ему несимпатичен.
– Ну что, Полина, можно к столу?
– Да, да, пожалуйста.
Бледная, чуть оплывшая, полная женщина всех рассаживала. Юрия Матвеича поместила через человека от Главного.
Стол был обильный и красивый (ай да Полина!). Говорили о салате из грибов (что, мол, просто, а хорошо), о предстоящем гусе (жирный его дух разносился по квартире), кто-то запустил анекдотец из серии «Ну, заяц, погоди!»…
– Ваши сборища веселее? – перегнувшись через спину соседа, спросил Главный.
– Когда как, – ответил Юрий. – А вообще-то я не любитель ходить в гости.
– Почему?
– Утомительно. Ведь вся работа на людях, так что уже в жизни ищешь тишины.
– Хм, не думал. И так все?
– Это я про себя. Все по-разному.
Главный вернулся к еде и питью.
Но зацепило. Так и сорваться недолго.
Особенно Юрий заволновался, когда после ряда унылых тостов, все еще не развязавших веселья, Панин предательски поглядел на него. Ой, сейчас заставит! Стал в трепете вспоминать, что там повеселее, а голова пуста. Надо, надо было дома подготовиться!
– А теперь, – провозгласил Панин, – теперь слово творческому среди нас началу. – И пояснил Главному, чтоб не было разночтений: – Ведь мы-то лишь надстройка, а фундамент – они. (Он, кажется, ставил эксперимент, этот Панин. Он не просто протежировал. Эксперимент на выживание. Выживешь? Выдюжишь?)
Теперь все глядели на Юрия. А он вдруг вспомнил, придумал!
– Мой тост будет длинноват, но зато каждая строчка с большой буквы.
– Стихи! – обрадовался кто-то догадке.
– Да. Поэт сказал приблизительно так:
Могуч был народ
На Руси нашей старой,
Хоть пища была
И груба, и проста.
Не знали катара
Батыры татары.
Не ведал колита
Иван Калита!
Он не все помнил, но не сбивался, вставлял слова на место забытых. Голова его после выпитого приобрела ту ясность, к которой он так привык за время своих кутежей.
И только теряя
Отважную душу.
Мечом рассеченный
От шеи до ног.
Могучий боярин
Мог выдать наружу
Желудочный сок.
Слушали отменно, кивали головами. Когда кончил, рассмеялись, кто-то повторил:
Негоже нам сиднем
Сидеть на диете,
Потомкам варягов,
Татар и славян!
– Вот уж поистине!
Чокнулись, развеселились.
– Так все же, Юрь Матвеич, как вы развлекаетесь? – опять перегнулся Главный. – Как резвитесь, когда одни?
Очень даже несложно было рассказать, что среди нас, мол, бывает много артистов, которые и изобразить кого-нибудь могут – из начальства, например, и смеются-то они повеселей, чем чиновники, и мистификации всякие!
Но тогда надо бы что-нибудь изобразить или в крайности попросить гитару и спеть, но так уж явно развлекать их он не хотел. Нет, нет, только на равных.
– Если помните, – сказал он, – у Достоевского в «Идиоте» есть такая странная игра, когда каждый рассказывает о своем самом дурном поступке. Игра называется «Пети же».
– Как? – переспросил Главный. Они перестали уже гнуться за спиной соседа – тот наконец догадался уступить место Юрию.
Юрий повторил название. Теперь их слушали все, поскольку все же Главный. Даже и неловко шуметь, мешать ему.
– А как пишется, не помните? – опять поинтересовался Главный и пошарил по карманам ручку.
Когда сошлись отличная шариковая ручка и услужливо поданная Паниным бумага, Юрий Матвеич изобразил: «Пети жё».
– По-русски?
– Да.
– Удивительно! По-французски «жё» – игра, «пти» – маленькая. Так ведь?








