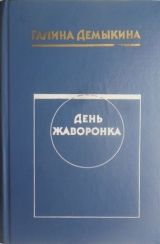
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Глава XI
Так бывает, что яблочко от яблони падает далеко?
Бывает, бывает! Я сама это видела много раз!
Так и моя Светка. Я говорю «моя», потому что повернулся некий рычажок, и у меня точно выросло ухо: я стала слышать ее. А она – меня. И мы не могли наслушаться! Я уже знала о Светке много: знала, как она смущается пристального взгляда и покрывается от этого бурыми пятнами. Знала, как смущается затем этих пятен, и, тряхнув головой, скорей величественно, чем изящно посаженной, идет ва-банк, смело и резко. Дерзит, насмехается. Гордячка! Так все думают. И это правда, конечно, но не вся. Знала уже ее пристрастие к одинокому хождению, вернее, бегу по лесу. «Ходко грыбы сбирает», – говорит про нее моя хозяйка. И правда, летит по лесу, километры обегает с корзиной. А порой и без корзины.
И еще – резка. Вот диалог на опушке, близ деревни. Она, Светка, с корзиной грибов; он – местный красавец, один из немногих, оставшихся в городке парней, – только вышел, корзина еще пуста.
ОН. Всё собрала?
ОНА (без улыбки). Половину.
ОН. Ну, спасибо.
– Кушай на здоровье.
– Что ж корни-то не обрезаешь?
– Ножа не взяла.
– А не боишься?
– Кого?
– А хотя б меня. Вдруг нападу.
– Я не из тех, на кого ты нападаешь.
(Бурые пятна по лицу, гордое вздергивание головы и – пошла, пошла к деревне.)
– Это почему же? Эй?!
Не удостоила.
И как могло статься, что трудный ее характер пришелся мне впору?
Однажды было так: мы шли лесной дорожкой, пробираясь в соседнюю деревню за поросятиной – там не в срок зарезали поросенка и продавали мясо. И вот нас снарядили. Дорожка была одна, не собьешься. Мы шли молча. Я была благодарна ей за это легкое молчание, за которым было полное доверие, какого не бывает в необязательной болтовне.
Ее присутствие не мешало мне думать о Тебе. Нет, не думать, конечно, все слова Твои, движенья, повороты головы, поступки – все было мною обдумано, переакцентировано, в разные годы получило разные толкования – нет, не думать, а ощущать Твое присутствие, отчего сосна переставала быть просто хвойным, то есть деревом с иголками вместо листьев, а мое желание не уронить, не убить в себе главного поддерживалось необходимостью быть достойной Тебя. Того, что мы были. Все в жизни моей освещено зеленовато и немного призрачно тем единственным нашим летом, которое всегда болит во мне.
Больно, – значит, живу.
Живу и приникаю к удивительной древесной коре, на которой оставили чуть заметный след беличьи коготки; и следую движению травы, колеблемой ветром; живу и люблю тех, кого люблю, и дорожу теми крупицами доброты и привязанности, которые получаю как дар, дающийся даром; живу и радостно слышу Тебя во всей той гармонии, которая остается еще, несмотря, вопреки колючей проволоке и надолбам, выращенным на месте изведенных лесов и полей Земли.
Так вот, мы шли со Светланой по лесной дорожке, свободно думая каждая о своем. И где-то, вероятно, круги и полукружья наших мыслей совместились, потому что она вдруг повернулась ко мне и сказала:
– Он говорит, что наше подсознание в конечном счете включается в движение природы, космоса, всей Вселенной. Что древние это знали, и карта гороскопа, которую чертили они, по существу – карта нашего душевного бытия. Только я не очень поняла.
– Кто это он?
– Тут есть один… вроде бы старик. То есть не старик… Ну, как сказать?
Лицо ее, как всегда при волнении, покрылось пятнами. Она остановилась, помолчала, потом выпалила:
– Зияешь, к черту мясо. Хочешь – пойдем?!
И свернула с тропы, и побежала через малинник, потом через просвеченный солнцем березовый лес, дальше, дальше, не оглядываясь, уверенная, что я не отстану.
Это был странный бег наш – бег ветра вдоль листьев и веток, вдоль птичьих гнезд и лосиных мет; бег волка по следу, не оставленному на земле, а ловимому по воздуху; это было прекрасное превращение наше во что-то лесное, зеленое, вольное – с ветвями, рогами, перьями, шерстью, падающей на глаза.
– Стоп! – прошептала Светка.
Ее остановило не болото, кочковатое и мокрое, в которое мы влетели с размаху, а странный медленный звук, прошедший над лесом.
Это было бы похоже на простое человеческое «Ау!», если бы не звериная гортанная основа, постановка голоса, что ли.
– Это он. Для меня.
Мы еще постояли. Звук не повторился. Светка округло махнула рукой, и мы поскакали по кочкам.
– Не промахнись, – крикнула она шепотом. – След в след иди.
Тропы не было, но она была. Светка, может, чуяла ее, а вернее – знала. Кругом чернели бочаги и трясины, а мы едва замочили туфли. И вот уже сухая поляна и дальше – густой молодой сосняк, где земля пружинила от лежащей слоями хвои.
Светлана протянула руку, я поглядела в направлении ее руки. Там что-то прянично желтело.
Между деревьев, не потревожив их, был втиснут бревенчатый сруб, крытый щепой. Он ничего не нарушал, вписывался свободно. Тропы к нему не было.
В открытое окно я на миг увидала молодое темноглазое и узкое мужское лицо. Потом оно отошло в тень, как мне показалось, намеренно.
Мы не шелохнулись.
Вскоре дверь растворилась, и на пороге остановился высокий худой человек. Седоватая борода его прикрывала все лицо, прямая спина, казалось, вступала в противоречие с палкой, которую он держал. Тот, что в окне, был безбородый. О ком же из них говорила Светка?
– Погоди, леснушка, – сказал человек Светлане вместо приветствия. – А это кто?
Я не понимала, что она может ответить. Но она сказала твердо:
– Это мой друг.
Не «подруга», а «друг». И я, может, впервые ощутила эту твердую границу. Бывают подруги, а бывают друзья.
Человек легко сошел на землю, протянул нам навстречу худые, без морщин руки, и мы пожали каждая по руке. Он был какой-то не старик, хотя и – седая борода. А волосы были бриты наголо. Он пробурчал что-то вроде:
– Рад, рад… – Глаза его переходили с одной на другую, и в них, черных, молодых, светился ум пополам с сумасшедшинкой. – Садитесь, – пригласил он.
Мы сели между сосной и домом, и он опустился рядом в своей очень старой, обтрепанной и выцветшей одежде. Я думала, что от него должно пахнуть залежалым, но ошиблась. Он был опрятен. Опрятен, как лесной зверь. И смотрел, любопытствуя и удивляясь. Потом сказал:
– Все не так просто. Я ведь не сразу решился на это. – И развел руки, будто охватывая поляны, болота, лес. – Если ты родился от человека и тебя воспитала волчица, ты останешься зверем. Если ты воспитан людьми и уходишь от них, путь к зверю закрыт. Ты человек. Тебя тяготят их, твои, наши общиезаботы. Ты ощущаешь вину, что живешь счастливее их, выше их, в гармонии и тишине.
Он задумался, будто ушел.
– А чувство вины разве не нарушает гармонии? – спросила я.
– А? – вернулся он. – Вина? Конечно, нарушает. Но я знаю, что Я, лично Я, хочу быть лучше себя. И знаю, что это хорошо. Но навязать этого другим не могу, потому что не хочу. Не навяжи птице скворечника, зверю вольера, пусть даже теплого; ближнему своему не навяжи верования. – Он опять помолчал и потом добавил: – Потому что мы знаем, во что это все обращается.
– Так что же, разброд? – спросила я.
– Нет, терпимость.
– Ко всему?
– О, нет. – Он немного рассердился. – Мы перешли на язык элементарный. Воспитать терпимость– вот что я предлагаю. Это труднее, чем что бы то ни было. Человечество не тренировано в этом направлении. Гармония мира всегда удивляла его, но не увлекала, – вот ведь чудо!
Он резко обернулся, и я заметила – ясно, – что борода, покрывавшая лицо, не последовала за этим движением. И то молодое, черноглазое, что увиделось в окне, осталось открытым во всей своей человечности. Меня и это не удивило. Почему бы нет? Если уж существует Мастер Масок…
Темнело. Мы со Светланой молча топали по игольчатой, пружинящей земле.
Я не философ и не мудрец. Потому, вероятно, не оценила в должной мере Мастера Масок, который простучал тросточкой вдоль всей моей жизни неумолимо, как время; который так удачно перелепил мой нос (если только все это мне не попритчилось). А Светке вот помочь отказался (а она просила, сама призналась мне) и оставил ее с этими пятнами, выдающими нутро.
Почему?
– Тебе не надо. Нет, нет, не надо.
Может, он и знал.
Я не философ и не мудрец. И много больше, чем все теории, мне интересна, к примеру, Светлана с ее пятнами и нелепыми выходками, потому что увлечение этим лесным философом, конечно, выходка.
– Если бы он предложил мне войти в свой дом, – сказала Светлана. Она стояла среди молодых сосен, красных, будто закат содрал с них кожу. – Если бы он… вот тут я бросила бы все городские блага. Помнишь наш разговор на берегу? – Губы ее были сжаты, глаза темны.
– У вас народятся волчата, – засмеялась я.
– Да! – вдруг щедро улыбнулась Светка. – Волчата с идеей терпимости в крови.
Мы рассмеялись и побежали по невидимой, одной ей известной лесной тропе.
Однажды Светлана спросила:
– Ты давно не была в Городе? (Она говорила о нашем с Тобой городе, который потом поглотил Тебя.)
– Довольно давно. А что?
– Я тут ездила насчет пенсии – маме дали пенсию – и прямо ахнула: он весь покрылся какими-то странными скульптурами.
Я почувствовала знакомое сдавливание в горле. Светлана сразу заметила.
– Что с тобой?
– Ничего. Посидим давай.
Мы сели на лавочку возле Светкиного дома. От скамьи шла дорожка к соседнему дому, протоптанная в траве, где желтели одуванчики. И эта трава, и одуванчики – все вдруг включилось, вписалось в мою внезапную и острую тоску.
– Меня даже познакомили со скульптором. – Светки, рассмеялась, вспоминая что-то.
– Ты чего?
– Честно?
– Да.
– Я в него чуть не влюбилась. Ведь это у меня быстро.
– Разве? – спросила я, чтобы немного отдышаться.
– Конечно. Я даже в папиного приятеля была тайно влюблена. Помнишь, приходил к нам – в светло-сером костюме? Знаешь, как он пел! Больше уж не поет.
– Умер?
– Нет. Отец обошел его в этих бегах, и тот, говорят, не поднялся.
И начала дурачиться. Она любила дурачиться и умела придумывать всякую нелепицу.
– Представь, – говорила Светка, – ведь этот человек одно время в своем заведении почти богом работал. Такой был величественный, как продавщица в галантерейном магазине. Я, бывало, с матерью зайду к нему – девчонка совсем, а у него там посетители, посетители. Одна старушка просит:
– Мне бы внимания от дочери.
ОН. Сколько?
– 28.
ОН. Чего?
– Лет, лет ей 28.
– При чем тут лет. Денег сколько хотите?
– Что вы. Мне бы ласки. Ну, как матери, инвалиду труда.
ОН. Пишите заявление. Обеспечим.
Или студент пришел:
– Я против равнодушия. Это же безобразие, сколько развелось равнодушия!
А наш красавец сразу:
– Заявление есть? С фактами? Хорошо.
И – резолюцию: «В участии отказать».
Тогда бедняга – хоть что-нибудь выпросить: «Дайте, – говорит, – ордерок на любовь».
Но тут появляется книга такая – гроссбух. «Фамилия», – спрашивает. «Имя и отчество. Та-ак… Что же вы, студент такой-то. В прошлом году отоварены были. Нет, нет, каждый год не можем».
А старик кошку просил оставить (соседи донимали) – это он разрешил. Так и написал: «Разрешить кошку, но ограничить. В собаке отказать». Хотя старик о собаке и не заикался.
Мы посмеялись. Стало легче. Теперь можно спросить.
– Свет, ты начала про скульптора.
– Да, собственно, говорить нечего. Ужасно он мне понравился, поэтому я сразу нагрубила.
– Как?
– Не помню точно. Мы встретились у бывшего папиного сослуживца. Помнишь, я рассказывала: смуглый, он еще на отцовском чествовании мне приглянулся. А теперь он в этом городе работает. Важный тоже стал. Лицо неподвижное. И этот скульптор – его зовут, между прочим, Юлий – тоже зашел к нему. И что у них общего? И вдруг среди разговора предложил вылепить меня. У него взгляд пристальный, ласковый, и я как-то не так расценила. Хотя он мне и понравился. То есть потому меня и обидел такой оценивающий взгляд, что понравился. И я ответила: лучше пусть меня высекут на камне.
Он засмеялся и сказал:
– Стоило бы высечь! – И откланялся. И глаза сразу другие, без всякого интереса ко мне с моим хамством. Мне бы извиниться, да ведь русский человек задним умом крепок. А он точно отщелкнул меня – вежливо, мягко, но насовсем.
Во мне болело, ныло, стоном стонало каждое ее слово. Понравилась она ему или – интерес художника? Наверное, понравилась, иначе не обиделся бы так быстро. Неужели это возможно? А почему нет?! И как все похоже на него!
Когда боль поостыла, я услыхала Светкины слова. Она собиралась поехать в город.
– Мне нужно там кое-что купить для мамы. Но если не хочешь, не езди, я, пожалуй, и одна справлюсь.
И мы поехали.
Вез нас красавец парень, с которым тогда Светка встретилась в лесу. Он, оказалось, прораб большой торфяной разработки, и у него в распоряжении смешной «бьюик» под брезентом. Машину он вел молча, не оглядываясь на нас, а уши его пылали, выдавая самолюбивое волнение.
– Как звать нашего шефа? – спросила я громко.
Светка пожала плечом.
– Его звать Петя, – ответил парень. – И он не берет чаевых.
Светка улыбнулась. Не знаю, увидел ли он в шоферское зеркальце.
– А как он думает, – опять спросила я. – Мы скоро доберемся до Города?
– Он постарается, – пробурчал Петя. – Он должен еще вернуться и поработать хоть часок. – И добавил, подумав: – Он довольно серьезный человек.
А мимо шли леса.
Автомобиль наш обгонял рабочих в телогрейках, иногда – женщин с мешками и ребятишек, которые непременно поднимали руки.
Вот мелькнул старик без поклажи. В руке – палка широкая и вверху с узором (уж не открытая ли львиная пасть?). И не зря вспомнила эту львиную голову, потому что городской крой костюма, полусапожки с ушками, шаркающая походка – все было знакомо. Петя притормозил.
– Садись, дедушка.
– Мне недалеко. Дотопаю.
– Ну, как знаешь.
За мутной оконной слюдой не разглядеть лица. Мы обе приникли к окошку.
Светка сжала мою руку.
– Не может быть, – прошипела я.
– Точно, Аня.
– Просто похож?
Что он мог делать здесь, такой похожий? Надо было крикнуть ему: «Авалала-карала!» Или про сварогов и чернобогов. Я вспомнила, как он обронил шоколадку и после поил меня чаем. Я ведь думала, он и правда ее потерял. Чепуха! Подбросил, конечно. Тоже не без хитрости, но мил. Мил! Только зря он так – по всем дорогам. Сидел бы возле своего шкафа. Или любопытствует поглядеть на дело рук своих?
А мимо шли леса.
– Ты этим путем ехала? – спросила я Светку.
– Другого вроде бы нет, – ответила она.
– Лесами здесь не пройдешь, – пояснил Петя. – Заболочено.
– А я вышла прямо в лес недалеко от нашей речки и от моста, – сказала я.
– Откуда вышла?
– Я покажу тебе. Это в Городе. Светка удивленно покосилась.
– Здесь такая охота! – заговорил Петя. – Медведи есть. А рыбы!..
Мимо шли леса.
Они шли долго, пока вдали не мелькнул белый дом с балкончиками и серый куличик помойки. Потом еще белый дом с балкончиками и помойкой…
Неужели здесь я бывала в той, имени Тебя, жизни? Не я – Мы. Мы здесь ходили!
– Ну вот ваш Город. Когда заехать-то? Завтра?
Петя остановил машину, мы попрощались, условились, где завтра встретимся.
– Взберемся сюда, – предложила Светлана. Мы влезли на поросший травой холмик и оттуда начали глядеть. Теперь этот город надо было глядеть сверху. (Лучше – с вертолета, чуть выше уровня крыш.) Его надо было обозревать. Странные, вытянутые, высоко поднятые фигуры, черные на серо-голубом, почти не касаясь черных постаментов, легко парили над городом, стремясь к его центру. Они бежали к пожарной каланче. К той, нашей с Тобой каланче! Они не попирали домов и парков, не довлели, но и не соединялись с городом. Город говорил свое, а они – свое. Не знаю, красиво ли это, вежливо ли, можно ли так. Но это было удивительно.
– Сюда будут съезжаться иностранцы, – сказала Светка.
Черные фигуры, издали похожие на огромные флюгера, приближались. Мы подходили к одной, к другой… Я их знала. Узнавала. Это – Бегущий Человек. Это – Птица. А это…
– Аня, это же ты! Как похоже!
– Разве?
Светлана покосилась на меня, но вопроса так и не задала, умница.
Я стояла напротив девчонки, той самой, которая, торопясь к Тебе, чуть не наступила на голубя. Неужели это я? Неужели я могла так бежать, так радоваться?! А как же! Разве теперь не побежала бы, если б ждали Твои глаза, Твои руки. Если б ждали.
Но, вероятно, именно теперь и не нужно было этого. Потому что мы встретились.
Встреча состоялась. Состоялась иначе, может быть, даже выше. Все не просто так. Ты хотел, чтоб я увидела это. Не зря же бегущая девчонка – возле пожарной каланчи, в центре городка, из которого, как мне казалось, я вышла. На той зеленой площадке, где прежде будто для нашего веселья белели куры, теперь были посажены кусты – диковатые, колючие, и среди них прямо без ограды – полевые цветы: клевер, ромашка, колокольчики. Разве что-нибудь уходит совсем?
Это была Твоя тоска. Твой рывок. Твой посыл мне – Юльке от Юлия. Издалека, Как с другой планеты. Монументальная телеграмма, остановившаяся во времени.
Все помню. Все живо. Только перешло, перелилось в иную форму.
Город говорил о своем: о давности, о наших неторопливых предках, сажавших картошку и украшавших жилища деревянной резьбой.
О вере, из которой выросли короткие, как куличи, и наивные, как грибы, белые церковушки с крохотными окошечками и широкими, не золотыми, нет – зелёными или сероватыми куполами.
И о новом, идущем с окраин и уверенно заявляющем о себе. А ещё город говорил о нас – о Тебе и обо мне и о том вечном, что не уходит просто так.
Не было тут противоречия. Они не вносили дисгармонии, эти скульптуры. (Мне поначалу показалось – и зря.) Они только чуть дополнили на свой лад, внесли лепту еще и этогодоброго чувства. И впервые, может быть, я поняла, что не прихоть, не тщеславие, не обстоятельства разметали нас – Тебя и меня, а Твое желание сказаться. Нет, не желание – необходимость – насущная, больная, кричащая. Ощущение приближения родов.
В психологии творчества есть понятие – рембрандтизм, основанное на легенде, будто Рембрандт писал свою горячо любимую жену Саскию в то время, когда она умирала. Умирала у него на глазах. А любящие, но увлеченные творчеством глаза не видели этого. Одержимость художника, изобретателя, созидателя… А может ли быть иначе? Не этим ли движим мир?
И последняя, точащая капля несправедливости (Твоей ко мне) остановилась на полпути. Так в музыке бывает вдруг спокойное разрешение диссонанса. Глубокий вдох и ровный выдох.
И тут вдруг оказалось, что Тебя нет.
Я обо всем узнала от Светланы. Не помню, говорила ли, что она собиралась найти Тебя. Найти и извиниться. А может, она затеяла все это ради меня? Где ей знать, что не все подвластно нашей доброй воле?! Так или иначе, но она отправилась: сказано – сделано. Пошла к тому светлоглазому, смуглому, у которого встретилась с Тобой. Это он, как я теперь понимаю, соблазнил Тебя тогда грандиозностью работ. И не обманул, выполнил.
Я ждала Светлану в гостинице. Это была та же гостиница, и по странному стечению обстоятельств нам дали тот, мой номер.
В комнате с белой кисеей на окнах, а по краям – полосатыми шелковыми шторами – устойчивый запах сухарей, матрацных опилок, а может, крахмала от белья. Как всегда в гостинице. За окном сквозь ажурную занавеску знакомые домишки кивнули широкоглазыми окнами. Внизу захламленный ящиками двор – сюда выходила гостиничная столовка, называемая рестораном, – маленькая, уютная, темноватая и очень приветливая. Мы с Тобой почти никогда не успевали поужинать там – закрывалась рано. И, как в тот раз, со двора пахло свежими огурцами. Я тогда все это пропускала мимо, но оказалось, что оно впечаталось где-то глубоко и теперь шевельнулось, закопошилось.
Бывшая своя кровать, бывшая своя гостиница, бывший свой город… Я обняла все это, и оно билось, пульсировало под руками и болело, болело.
Я вышла на крылечко, потом – на деревянный помост тротуара.
Милый, несуразный, неповторимый город – деревянный центр, белоблочные окраины! Проросшая травой и кустарником полярная каланча, с которой давно уже никто не смотрит (есть телефоны); запах печеного хлеба; кружево наличников…
– Аня!
Я оглянулась. Светка была очень взволнованна.
– Странная история. Знаешь, Юлий пропал.
– Уехал?
– Нет. Вчера вечером был у этого моего знакомого, утром должен был зайти снова.
– Проспал, наверное.
– Подожди. Тут посложнее. Дело в том, что город будут сносить.
– Как – сносить?
– Не весь, но почти. И надо было решать со скульптурами. Он, говорят, очень волновался. И вдруг – не пришел. Он не мог не прийти, понимаешь? Это даже они усекли. Послали за ним – не нашли.
– Может, уехал?
– Поезда вечернего нет. И автобуса нет. Машины все на месте. Не на чем. Спросили всех, с кем он общался, – никто не видел.
Я оперлась рукой о стену гостиницы (нет, не мне разыскивать, но – как же так?) и отдернула руку, как от горячего: на белой штукатуренной стене как раз под пальцами чернели три линии незавершенной геометрической фигуры.








