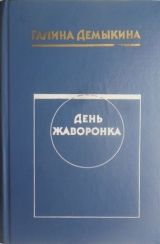
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Глава III
Я никогда бы не решилась заговорить о Сидорове, если бы не имела счастья наблюдать его юность. Возрастание. А возрастал он в проходной комнате с камином, морщась от несвоевременных проходов бывшей владелицы наших домов и этой вот каминной. Она тоже краснела: «Ах, простите, опять я!..»
Вторая, запроходная комната, в которой жила эта нелепая женщина, была маленькой и, главное, сырой. Под ней прежде, говорят, плескалось озерцо с окунями, ещё до постройки дома (до нашей эры).
Бывшую владелицу – я уже говорила – звали Светлана Викторовна, и она, хотя и старая, носила кружевные платья с вырезом на спине. Она зазывала меня к себе и давала листать старинные журналы. Их гладкая бумага хранила запах духов и хорошего табака.
– Светлана Викторовна, вы…
– О, милое дитя! А твоя подруга Надя зовет меня – «тетенька». «Тетенька, дай вон ту игрушку». А это статуэтка из кости. Очень дорогая. Память о покойном брате. И потом я не люблю попрошайничества.
Паркет в ее комнате был натерт, по стенам висело множество картин в рамах.
– Подлинники, – говорила она важно. Потом махала рукой: – Ты не поймешь.
Я и правда не понимала.
Она ждала мужа. Он пропал на гражданской, но все разложенные ею пасьянсы сходились, и она даже сказала однажды Степе Сидорову, стиравшему возле окна носки:
– Когда вернется мой Леонид, вам, любезный, придется искать другую комнату. Вы, я надеюсь, это понимаете?
– Никогда он, бабка, не вернется, – ласково ответил Степа. – И не таких врагов крушили наши отцы. – Потом добавил: – И деды.
Это я сама слышала, потому что шла следом за Светланой Викторовной через Степанову каминную (камин, правда, он заставил верстаком), и подивилась Степиной прямоте и ласковому голосу. А Светлана Викторовна заплакала и сказала:
– Злой вы, злой, где ваше сердце?
– Сердце – не вместилище чувств и воздыханий, – так же ласково возразил Степан, нюхая хорошо простиранный носок и выплескивая воду за окно. – Вы, бабушка, анатомии не изучали, хотя из имущего класса. Ленились.
Теперь я скажу о его комнате. В ней было чисто. Пол он мыл лично. Лоскутную дорожку вытряхивал тоже сам. Он часто стирал. И никогда не гладил.
Лишней мебели не было: железная кровать, полка с несколькими книжками, стол с тумбочкой и верстак, о котором шла уже речь. Инструменты – в ящике, носильные вещи – две пары брюк, рубашки и чистые носки – сосредоточивались на спинке стула.
И сам был аккуратный весь, причесанный, мытый, босые ноги беленькие, как у девочки. И короткопалые руки тоже белые. Я думаю, верстак был символом. Всего лишь символом. Но это было нужно. Необходимо. Иначе помогло быть. Человек этот жил не только для себя. Он создавал некий образ. Сидоров в то время еще примеривался. И промахи совершал. Тогда. На первом, так сказать, этапе. Например – формулировал. Он имел к этому вкус. Но многое к тому времени было уже сформулировано, и он – не нарочно, разумеется, – просто по молодости и от излишка ражу входил в противоречия. Или вроде бы уточнял, что тоже было ни к чему. Потом он исчез. Но ненадолго. Когда снова появился, я уже ходила в школу, в четвертый класс. А бывшая владелица Светлана Викторовна болела. Она уже не ждала мужа, не натирала паркет, а платье купила в магазине, по ордеру. Но и в нем выглядела не так, как надо. Бывшая. Не скроешь.
Со мной Степа Сидоров поздоровался за руку и на «вы», не очень даже наклоняясь, потому что я была девочка рослая, а он немного потерял в росте за эти годы.
– Здравствуйте, Аня. Как ваши успехи в школе? Заходите, побеседуем.
Я, конечно, зашла.
Мы побеседовали о равенстве.
– Все равны, – сказал Сидоров и растянул нижнюю губу. Это было новое мимическое движение, собиравшее «кладки возле рта и делавшее лицо волевым. Ничуть это движение не было похоже на улыбку. – Все равны, но не все одинаковы. С этим придется считаться.
Я не поняла, но не решилась спросить. То есть я подозревала иной, больший смысл за сказанным, потому что сама мысль казалась слишком очевидной.
– Я имею ряд идей. Вполне реальных. Вот они, в тетрадке. – Тетрадь была в клеенчатой обложке, толстая и исписанная на одну треть. – Можете ознакомиться. Хотя, вероятно, вам ещё рано. Я бы хотел взять несколько уроков по литературе у вашей мамы. Прошу быть моим ходатаем.
И он пришел к нам. О, как описать этот день, когда он, в своей чисто стиранной и наглаженной белой рубахе, с книгами под мышкой, явился в наш дом! Он был обычен. Он так хотел. Он нарочно пригнул, притушил свою незаурядную сущность, потому что ему предстояло учиться, а не учить.
Он пришел и сказал открыто:
– Я уважаю ваши глубокие знания, Татьяна Николаевна, и хотел бы позаимствовать. – Потом добавил скромно: – Хотя бы часть.
Мама надела пенсне и поглядела в учебник для восьмых классов, подозревая, что дальше его систематические познания о области далеких от жизни гуманитарных наук не простираются.
– Что именно вы хотели бы позаимствовать, Степа?
Она сказала, как взрослые ребенку и вместе – с усмешкой на его неловкие слова, которой не позволила бы себе с детьми. Так что отношения заколебались.
– У меня, в сущности, есть несколько вопросов, которые я хотел бы решить. Вот по такой программе.
Он достал из нагрудного кармана аккуратно сложенный листок, развернул и отдал.
Мама стала читать, кивая головой.
– Ну что ж. Ясно. Но вы выпускаете Пушкина, забыв, что общественная мысль не только не чужда ему…
– Простите, но он был слишком непоследователен. Помните, в стихах:
Дней Александровых прекрасное начало —
это о царе. И тут же:
Вот бука, бука – русский цари.
А то еще:
Паситесь, мирные пароды!
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы —
Их должно резать или стричь.
О народе, а? С высокомерием!
– С болью, – возразила мама.
– Э, какая разница? Сплошные метания. А мне не нужны поиски. Мне нужны находки.
– Тогда зачем же вам…
– Литература? Исключительно для точного построения. В «Истории философии», год издания 1915-й, страница 81-я…
Мама улыбнулась но без нежности: давай, давай, наверстывай.
И зря она так снисходительно подумала. Он был набит знаниями, он трещал от них, как спелый арбуз! С его-то неотягощенной памятью! О, какими напряженными становились его узкие глаза в споре, в движении за мыслью: понять! узнать! схватить! Как упорно учился он, как глубоко копал!
– У меня, пожалуй, не было ни одного такого студента! – удивлялась и восхищалась мама.
– Спасибо, вы мне оказали большую услугу, – сказал Степан по окончании курса, не без облегчения пряча в тот же стираный карман не взятые мамой деньги. – Я постараюсь быть вам полезным.
– О, не надо, – улыбнулась мама. – Мне было интересно поближе узнать вас, Стена. Заходите просто так.
– Зайду.
Я завороженно глядела в его широкую, обтянутую белым полотном спину. Над ней, на короткой шее, с достоинством возвышалась эта круглая, шишковатая голова, которая внушала мне страх, похожий на религиозный. Он уходил, чтобы запросто прийти еще. Это было далекое, библейское время, когда отечество (я имею в виду наш двор!) еще не верило в пророков своих.
Однажды под вечер Надька вызвала меня на черный ход – постоянное место наших совещаний.
– Сегодня заседание правления, – сказала она. – Буржуйку старую гнать из дома будут.
– Какую буржуйку?
– Ну Светлану эту, ну Викторовну.
– А… А что это – «заседание»?
– Хм! Как с луны все равно! Засядут у Наськи на кухне – вот и заседание. Темная ты!
– А кто засядет-то?
– Сидоров, Столкни отец, – председатель. Наська. Да много кто. И твой отец тоже. Он все бумаги пишет!
– Откуда ты знаешь, что выгонят?
– Наська приходила. Бабушке водки дала, а мне конфету. Вот – бумажка.
А Светлана Викторовна ничего еще не знала. Она только приехала из больницы – ей там вынули глаз. Степина мать привезла ее. Она вообще помогала Светлане Викторовне, стирала ей, мыла пол и получала за работу всякие нелепости: то перчатки без пальцев – митенки какие-то для бальных танцев, то пальтишко без рукавов. Нет, не то чтобы выпороты рукава, а внакидку его носят, так сделано.
– Дура, – сказал ей как-то Стенай. Это я сама слышала. – Дура, и все. На черта тебе эти буржуйские выдрюшки?
– А красота! – ответила женщина. И глаза ее – светлые, в больших ресницах – глядели нежно.
– Носить, что ли, будешь?
– Да господь с тобой.
– Тьфу, юродивая!
Степан стеснялся ее. И что стирать ходит к чужим людям, и что детой много нарожала: у него уж к той поре трое братьев меньших вылупилось.
Я заглянула в окно. В темноватой комнате, под которой прежде было озеро, на старинном диване, сделанном углом, тихо сидела старая старуха. Так мне показалось. Потом я поняла – это из-за волос. Волосы у Светланы Викторовны стали белые. Вот оно что! Поседела. А может, раньше их красила. Теперь волосы были короткие, как парик, и чуть завивались. Рядом пристроилась Степина мать – Марина Ивановна – и гладила старуху по руке.
– Входи, входи, – кивнула мне Светлана Викторовна. И оборотила ко мне свое одноглазое лицо.
Мне ничего не оставалось. И я вошла.
– Ну как я? – спросила больная. – Очень страшная? – И оставшийся выпуклый глаз заходил беспокойно. Он теперь не делал лица. Он жил сам по себе – тревожной, загнанной жизнью. А на месте второго была яма и смеженные веки.
– Страшная, да?
– Нет, что вы! – И я покраснела.
– Что ты, милая. – мягко запела Марина Ивановна, Стёпина мать. – Что ты, страдалица, об чем думаешь. Повязочку перекинешь через лицо, и все. А волосы-то, волосы красоты какой!
– Я их подсиню, – отозвалась Светлана Викторовна пободрее, а глаз бродил по нашим лицам, моляще и беспомощно. – Не узнает меня Леонид, как вернется. Хотя, впрочем… – и махнула рукой. – Вот ведь, а? Сколько лет прошло…
«Зачем такой старой жить?» – думала я.
– А на заседание правления этого ты, милая, сходи, – сказала вдруг Марина Ивановна и заспешила. – Сходи, не гордись. Кто за тебя постоит, ежели не сама?
Я тоже поднялась и пошла за. Мариной Ивановной через Степину пустую комнату. По дороге женщина сняла со стула белую рубаху:
– Постираю. Не велит, а ведь занят как, занят как!
Вечером, когда совсем стемнело, мы трое – Надька, Юрочка и я – топтались на снегу под Настиным окном. Нам было плохо слышно, что говорил Сидоров-старший. Только изредка долетало особенно громкое:
– Должны избавляться… – и что-то еще. И усы топорщились на смуглом лице, и посверкивали лихорадочно глаза.
Светлана Викторовна сидела у того края стола, где никого не было. Водила глазом за говорящими. Будто и не понимала совсем. И вдруг стало слышно.
– Хватит ей кровь нашу пить! – закричала Настя. Она встала со стула, махнула белой полной рукой, и пучок на голове разлетелся. Рыжеватые ее, нежные волосы полились по спине и плечам.
– Человек учится, ценный человек, а покою от нее не имеет! – И она повела голубыми, потеплевшими глазами в сторону Степана.
Степан сидел тут же – гладко причесанный, прямой. В опущенных на колени руках застыла нетолстая книжка.
– Ишь, к Степке, к Степке льнет! – зашептала Надька. А Юрочка прикрыл глаза, коснулся ресницами бледных щек. Его ласковая порочная улыбка чуть развела яркие губы.
Но тут встал мой отец. Я почему-то не знала, что он маленького роста и что глаза его так узки, почти бесцветны и идут уголками вниз. А вельветовая коричневая курточка – старенькая и без пуговицы на правом рукаве. Может, поэтому он не взмахнул рукой, а, наоборот, опустил ее на крышку стола, придерживая манжет. Я поняла, что его не будет слышно совсем. Он вообще говорил тихо. Такой голос. Но глазами сердился. И губы подергивались. Я никогда не видала, как он сердится.
А Светлана Викторовна вдруг наклонила седую голову к столу и заплакала. Мы видели, как она шарит рукой по платью, ища карман. Потом нашла, вынула платок и приложила сперва к одному глазу, потом к другому. И я подумала еще – вот ведь глупость какую! – а тот глаз, которого нет, неужели он тоже плачет?
Я не знала, за кого говорил отец. И хотела знать. То есть я догадывалась, конечно, но почему же тогда она плачет?
После опять кричала Настя:
– А нам какое дело! Что он, не человек? К нему прийти никто не может.
И Сидоров-старший – моему отцу:
– Вам хорошо, у вас на человека по комнате!
И потом еще дворник Никита:
– А все ж таки… Это… Зима.
– Пошли, – сказала Надька. Она так сказала, потому что к дому ковыляла ее бабка.
– Пошли, пошли.
Но как я могла уйти, когда в этот момент там, в кухне, встал с табуретки Степан. Он заговорил негромко, но внятно:
– Прежде всего, спасибо вам, – сказал он. – Спасибо всем, кто хочет мне добра. И низкий поклон. – И он несколько театрально опустил руку и за ней корпус и голову. Потом выпрямился и чуть громче: – Но не всякую жертву можно принять. Эта женщина, – он вытянул руку в направлении Светланы Викторовны, – эта женщина ничем не обидела меня. Она сама, можно сказать, обижена ходом исторических событий, которые развиваются не в со пользу. Так могу ли я лишить ее последнего прибежища, этой сырой комнаты, где она, может быть, родилась и выросла?!
Светлана Викторовна растроганно рыдала. Сидоров-старший качал головой неодобрительно. Настя изумленно охнула. Мой отец потянулся через стол пожать руку Степану.
В это время на меня наткнулась (я бы сказала, споткнулась об меня!) Надькина бабка. Я в ужасе отскочила от нее.
– Побежали в нашдом! – потянула меня Надька.
Мы пошли в угол двора. Там стоял ледяной дом, мы сами сделали его из вырубленных и политых водой снежных глыб. В темноте он был холоден и жутковат.
– Можно было бы ей отдать, – сказала Надька, – буржуйке.
– Ну, прямо, – отозвался Юрочка. – Может, еще Черный придет. – Он говорил о псе, которого мы поселили было в этом доме. Кормили его, гладили по черным худым бокам. А он взял и ушел, глупый. И мы теперь стали думать-гадать, куда он подался.
– Кто-нибудь взял в квартиру, – солидно сказал Юрочка и тем закончил наш спор.
А тут из Настиной кухни пошли-повалили люди – черные в четырехугольном просвете двери. Мы трое выбежали навстречу старшим. Папа сжал мою захолодавшую ладонь своими теплыми пальцами, и мы пошли.
Мама открыла сразу. Она, видно, собралась спать, да так и не легла: волосы были заплетены в толстую косу, из-под халата – длинная ночная рубашка. Сразу спросила тревожно:
– Ну что?
И отец:
– Оставили. Но послушай, Танюша, – И он отвел маму на кухню. И зашептал. И вдруг оттуда:
– Не может быть! Почему? При чем тут мы?
И быстрый мамин бег в комнату, отчаянный плач.
На другое утро в одну из наших трех комнат въехал Сидоров-младший.
И зря мама плакала. Он был тихий и вежливый. И я могла теперь смотреть завороженно на весь объем его работ и жизни.
Вошел он боком, точь-в-точь как его мамаша. В руках нес, как она же, белый узелок. С ушками. Он, вероятно, боялся скандала. Но когда увидел мою маму – она подчеркнуто строго, по-выходному, оделась и стояла так у керосинки (газа-то еще не было, другая эпоха), – когда он увидел маму, враз приободрился и высоко поднял молодую и умную голову.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, Степа.
Он сглотнул. Нижняя губа его плоско растянулась. Он, видно, хотел сформулировать. Я уже говорила, это была его слабость. Но мама опередила:
– Я освободила вам Анину комнату.
– Спасибо, – он не опустил головы, хотя и хотел, хотел. И снова растянул губу. Потом развел руки и пожал плечами: – Воля масс.
Мама улыбнулась.
– Я постараюсь не мешать вам, Татьяна Николаевна. И даже быть полезным. Мы создадим хороший коллектив.
– Ну, идите тогда завтракать, – еще как-то непроще улыбнулась мама. И ждала. Ему хотелось этой легкости, простоты – а что? чем мы хуже? – но не мог. Не мог. И уклонился. Что-то вроде: «Спасибо, у меня все есть». Да, да, что-то в этом роде.
Лично я была рада, что – Степан. А он смущен. И так был смущён до самой своей женитьбы. Жену он привел тощенькую, с растрепанными завитыми волосами и серым лицом. По имени Катя. Она ходила, стараясь держать пятки вместе, носки врозь.
– Так интеллигентные ходят, – призналась она моей маме. Тянуло, значит, ее. Почему-то. Книжки тоже читала. Тихая. Скоро еще оказалось – с голосом. Сильный такой голос! И без слуха. Арии любила петь. И где их доставала?
Я бэззаботна,
Я ша-аловлива,
Мэня рэбенком все зовут!
Пела она на свой лад. Все пела на свой лад. И жарила картошку на рыбьем жире. Время было такое – небогатое. А Степан учился. При нем она не пела. Он велел снимать туфли, чтобы не стучала каблуками. Это уж для нас. Он, может, и не ведал про ее удивительный голос?! Иначе какие уж тут каблуки. А она томилась. Плакала. А еще он читал ей по вечерам что-то из истории общественных наук.
Однажды она сказала моей маме:
– Уйду я, Татьяна Николаевна. С моим голосом я нигде не пропаду. – И мне почудилась в ее словах уже знакомая мне логика: одно время жила у нас горбатенькая длинноносая такая няня Вера. Она была, как я теперь понимаю, сравнительно молода – лет 26–27. Она говорила: «Я сама некрасивая, так пусть хоть муж будет красивый». Это всегда вселяло в меня оптимизм. И я подумала, что они похожи – няня Вера и эта вот Катя. И внешне похожи (серолицые, носатые), и внутренне. Я проделала тогда первый опыт из серии этих опытов. И он, как и все последующие, подтвердил мои домыслы насчет колодки. Что есть люди с одной колодки.
А какой опыт? Да вот он, элементарный (ведь мне было лет 12, не больше).
Я в свое время спрашивала няню Веру:
– Какие песни самые лучшие? (Она тоже любила петь.)
– Вкраиньски. А то ж яки? – отвечала она. Она была с Украины. Кате я задала тот же вопрос.
– Какие я пою. А то какие же еще? – ответила Катя.
Или я ей, как в свое время няне Вере, рассказывала секрет и просила не говорить маме. Уже к вечеру мама знала все.
Новая игра увлекла меня до самой макушки! Я про себя строила сложные диалоги с Катей, а потом проверяла на ней. Ответы расходились редко.
«Вот так да! – радовалась я в великой наивности. – Ведь так можно управлять человеком! Изучить его соколодника (с одной колодки который), вот как я: изучила няню Веру и теперь все знаю про Катю…»
Но тут Катя уехала. Взяла свои вещи и все кастрюли, потому что купила их сама, и – нет ее. Канула. Степа огорчился. Он сказал:
– Это плохо отразится на моей работе. Я как раз заканчиваю. Не могла подождать!
Но она, как видно, не могла.
Однажды в дверь постучали тихо, но слышно, и я открыла. Человек в светло-сером костюме отодвинул меня и потом уже спросил тоже тихо и тоже очень слышно:
– Сидорова дверь где?
Я показала.
Какой знакомый голос…
Он и за дверью звучал внятно. Только я не сразу уловила, о чем, – пока входную дверь за ним заперла, пока что…
– Да, да, Степан, – слышалось из комнаты. – Надо. Понимаешь? Надо. Ты же грамотный. Человек этот устарел, он мешает поступательному движению вперед. И потом – ты ведь правду скажешь. Не выдумку какую.
– Мелковато, – вздохнул Степан.
– Ерунда. Подумай, Степа. Надо же с чего-то начинать. Не век тебе в чудаках ходить. И опять-таки положение другое займешь.
– Это меня не интересует.
– Как? Жена есть? И оклад нужен, и должность.
– Знаешь, я хочу созидать. А оклад, черт с ним.
– Вот и созидай. Полный тебе простор. Да кто препятствия-то чинить станет?! Ведь только он помеха!
– И потом, – упорствовал Степа, – мне не хочется с этим стариком Сарматовым иметь дело.
– И не надо.
– Но тебе-то пришлось.
– Мне пришлось, а ты можешь избежать. Не со всеми же так.
Наступила пауза.
– Преступный хитрец Талейран, – скрипуче начал Степа. Он всегда немного скрипел голосом, когда хотел сказать что-нибудь важное. – Преступный хитрец говорил (цитирую, прошу простить, неточно): никогда не следуйте первому движению души, потому что оно почти всегда хорошее.
– Ох, Степа, с твоей-то головой! – вздохнул гость. Потом хохотнул догадливо: – Первое твое движение было – отказаться. А?
– Да, – решительно отрубил Степан.
– Ну, значит, все в порядке. Нас не могут подслушивать?
Я кинулась из коридора в кухню, зацепилась за порог и грохнулась. Стопина дверь открылась, и вышел в светло-сером.
– Что с тобой? – спросил он и наклонился. Я увидела вздернутые уголки губ – вроде бы улыбка – и совершенно отдельные от лица, бледные, беспощадные глаза. Я быстро встала. Он не успел поднять за мной глаз, и тогда выделились веки – желтые, морщинистые, и от них – живых – лицо стало еще замороженней и неподвижней. Во рту у меня возник вкус чая с лимонной кислотой. И я зажала рот руками, чтобы не закричать.
– Старайся держаться на ногах, – не меняясь в лицо, сказал в Светло-сером. – Кто падает, тот последний человек. – И близко к моим глазам: – Поняла? И улыбайся. Ну?! Надо уметь улыбаться.
– Это хорошая девочка, – услышала я голос Степана. Степа Сидоров (неужели это возможно?!) пришел мне на помощь.
Человек резко повернулся, подал Степану руку и ушел.
– Да, мой младший друг, – сказал мне Сидоров. – Действительно с чего-то надо начинать. Лучше не с этого. Но если я откажусь, я не начну никогда.
– Что? – переспросила я.
– А так. Разговор с самим собой. А ты – просто как статист (он теперь по-соседски перемежал «вы» и «ты». Как когда). – Ведь нужны же и статисты, верно, девочка? Настя не заходила?
Настя заходила. Она заходила теперь каждый день.
– Вы ее любите?
– Настю? Мне трудно обсуждать с вами эту тему, Аня. Вы еще очень молоды. Но если вас это интересует, скажу: я хочу предложить ей честный компромисс.
– А что это?
– Ну вот я и говорю – вам не будет понятно.
– Она била… тут… одного мальчика.
– Пасынка? Я знаю. Но разве я похож на человека, которого можно побить?
Нет, он не был похож. Но я думала: ведь это неприятно быть с такой. Разве только в себе дело. То есть я не думала, а чувствовала так и потому сказать не могла. И покачала головой: нет, мол, не похож.
Странное дело: Степан жил рядом, я видела, как он мылся у раковины, ходил в уборную, чистил возле кухонного стола ботинки и – оставался божеством. Завораживал, и все. В ном была некая отстраненность от жизни, от быта, мелочей, и ощущалась преданность мысли, что ли.
Я слышала, как за стеной полушепотом он разучивал речи. Смысл их доходил плохо, потому что все же другая комната и дверь забита и заклеена. Но иногда вырывалось возбужденное:
– Товарищи! Истинно говорю вам!
Или:
– Но слова мои, я вижу, не для ваших ушей!
Он нес в себе свои речи, их взрывную силу, и оттого напружинивались при ходьбе его мышцы, высоко взлетала голова и кругом него ощущался некий ореол. Разреженный воздух, что ли. Вакуум. Он готовился. Готовил себя. Он мало ел и много читал. Я была радостно возбуждена, как бывает от ощущения близкой опасности.
Я спала теперь в бывшей столовой и уроки учила там же. И по вечерам слушала его торжественные слова:
– Я говорю вам: все теперь в ваших руках. Держите. Не отдавайте тем, кто… – и он понижал голос.
Я подозревала, что это имеет отношение к нашей семье. И все же мечтала услышать целиком его речь. Всю. Без скидок и купюр.
Потом началась душноватая пора. Она называлась, разумеется в масштабе моего микромира, Настино время.
Настя вошла в него с большим заграничным чемоданом, который, конечно же, остался от Яна и его отца. Вошла, сделала низкий этакий – рукой до полу – поклон и потом подбоченилась:
– Николаевна, принимай хозяйку. – Она была нахальна и дивно красива. Я уж заметила: когда нахальна – всегда красивее. Это были, видно, ее душевные взлеты.
– Я думаю, – склонив набок голову, ответила мама. – Я думаю, это все должно быть обращено к моему соседу.
– Степку я обратаю, – прервала Настя. – Он тут баб без меня не водит?
Мама была не намного старше Насти, но как-то уважаемей, с ней так говорить было нельзя. И почему Наська не понимала?
– Это уж, Настенька, ваши заботы. Идите в комнату, дверь он не запирает.
– Хм! Доверяет, стало быть! – И она внесла чемодан. Когда пришел Степан, он, кажется, не проявил восторга. Потому что был слышен ее крик:
– Это теперь так не выйдет – нажился со мной вдоволь и – иди куда хошь! Да я в твой институт прямо – тебе и закончить-то его не дам!
Потом утихла. Сидоров Степа всегда ценил вескость аргумента.
И в доме стало душно. Настя целыми днями стряпала, стирала, убирала… И все ворчала, что кухня плохо метена, что стекла не протерты, а керосинка у мамы коптит. И еще электричество нагорает…
– …полы будем мыть в очередь!
Вот, собственно, и все Настино время.Только что тянулось око несколько лет, а может, и десятилетий. Уж не знаю теперь.
Теряет сойка
голубые перья.
Поднимешь – и застынешь
у проталины.
И после долго – все в тебе —
от пенья,
От звонкого полета
или тайны.
Ах, серость – твердь,
а голубое – дым.
Но серое прошито голубым!
Мы в то время(в смысле – Настино) рано уезжали из города. Чуть пригреет солнышко, чуть подсохнут тротуары – и нас уже нет. Мы где-нибудь в деревне, в лесу. Так что во всем есть свое хорошее.
Я помню эти ранние просыпания, поток солнца, разреженный почти голыми еще ветками на цветные прохладные лучи. И наши с отцом сборы – сапоги, корзины… Мы ходили по сморчки. Думаю теперь, что это предприятие было и хозяйственным, грибы, помнится, были основным блюдом.
Это чистое счастье – рыться в коричневом листе, забившем землю и выемки меж корней, и вдруг увидеть хитрого такого, холодного на ощупь, материального, почти живого…
А отведешь глаза – может пропасть. Подкрадешься к нему – цап! И вот уж он – обыкновенный гриб. И теперь не скажешь и не подумаешь: «Я нашла его, хитрого», а просто: «Я нашла хитрый гриб» (винительный неодушевленный). То же было с ветками, с цветами. Они теряли одушевленность, отрываясь от леса, переходя в руки. И далее с ужом. Я поймала его (я никого этакого не боялась). Был он раньше крепкий, ловкий, под цвет сучков и палок, пропитанных болотной водой. От него, от его присутствия, мясистая осока пахла ужом – есть такой особый запах – и тайной его жизни. А потом, в стеклянной банке, дома, весь на виду, он стал ползучим и, честно говоря, довольно противным. Вонючим, шипучим, вялым… И я рада была, когда он ушел. Просверлил как-то марлю на банке и ушел. Я его очень уважала за это.
А деревья я узнавала в лицо. Между нами не было большой разницы, что вот она родилась сосной, а я человеком. Мы в чем-то сходились. Где-то в вышине. Где-то к небу, к его широкому, сплошному, не прерываемому смертью и новым рождением.
Это – в высокие минуты. А обычно – просто радость общности. Поиски и обретение одного языка.
Лес потянулся ветвями,
Солнце ломает
большими ломтями:
Сосна – на.
Берегите ели,
Вы же хотели;
Березам и кленам —
с поклоном,
Взял орешник ломоть,
Даже кочка.
– А мне?
Что же мне?
Ни кусочка?!
А деревья:
– Чужая, чужая,
Чили-жая, ричу-личу-зая…
Стою, чуть не плачу.
И вдруг —
Тепло!
Возле самых рук!
Я его – из ладошки в ладошку,
Так печёную студят картошку.
Я его – как воду в горсти.
Как птенца к губам —
донести!..
И бегу, и в овраг съезжаю,
Из ручья напиться дерзаю —
Не чужая я.
Не чужая!
Чили-жая, ричу-личу-зая!
А лесные тропинки закруживали и водили. Не доверяйте лесным тропинкам! Они незаметно чуть отклоняются: то от восхода к западу, то от тени к солнышку, – и вот уже ты ушел от прямого, от кратчайшего… Здесь и нет кратчайшего. Он сложен, лес. Недоступен законам прямолинейности. И у меня было смутное ощущение, что и основы доброты, праздничности, великого даже корнями уходят куда-то сюда, отсюда черпают и пьют, чтобы потом расти и радовать. Но это опять же одни чувства, едва переросшие в тени мыслей. Как тяжело ощутить мысль чем-то плотным, реальным, облечь в слова.
Как трудно, наверное, формулировать. Как тяжело ему, Степану!
Удивительно все-таки, что невзрослый человек понимает почти столько же, сколько и проживший много лет. Вот почему, к примеру, я вперила глаза в Степу Сидорова тогда, в раннюю пору свою и его? Гипноз полярности? Да нет, тогда еще не было такого размаха крыл, разведения ножниц. А вот почему-то знала. И знала нечто, когда пришел к нему снова человек в Светло-сером. Снова и снова. Стал наведываться. Он, человек этот, стоял на лесенке выше, но притягивался, видно, Стёпиной духовностью, искал общенья! И, чтоб не спускаться всякий раз, стал подымать нашего Степана. И довольно-таки поднял.
А потом еще – Настя.
В Светло-сером нарочно старался не глядеть на неё, хмурился, отводил глаза и смущался невероятно, это было заметно даже мне. Но Степан будто и не видел ничего, будто так и надо. И не из соображений каких-нибудь, а просто мало дорожил своей Настей. А у них уже дочка была, Света, вся в Степана – не взяла Настиной красы. Но шустра: встанет на кроватку и кричит:
– Товарищи, та-та!
А Степан стал взрослеть, солиднеть:
– Не возражаете, дорогие соседи, если я проведу себе личный телефон?
Или – после работы – этак властно:
– Анастасия, что там с ужином?
И потом – радио. Жил под звуки радио. А когда окунался в пустоту перерыва с 3 до 4, – пел, точно не хотел оставаться с собой.
Вскоре получил квартиру. Все удобства. Включая даже газ. (Уже и газ!) Включая и выключая. По желанию.
Уезжая от нас, прощался за руку, а меня даже поцеловал в бровь. И тут вблизи я различила у него на лбу маленькое розовое клеймышко (от слова «клеймо»). Малюсенькое. Но четко очерченное. Никаких сомнений. Я бы зря не сказала такого. Точно. Точно. Это был квадрат.
Во дворе все время что-то стрекотало и падало. Стрекотала пила, а падали деревья. Вернее, толстые ветки, верхушки, самая красота. Это была пора обрубания деревьев. И весь город от этого стоял безрукий и безголовый.
В эти дни к нам часто захаживал Степа Сидоров. Было это удивительно, потому что близкой дружбы за время нашего совместного житья не возникло. И почему-то тревожило мою маму. Мою. К своей он не заходил. А от нее муж все же ушел, Степин отец. Она, правда, не бедствовала: устроилась в столовую, там кое-что перепадало. Там ее и грамоте выучили. И ходила она теперь улыбчивая, будто устойчивей стала, очень чистенькая (но это, правда, всегда) и довольно даже молодая. Мальчишек своих, озорных до безобразия, звала «ребяточки» и сильно баловала, потому что хуже сирот остались.
– Степушка-то был у вас? – застенчиво спрашивала она мою маму и обтирала губы ладонью, словно хотела поцеловаться.
– Был, Марина Ивановна.
– Уж теперь можно меня и Марьей звать. Какая я Марина, это ведь он по-городскому хотел. А я все деревенская.
– Ну и хорошо. Ведь дело-то не в этом.
– А вы не замечали, Татьяна Николаевна, голубушка моя, чтой-то мне сдается, Степушку-то как подменили. Ну как подменили! Все думает про что-то, да поет, да из уголка в угол так и бегат, так и бегат…
– Он, значит, заходил к вам?
– Нет, я к им в гости наведывалась. По Светочке маленькой скучаю – девочка такая теплая. А у меня все мальчишки, мальчишки. Да и Настена – ведь она ничего, а? Ничего.








