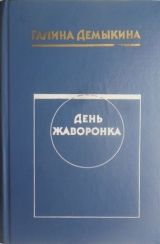
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
И вдруг сама Настена явилась. Она после ребеночка начала толстеть и там, в новой квартире, сдобная стала, белая, не такая уж красавица, как прежде.
Пришла. Села в кухне на табурет. Посидела молча. Улыбнулась победно, а сказала иное:
– Вот, Николаевна, за мою злость получаю, – и прекрасные глаза ее стали наливаться, изливаться слезами. И вдруг закрыла лицо руками, заплакала: – Прости ты меня, дуру колючую…
– Да что случилось-то, Настя?
Мама дала ей воды. Женщина выпила воды, повсхлипывала в стакан, а слезы все шли, шли по двум дорожкам на бело-розовом лице – одна за другой.
– Да что, Настенька? Скажи уж.
– Гонит он меня, Татьяна Николаевна. Никакой, видно, доченькой не удержать.
– Он вчера был здесь, ничего не говорил.
– И не скажет, не скажет, такой тайный стал, такой злой, уж и не знаю. А я-то дура привыкла к нему. И квартира теперь хорошая: Живя только да живи… – И опять заплакала. – Я ведь ему и стираю, и полы – вы нее знаете, и готовить по книжечке выучилась, что твой повар. Чего не жить, а? А что стара – так ведь с ним моложе-то не уживется. Ведь была вот одна… Да и хороша я еще, верно ведь?
– Очень хороша.
Настя достала из кармана пальто зеркальце, припудрила пятна на лице.
– Хоть бы тот, начальник его, вот который к вам все ходит, неженатый был… Он бы за мной – куда хоть! Уж я знаю!.. А то – двое детей. И думать об нем нечего.
– За что же Степан тебя гонит?
– А кто разберет. Ой, и не знаю, не знаю, что за человек стал! Может, вы бы сказали ему, а? Татьяна Николаевна! Он вас слушает.
Мне было жалко Настю. Без своих метелок и кастрюль да без нахальной красы она сразу помягчела.
– Мам, – спросила я, когда Настя ушла. – Мам, я ведь ее прямо ненавидела, а сегодня – ничего. И вроде бы она хорошая.
– Что ж хорошего? – подняла брови мама. – Просто жизнь пообтесала углы. Степа – кремневый человек. И не то еще перемелет.
– Мам, ну сегодня-то она добрая была. И на меня так глядела, будто соскучилась даже.
– И она человек, – печально подумала вслух мама. – Просто благородства в ней нет совсем.
– Как это?
– А так. Человек, например, пишет с ошибками. Если постарается да со словариком – он может и грамотно написать. Но чуть поспешит… А уж если грамотный человек, – спеши он, не спеши, сердись, радуйся – ошибок не насажает.
У нас под окном рос огромный тополь, ветки лежали на крыше – дед ещё сажал. Мой дед. Это очень давно. Так вот. И он. Дождался. Одни немые култышки. Все остальное рухнуло и валялось внизу, на весенней горькой земле. Сразу открылись: труба завода, заплатанная соседняя крыша, чужие окна. Много чужих окон. Раньше они из-за тополевых листьев по вечерам как лесные огоньки бродили, мигали, разноцветные. А теперь обозначились в них лампы, абажуры с бахромами, бока толстых гардеробов.
Это как раз в тот час было – распиловка-то, – как Настя ушла и мы про нее говорили. Так она вернулась. Постучала робко в дверь черного хода, поглядела в кухонное окно – тополь и кухню осенял тоже – и благостно вздохнула.
– И чего здесь не жилось? Свету-то, свету сколько стало. – Погладила меня по голове, еще раз простилась с мамой. – И чего ищет человек?
Вечером отец принес в квартиру обезглавленный комель. Кожу с него кто-то содрал. Я подумала – просто из жестокости, но и там, под кожей, он был все равно прекрасен: обозначены были какие-то жилы, мускулы, незнакомая нам, совершенная система жизни.
Древесное это создание поселилось в бывшей столовой, между моей кушеткой и письменным столом. Оно сразу обрело это место, будто если уж не на воле, то именно здесь, и как бы задышало. Это был маленький праздник – его присутствие.
Потом была сцена, которая осталась в памяти, хотя смысл ее мне уловить так и не удалось.
Совсем поздно вечером постучали. Мы затаились. Еще постучали. И отец пошел открывать.
– Простите, простите, – говорил кто-то шепотом в коридоре.
– Да вы проходите, – тихо и радостно отозвался отец, и мы с мамой сразу выбежали, похрабрев.
Там стоял мой старик. Старик Сарматов. Он жался к двери, робел, что поздно:
– Я на секундочку. Ну, спасибо. Да я, собственно… Вошел в комнату, огляделся:
– Я так и думал, что это вы унесли дерево…
Ведь пустяк, а? Ну кому оно нужно, дерево? Но он тревожился, и тревога передалась нам.
– Спрячьте вы этого инвалида, очень прошу вас, – сказал Сарматов. – Спрячьте.
– Да, надо завесить, – не удивилась его словам мама.
– Ну и отлично. – Он крепко и прочувствованно пожал всем нам руки. – Простите, что ворвался, так сказать, без приглашения. Не сердитесь. Я не сразу решился, знаете..
Он засеменил у порога – старенький ведь – и утопал по лесенке, оглядываясь по сторонам. И мне коричневой своей головкой кивнул:
– Заходи.
А Надькина бабка вдруг перестала пить. И мы точно впервые узнали, что ее зовут Мария Андриановна. Тихая стала, всё что-то слушала в себе. У нее дочка куда-то пропала: спросят, а она не знает, – Надькина и Юрочкина мать. А отца у них и вообще никогда не было.
Сядет бабка Мария Андриановна во дворе на лавку, поднимет к солнышку обвисшее, худое лицо. Кто пройдет – она окликнет:
– Марин, Марина Ивановна, посиди со мной.
– А что ж не посидеть. – Степина мать мягко опускалась рядом, ставила сумку возле ног.
– Чего несешь-то?
– А из столовой дали. Каша вот осталась – пригорела чуток. И котлетки.
– И котлетки?
– Возьми, покушай.
– А детишкам-то?
– Кушай, кушай, вон у тебя и шкурка поползла уже. Помрешь, видно, скоро.
– А и помру. – Обезьяньей тоски глаза успокаивались, будто кто-то шарил в душе и нашел болевую точку, прижал теплыми пальцами, и вот уже не так больно.
– На что живете-то теперь, без дочки?
– Я на работу пошла, Маринушка. В общественную уборную.
– Какая ж прибыль-то?
– А малая. Да ведь не пью теперь. Все в дом. А место хорошее, нужное. Вот намедне заходит ко мне туда человек один – тихий. И – с ноги на ногу, с ноги на ногу. Забитый этакий, неудачливый. «Можно, – говорит, – тут у вас?» А я ему: «Писяй, голубчик, писяй, чай ты не хуже других». Вышел он из кабинки, гляжу – приосанился. «Я, – говорит, – теперь, бабка, им докажу, что я тоже есть человек. Спасибо, – говорит, – тебе, бабка, за доброту». Очень нужная работа, место хорошее, теплое.
Я смотрела на Марину эту Ивановну, как она бабку кормит, поддакивает, и мне хотелось слушать ее. Сказки ее всякие странные – она много нам, ребятам, рассказывала про чертей, про леших, и о дочке своей, самой первой, что еще до Степы была, любила говорить. Тосковала, как видно.
– Померла она, – и судьбинно качала головой. – От неухода померла.
– Как это?
– Да так. Я на ферме работала, а она всё одна, всё одна. У меня родных-то не было. Съела, может, что. Или простыла. Сгорела в два денька.
И плакала. Ни на кого, ни на что не сердилась. Просто плакала.
И Мария Андриановна вот молча ждала смерти, не лечилась, не жаловалась – эко дело помереть. Неуход – не-бережение – небрежение… Такой может, думала я потом, такой может, он, русский человек. Потому что многочисленный.
Надькина бабка и правда скоро померла. Тихо и одна. Ребята гуляли в этот час. У ворот стояли. К нашему забору старинные ворота здоровые были приделаны с козырьком от дождя. Там и собирались иногда постоять. Надька к прохожим немного задиралась:
– Вот какой ладный паренек идет. И не поглядит. Ну, чего, чего уставился-то! – и улыбнется, отвернувшись, знакомой, Юрочкиной, улыбкой. Или так: – Не подкашливай рублями, у нас трешники в кармане.
Ей думалось, что это стихи. Неловко было стоять тут, в подворотне, от не стихов.
В это время бабка и померла.
А Надька ничего, хорошенькая получилась, зеленоглазая. А уж Юрочка – прямо красавец. Но, странно, я больше никогда их не видела и не знала, будто на том дне, на смерти бабки все оборвалось и они тоже сгинули.
А к нам опять Настя въехала. Привезла на чьем-то автомобиле девочку – подросшую уже – и чемоданы с узлами, сбила замок, который приладил к бывшей моей комнате дворник Никита, чтобы не заняли, и стала жить. Ее, правда, приходили выселять, но она кричала:
– Гоните, гоните с ребенком на улицу! – Светка, уже высокенькая, узкоглазая, хмуро и молча глядела перед собой. – Если есть такое право, гоните! – переходила на визг Настя. – Да я к вашему начальнику в кабинет перееду!
И отступились. Тем более у нее по ногам пошли толстые синие жилы. Куда ж ее? Безмужнюю-то. И Степана, как я поняла, немного боялись: уж он был не просто так. К тому времени достиг.
Глава IV
Ни сожаленья, ни опаски,
Ни ощущенья пустоты…
Мы люди-роли, люди-маски,
Улыбкой вздернутые рты.
Пока вы правы, но без славы,
По жизни льетесь, как вода,
Мы – как огонь! – берем заставы
И занимаем города!
Старик Сарматов открыл передо мной дверцу шкафа. Помните, я как-то говорила, что навестила его, приехала к нему сквозь оранжевый закат, какого никогда не бывало в детстве. И вот он открыл дверцу шкафа. И жест был таким реальным – я до сих пор не уверена, что мне это приснилось. И жест, и темные древесные разводы на дверце шкафа, и эти унылые гладкие лица, висевшие там, в глубине. Одни унылые остались, а с веселым разрезом рта не было.
– Где же они?
– Не успеваю изготовлять, – грустно ответил старик. – И потом, знаешь, получается, как нынче принято выражаться, жуткая халтура. Все одинаковые. Из-за меня теперь ходят по свету толпы близнецов.
– Вы, верно, богаты?
– Я богат страхами, милая девочка. (Для него я всегда, и теперь даже, девочка.)
– А кто вам велел?
– Ты же присутствовала при первом. Этот властный голос… – Старик усох, плечи торчали у самых ушей.
– Чего вам бояться, вы же будете вечно!
– Ну, этого никто не знает, во-первых. А во-вторых, не всего в жизни хочется вечно. – Он закрыл шкаф. – А ты, собственно, чего?
– Видите ли… Я могу это только вам. Вот я хожу так гордо, и все думают… А я знаю – я совершенно беспомощна. Я не придумана для наступлений. Но какой-то щит нужен. Мне еще несколько лет назад один ответственный человек сказал: «Надо уметь держаться на ногах».
– Да, пожалуй. – Я думала, он будет утешать ложью. А он «Да, пожалуй». Эти его слова больше всего и наводят меня на мысль о сне. – Тебе в переизбытке отмерено серьезности. И лицо, черты это выдают.
– Вот я и подумала. Ведь вы могли бы…
– Тебе не нужно! – мягко оборвал он. – Это ведь для другого совсем.
– …Мы так давно дружим, а?
– Не хочу. Кто-то должен остаться вне…
– Я очень прошу вас.
– Я уже сделал Степану. Все надеялся – ему не придется. Но… тут квадрат… Уже не обойтись, он занял всё лицо. А тебе-то зачем?
– Как – всё лицо?
– А так – сплошной квадрат.
Я потрясенно молчала.
– Ну, поняла?
– А что было у того, у первого?
– То же. Знак.
– Квадрат?
– Да, да, девочка. Неужели ты еще не уловила?.. Раздумала теперь?
– Я бы все-таки…
– Тогда вот что: только нос, и ни штриха больше.
– Как это?
– А вот так.
Он выдвинул ящик стола и достал нечто, похожее на детский крохотный чулочек телесного цвета.
– Иди к лампе.
Я села у рояля под широким желтым торшером. Он занавесил окна, поднял мою голову за подбородок и быстро и больно нашлепнул это нечто мне на пос. Погладил, помассировал. Дал зеркало.
Мой нос незаметно, неуловимо подался кончиком вверх, чуть удлиняя ноздри, чуть вздергивая верхнюю губу, сделав лицо миловидней в проще, открытей.
– Довольна?
– Да… Не знаю… – И я почему-то заплакала. Старик схватил клок ваты, стал стирать слезы со щек и моего нового носа.
– Ну, попробуй. Ну, ничего. Очень удачно вышло. Я тебе сниму потом, как только захочешь. Я обещаю. Не прирастет.
Я помню ужас, в котором я, проснувшись, схватила зеркало!..
Лицо было ясным, улыбчивым, открытым. (Сон? Явь?) А каким оно было вчера? Позавчера? Все спешишь, спешишь, и некогда разглядеть себя.
В то время я уже поступила на работу и едва удерживалась на ней – постоянно тревожилась по этому поводу и пыталась скрыть тревогу.
Мне не хочется рассказывать о сути работы, потому что она связана с архитектурой, с градостроительством, так сказать. А я в этом не сильна. Училась вот, а не сильна. Это, к сожалению, бывает. Не полюбила проекты удобных и похожих друг на друга домов и неудобных, впрочем, тоже очень похожих: совмещенный санузел и кухня, почти совмещенная с комнатой. Не научилась мыслить такими понятиями, как надо: широты не хватило. Тут ведь нужна широта.
Начальник (его называли на купецкий манер – « сам») был мной недоволен. Вызывал в свой обширный кабинет – я то время была кампания по выдвижению молодежи, – объяснял, опустив седую голову и не поднимая глаз:
– Вот поручаешь вам, понимаете, самостоятельную работу и, ей-богу, лучше бы поручить ее нянечке Михайловне. (Была у нас такая.)
– А что?
Я спрашивала очень робко, а искренняя (я подчеркиваю, искренняя) робость раздражает всех начальников на всех континентах.
– А то. Вы должны, понимаете, уложиться в определенную сумму. А вы мне лепите какую-то башенку на одну квартиру. Что ж, из-за нее в пятиэтажном доме лифт, что ли, ставить?
– …Нет… Это для тех, кто хочет абсолютной тишины. Ведь звукоизоляция плохая…
– Я про лифт говорю.
– Не надо лифта. Эту квартиру будут давать тому, кто соглашается (я воодушевлялась), кто идет на это ради… Ну, ради и тишины и красоты. Эти башенки можно делать разной формы, с балкончиками, с выходом на крышу. Тогда весь дом преобразится.
– Хм… Преобразится. Вы, кажется, не слышите, о чем я говорю. Я говорю о расходах. Идите, понимаете, займитесь чужими чертежами. Вам еще, как я вижу, рано.
Так было поначалу. Я понимала, что мои поиски нелепы, но, вероятно, а) не была достаточно талантлива; б) не знала, что красота достигается иной раз прекрасной, гармоничной планировкой и в) довлел ещё мой «городок за «семью стенами», и я трудно перестраивалась. Ведь в нашем горбатом переулочке дома были хоть и не комфортабельные, но – личности: каждый нес что-то свое. И я помню, меня это радовало.
Наше детство тяготеет над нами —
Городок за семью стенами.
Не войти в него, не достучаться,
До любимых в нем не докричаться.
А зачем туда возвращаться?
Нам пора бы с ним распрощаться…
Вот то-то и оно, что это от нас мало зависит. Так же, как не зависят от нас наши сны.
Помню приход на работу в тот день, когда впервые увидела в зеркале свое новое лицо. Надо честно сказать, что печаль моя по поводу утраченного очень скоро сменилась радостью (я ведь кое-что и приобрела!), а новое лицо почему-то продиктовало и новую походку: ток-ток-ток каблуки по начальственному кабинету. «Сам» впервые поднял седую голову и поглядел.
(Оказалось, между прочим, что он не стар, а просто сед.)
– Так что вы сказали?
– Я говорю – нельзя людей обрекать на созерцание бесконечной одинаковости. Медицински доказано, что если жизнь идет слишком размеренно, не перемежаясь радостями, человек сходит с ума.
– Какие, понимаете, у вас идеи… странные.
– Чего же странного?
Я говорила серьезно, а улыбка цвела сама по себе.
– Вам смешно? Вы думаете – вот старый брюзга…
– Ну, не совсем…
– Благодарю. – Впервые на его лице появилось что-то вроде ухмылки. И голос звучал без досады. Скорее, устало. – Поймите, нам надо переселить людей из подвалов, разредить квадратуру, тесноту, значит, устранить. Это же яснее ясного.
– Конечно! (Улыбка.) Но ведь потом многим поколеньям… – Это почему-то обидело.
– Бросьте, понимаете, демагогию. Зачем она нам с вами.
– И вы бросьте.
Мы впервые глянули друг другу в глаза. Его хмурые, и мои – хмурые. Но улыбка! У него не было улыбки. Куда ему до меня!
Тогда я сделала несколько шагов к его креслу и подробно осмотрела (только что не ощупала) это замкнутое лицо. Никакого квадрата. Лицо было чисто, как его помыслы. И неравнодушно. И вдруг залилось краской – до седых волос. Может, он подумал, что я его сейчас поцелую?
По-моему, исключительно для того, чтобы стряхнуть смущение, пробурчал:
– Вообще не было ни одной женщины-зодчего.
– Спасибо, – засмеялась я (уже вполне искренне).
– И не будет.
Он молодо тряхнул головой и тоже почему-то засмеялся (может, был рад, что я его все-таки не поцеловала) и проводил до дверей, пожав мне руку на виду у секретарши.
Через несколько дней я услышала, как обо мне говорят:
– У этой нахалки кто-то завелся в министерстве. Ишь, улыбается ходит. И «сам» перед ней расшаркивается.
Я расправила плечи и вобрала воздух полной грудью. Вот он щит. Защита.
Я не предвидела той опасности, которую несла в себе моя крохотная полумасочка (четвертьмаска? Одна двенадцатая маски? Сколько там нос занимает на лице?) Ведь настало время встретить Тебя. А нужна ли Тебе была моя улыбка? Такая – от Мастера Масок?
Мне очень трудно говорить о Тебе. И я все откладывала. Думала, что сумею сделать это косвенно. Ну хотя бы рассказывая о Яне, или о лесе, или о милом старике Сарматове.
Глава V
Так вот…
По стечению обстоятельств наша градостроительская мастерская находилась рядом со студией монументальной скульптуры. Это чистая случайность, потому что наше общение не было запроектировано (хотя и напрасно). Но мы общались. Главным образом в кафе, куда забегали перекусить. К чести нашей скажем, что определенного времени на обед не было – полагались на совесть. Вот мы и забегали в нелюдные часы. И многие давно перезнакомились. Но меня опять повело в сторону. Нет, сначала надо все расставить по местам.
Ты это – Ты. С большой буквы. Всегда. Как бы оно ни обернулось. Все остальное – в зависимости. На всё остальное я просила бы оставить за собой право смотреть, не поддаваясь эмоциям. Но Ты – вне моей объективности.
А поначалу я даже не отметила для себя, как мы встретились. Это было совершенно естественно – нам встретиться. Иначе не могло быть.
Иногда мне кажется, что мы разговорились на заглохшей лесной дороге. Елки сплошняком, трава в колеях… Но это не так. Так просто не бывает. Нужен случай, может, даже пошловатый. И он не задержался.
Была вечеринка. Самая обычная. (Обе наши мастерские.) Танцы там, застолье. И нас прибило к одной и той же стене. Вот Ты и позвал танцевать, подошел и знакомо-доверчиво и беспомощно нагнул голову:
– Только я не очень-то мастер…
Мы сбивались и радовались этому. (Конечно, Ты был не мастер. И это прекрасно.) Я не знаю, чему радовался Ты. Может, передавалось мое оживление. А я ощущала нечто. То, что назвала когда-то для себя «эффектом присутствия». И это сразу переокрасило вечеринку, лица, небо за окном. Все приобрело смысл и гармонию.
Мы смеялись. Мы были рады друг другу. Да, да. Сразу – рады.
Только потом, когда это уже не имело значения, я спохватилась: улыбка. На мне была надета моя улыбка. Ты ведь мог не узнать меня. Но ты узнал. (Правда, после ее появления прошло уже некоторое время, а ведь лицо обычно ассимилирует новое, в нем проступает его, исконное.) Ну, так вернемся к той вечеринке.
Я, честно говоря, не сразу поняла, на кого Ты похож. Ты был похож. И я глядела, наверное, очень. Но в Тебе этого не было – чтоб расценить не так. Я знала. Не боялась.
Потом, когда кончился один танец и начался другой, Ты пригласил кого-то еще. Ты это сделал потому же, почему я когда-то после поездки в трамвае отстранилась от Яна. Мы ведь боимся людских глаз!
Ты был весел. Я знала почему. Знала. Знала. Но от ложного твоего шага было больно. Нельзя. Между нами этого нельзя. И Ты сразу подошел. Кроме того, я уже поняла, на кого Ты похож.
И мы вышли подышать на улицу.
Весна в самом начале. Все это где-то в пригороде, вернее – в новом районе нашего города. Между домами – уцелевшие березы и сосенки. «Перед глазами травы и дерева…» – подумала я. И Ты оглядел уснувший этот древесный мирок со своей почти двухметровой высоты и сказал вдруг:
– Этим только и можно клясться. И заклинать. Ты веришь в заклятье?
– Да.
– Я так и знал. А кем ты была прежде?
– Я думаю – деревом. – И засмеялась. – Извини меня, просто деревом. Сосной.
Ты не засмеялся.
– А я кем-то летающим. И потом разбился. Я помню, как падал. Удар об землю.
Мы помолчали. Походили молча очень хорошо. Потом Ты сказал:
– Слушай, Юля…
– Я не Юля. Меня зовут Аня.
– Но ведь ты родилась в июле?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Потому что я тоже в июле. И меня зовут Юлий.
– Перед глазами травы и дерева, – сказала я. И Ты согласно качнул головой.
Это все не было отходом от того, первого. А было продолжением. Продолжением прерванного диалога. Я уже говорила о законе. Об общей форме, в которую вкладывается похожая сущность. Не глина, конечно, – я тогда грубо сказала. А что-то переплетенное, живое, трепетное, если так дозволено выразиться.
Время с того вечера стало отсчитываться под знаком Твое. Тепло от него доходит ко мне и по сей год. И так же, как не властна я в лунных притяжениях, от которых зависит морской прибой, не властна и в законах, по которым меня снова и снова прибивает к Твоему берегу. Логики в этом возвращении нет никакой, кроме разве логики зеленого листа, желания вечно родиться заново в клейкой, душистой оболочке, раскрывающей створки, и видеть родящийся заново мир.
Когда от понятий «я» и «ты» мы перешли к ласковому «мы», Ты сказал, что прежде с тобой ничего такого не бывало. Так люди говорят иногда, чтобы порадовать друг друга. Но в Твоей искренности нельзя усомниться.
Я не сказала Тебе того же, потому что это было бы неправдой. Хотя надо было сказать, потому что это была правда. Перед глазами травы и дерева!
О счастливая пора узнавания и самопознанья.
– Я сегодня видела сон… У тебя бывают сны с продолжениями?
– Да, конечно. У меня есть целый город во сне. Я знаю, как туда проехать. На трамвае с красным номером 39 – мимо белой торцовой стены, сплошной, полукруглой, потом поворот… в общем, я всегда узнаю начало этого пути. Еду во сне куда-то в другое место, и вдруг…
Боже мой, как мне это все жгуче интересно, как важно, просто жизненно важно!
– Это добрый город, Юл?
– Да… В общем – да. Грустный немного. Грустный, как то, что прошло. Или чего не было и не будет.
– Странно.
– Что?
– Что ты так ощущаешь. Ведь ты молод.
– Знаешь, Юлька, я даже моложе, чем на самом деле.
– Как это?
– Вот у тебя бывает ощущение силы? Что ты многое можешь?
– Да.
– И у меня. Мне кажется, я еще очень много могу. Сделал мало, а могу много.
– А что ты сделал? Покажешь?
– Ну, наконец-то, – облегченно вздохнул Ты. – Слава богу. Я думал, тебе неинтересно.
– Разве это возможно? Я просто не решалась спросить.
У Тебя была мастерская в полуподвале. Очень маленькая. Я к тому времени побывала во многих мастерских. Их размеры не всегда соответствовали размерам таланта. Чаще – не соответствовали. Но ведь Ты – монументалист? Здесь нужны масштабы!
Когда Ты включил свет, ко мне изо всех углов потянулись странные удлиненные существа. Длинная гладкая собака, будто бегущая по следу. Только морда ее не была опущена.
Длинная летящая птица, которая, несмотря на подставку (как же без подставки, скульптура ведь!), не касалась тверди.
Длинный бегущий человек. Тоже почти летящий, парящий над землей.
Я потом разглядела, что удлиненность шла не от смещения пропорций, а от порывистости движения, в котором они застыли… Они искали чего-то большего, что выходило за пределы телесной оболочки, и конечно же не дичи, не гнезда, не удачи в спортивном забеге. Темные, гладко отлитые, все меньше метра величиной, они населяли комнату присутствием высокого.
И вдруг меня осенило: все они чем-то похожи на Тебя.
– Автопортреты? – робея, спросила я. Ведь я так мало разбиралась в искусстве.
Ты кивнул. И Твое смущение было только видимым.
– Ты многое можешь, Юл.
– Юлька, друг мой, ведь это надо еще воплотить. Поставить на высокие подставки – во-от такие, как колонны. Рассчитать, чтобы снизу эти чудаки смотрелись пропорциональными… Юлька, милая, не верь мне! «Рассчитать», «воплотить», – да это ерунда, семечки! Главное – чтобы дали город. Дали город на откуп. Средства. Материалы. Рабочую силу. Базу, так сказать. Я измучился без этого. Руки опускаются.
– Но ведь главное, что ты создал их, а остальное… Юл, может, это – тщеславие?
– Нет, – ответил Ты резко. Ты всегда говорил мягко, даже вкрадчиво. А здесь звякнул металл. – Я могу это сделать отлично. И я хочуэто сделать.
«Ого!» – тревога всплеснула во мне крыльями. Безотчетная. Мимо сознания, как предчувствие.
Почему я не вслушалась тогда в шорох ос крыл?!
Но Ты наклонился ко мне знакомо – неловко и беспомощно:
– Ты что побледнела, Юлька? Впрочем, тебе идет. – И тревога плавно и неслышно улетела.
О счастливая пора доброго отражения! Ты глядишься в глаза другого человека и видишь себя прекрасной. Тебе все идет! Ты смеешься – идет. Сердишься – тоже. Ты говоришь о себе и вдруг понимаешь, как это все значительно. Не просто «попало от начальства», а:
– Представляю, как ему тяжело налетать на эту твою улыбочку. Вот бедняга!
(И сразу – он, «сам» – бедняга, а ты, хоть и обруганная, – молодец и победитель. Тебя видят так!)
Не просто снимаешь трубку звонящего телефона: «Алле», а:
– Ты знаешь, у тебя удивительный голос. Я бы влюбился в тебя по голосу.
Не просто новое (или впервые увиденное) платье Не просто умение впрыгнуть вместе с удивленными восьмилетними девчонками в круг вращающейся верёвочки, не задеть и выбежать с другой стороны (все от щенячьей радости!).
Не просто загрустить вдруг…
Не просто рассмеяться…
Все, все, все имеет значение, вызывает удивление, восхищение, ответ.
Все рождает ответ.
Как могут люди жить без отклика?!
Счастливая, счастливая, счастливая я! Сама себе завидую!
– Знаешь, Юлька, я иногда завидую себе. Вот так.








