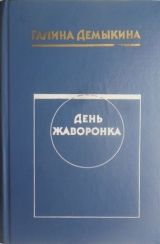
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Часть III. День жаворонка
Гл. XV. ВместеЗвонок в дверь был короткий, несмелый.
– Кто?
– Пустите погреться! Замерзли-от!
Виталии узнал не голос (сколько не слышал!), а манеру говорить – северную, где нет московского исчезновения окончаний (сам Виталий сказал бы что-то вроде «пустить»). А уж «замерзли-от» было для колориту. Это точно!
Распахнул дверь. Юрка! Тот стоял в светлой дубленке, блестящей нутриевой шапке набекрень, а из-за спины его выглядывал еще кто-то – маленький, в ушанке и в демисезонном елочкой пальто. (Неужели сынишка? А что? У меня Пашута не меньше.)
– Входите, входите!
Виталий потянул Юрку в комнату. Тот остановился посередке.
– Здравствуй, старик.
И мягко вложил в руку Виталия свою руку – широкую, горячую, очень телесную.
Глаза его смотрели горько и были влажны. И движения непривычно вкрадчивы. Он не то чтобы постарел за это время, но как-то осел, – может, из-за полноты. Из-за этой серо-розовой одутловатости и без того широкого лица. Юрка не был здесь никогда и теперь поглядывал на старые, Витальевой семьи еще, картины, на книги, несвежие обои. Он будто взвешивал что-то.
На широкой (общей?) тахте раскрытая книжка (какая?). Пыль на полке. (Что ж это? Руки у нее к дому не лежат?) Красные туфельки с перемычкой – не ее, маленькие (ребенок, значит, дочка).
– А… Где?..
– Нету, Юр.
– На работе?
– Не знаю. Тут такая история… Потом расскажу…
Юрий замер, будто споткнулся. Растерянно развел руками.
– А я… с собой… – И пошел в коридор. Оттуда послышалось его шмелиное гудение: – Ну, чего ты?
И в ответ шепот:
– Тесемки на шапке узлом завязались.
– О, горе мое! Подожди. Не крутись. Пошли.
И опять шепот:
– Дай волосы пригладить!
– Хватит, хватит! Юра тащил кого-то за руку, а тот упирался, прячась за его спиной.
Вот Юрий дернул руку, и на середину комнаты вылетел некто тощенький, в узких брючках под резиновые сапоги, в длинном и широком, как с чужого плеча, джемпере. Мальчишечья острая мордочка, коротко стриженные тускло-светлые волосы, из-под челки синие осколочки глаз, длинная, узкая улыбка, ушедшая в уголки рта… Существо поклонилось Виталию, не смущаясь, открыто поглядело в глаза. Потом протянуло руку:
– Она!
Виталий подержал эту тоненькую руку. (Она… он или она?..) И галантно придвинул кресло.
– Садитесь, пожалуйста.
Существо забралось на сиденье, положило руки на подлокотники и глядело, как примерное дитя в школе.
– Займись чем-нибудь, – сказал Юрий и сунул книгу по генетике, лежавшую на тахте.
Виталий хмыкнул, перегнулся и достал с полки толстый журнал.
– Лучше вот это.
А сам смотрел на Юрку. И ощущал на себе такой же взгляд: ведь это было уже замыкание круга, и, значит, непременный молчаливый вопрос к другому:
«Кто ты?»
«А ты?»
Я никто. А ты кто?
Может, тоже никто?
Тогда нас двое. Молчок!
Виталий не дорос до этого. Нет! Ведь чтоб быть таким вот «никто», надо этого захотеть, как захотела Эмили Дикинсон, выбравшая почти полное отшельничество. А Юрка – в ярком свете юпитеров: пресса, интервью, «ваши творческие планы»… А чего пришел? Что-то, значит, стряслось. Не в картишки же сыграть? Не денег одолжить?
А Юрий, оттерев замерзшие руки и наглядевшись, начал, как в Крапивине, с важного:
– Тут ко мне старик приходил. Киноочерки пишет. Так он мне – не по делу, конечно: «Чем, говорит, утолишься?»
– Ну? – живо откликнулся Виталий.
– Я ему по совести сказал. Только так, обернул шутейно. Не знаю, как изложить тебе, чтоб того… без фанфаронства, – ведь ты теперь меня совсем не знаешь.
Виталий и правда не знал. Но обижать не хотел.
– Ты, Юрка, вроде бы не терял своего.
– Эх, сколько я терял!
– Отбрасывал, наверное?
– Да, пожалуй. Но больше терял, если честно, не для трёпу… Я к тебе вообще не для трёпу – за делом. Только вот подступиться как? Видишь ли, я когда-то прочитал у одного прекрасного режиссера: «Работа теперь совпадает со всей моей жизнью». Прочитал и запомнил, хоть и не понял тогда. И вот теперь завидую ему. Зверски. Не славе, не фильмам его, а вот этому «совпадает со всей…». Не скучно тебе? – И, не дожидаясь ответа, дальше: – Понимаешь, такое хочу работать, чтоб ни на что другое меня не осталось. Войти туда, в жизнь эту, в фильм, – и не выйти, коли потребуется ему. Вот так хочу. То есть что хочу! – нет мне дыхания, жизни нет без этакого. Пора, что ли, пришла? Время? Ведь я все как? Одной ногой влезу, другая торчит. Куски меня торчат из моего дела, из работы. Ну можно так, а? Одно принимаю, от другого с души воротит. Поверишь ли – у меня уже в третьем сценарии влюбленные прогуливаются по набережной. Мой сценарист водит их туда, как собак, право… Зачем? А затем, что опробовано уже. И – правдоподобно. Вот! Прав-до-по-доб-но. Я черкаю, конечно, не беру. Но ведь и вычеркнутое довлеет. Ты не сделал чего-то, ну, не донес, не убил, не… не знаю чего еще, – не подумал. Всерьез подумал. Намерился. Потом вычеркнул из головы эту задумку. А вот проверь – так ли ты подойдешь к тому, кого в мыслях убивал? Нет. Не так. Потому что довлеет. Если ты не подлец, конечно. И я вот вычеркну – пусть из чужого сценария, – но ведь он теперь стал мой, больше мой, чем его, чем Барсука, раз уж я взялся родить. Вычеркну, а знаю: там жила опробованность эта, пошлость. Жила, уживалась, значит, есть ей там что кушать. Питательная среда есть. Есть это, стало быть, в детище твоем! А? В своем детище! Не хочу больше родить от больных, от оскверненных! Не хочу Барсука с его киношным могуществом. Ну да, да, он и сценарий продвинет, и тебя в обиду не даст… А что он мне последний раз подсунул?! Ты бы только поглядел, что он мне… это не уважать надо режиссера…
– О ком ты, Юрка?
Тот не сразу ответил – думал о своем.
– Я работаю с Барсуком. Мой сценарист Барсук. Так зовут. Зачем выкликать имена всуе? У тебя есть Брем? Давно хочу посмотреть.
Виталий достал пятый том «Жизни животных» – «Млекопитающие». Юрий полистал, прижал пальцем строчку.
– Вот, Виталик, «Подсемейство Барсуки. Сюда принадлежат самые неуклюжие животные из всего семейства; некоторые из них к тому же выделяют сильные и неприятные запахи. – Пожал плечами, вроде даже смутился разоблачение: это, дескать, можно было и утаить. Потом продолжал: – Крепкое, плотно сложенное тело, толстая шея и длинная голова, маленькие глаза и уши, голые подошвы…» Ну, брат, вот он, весь тут. Даже не ожидал от старика Брема. Особенно эти подошвы. Он меня обезоруживает своими голыми подошвами. И я, если честно, виноват перед ним вот как!
– В чем же вина?
– А, такое дело… Слаб человек. Я слаб. Я жутко слаб. Но, Виталий, – Буров побледнел от азарта, лицо его потеряло одутловатость, глаза ожили, – клянусь, это моё последнее падение. Я не про Нэлку говорю. Черт бы с ней. Я про сценарий. Не возьму больше, отыди, отыди, нечистый! – будь то Барсук или кто другой из этого «подсемейства». – Он делал руками пассы, как когда-то его бабка. – Я ведь думал откупиться, – сказал он шепотом. – Я ведь думал: суну им, худсовету или еще там кому… дам фильм, до какого они охочи, – мышиного цвета, мышиной повадки, мышиной величины. Укреплюсь. Стану на ноги. А уж потом – в полную силу! А такое возможно в искусстве? Кого мы дурачим? Зачем, умея делать хорошо, делаем похуже?.. Ведь вот жизнь, реальная жизнь, – она же не однослойна. Ведь в ней… от какого-нибудь паршивого гена, передающегося в десятках поколений, до всей гармонии мира, до человека, который тоже – целый мир… и все – тайна, все не раскрыто, и не будет, между прочим, раскрыто, уважаемый биолог. Так-то. Вот где хочу копать. А это же не наверху лежит. Не в верхнем слое, верно?
– Да.
– Ну вот, – потух вдруг Юрий. – Вот и дергаюсь, как шут на веревочке.
– Понимаю, Юр, – отозвался Виталий. И проступили ясно до веселой ломоты в висках забытые, не имеющие материального воплощения силы. Виталий узнал их по пульсации крови, по живому своему отклику. И всплыла строка из Эмили Дикинсон, он прочел ее на память:
И кокон жмет, и дразнит цвет,
И воздух приманил,
И обесценен мой покой
Растущим чувством крыл.
– Если б так! – вздохнул Юрий. И, подумав капельку: – Да. Точно. Сюда это.
Они долго и легко молчали каждый про свое.
Потом Виталий поил их чаем, причем странное создание так и не промолвило ни слова и к столу не потянулось: пришлось подать чашку с чаем туда, в кресло. И хлеб с сыром, и несколько конфет (хорошо, что остались) тоже.
Чуть потемнело за окном, или снежная туча завесила небо. Сменилось освещение. Виталий задернул шторы, зажег и пододвинул к столу торшер. Пришел покой. Отгороженность и покой. Вот странно-то: покой при Юрке!
И Юрка говорил теперь уже без запальчивости:
– Вообще-то мне хочется в фильме, как и в жизни, – в своей жизни хочу! – почти полного молчания. Чтоб никто не произносил. Может, изредка звуки. Рычание; зов победы; крик боли. А если слово, то – единственное, без которого не обойтись: «Спаси», «Уходи»… Знаешь, вокруг всякого дела столько сорного, мусорного! Я уже не могу слышать слов. Возле кино – стада рассказчиков: набиты сведениями, оснащены аппаратом этим… речевым. И ведет их, и ведет пенистая: «…Гарольд Ллойд, только получив деньги от богатого дяди, стал знаменитым, а так был на выходных ролях…», «Макс Линдер покончил с собой, когда появился Чаплин…»
– Это правда? – удивился Виталий.
– Может, и правда, Талька, но не сытым голосом об этом говорить! Это трагедия, а не тема для беседы!.. Или: «Ах, ах, ах, фильм Эйзенштейна о Мексике взялся субсидировать Эптон Синклер, но потом не пустил его…», «А вы слыхали анекдот…» И все в одну кучу, ничто не дорого! Ненавижу эту осведомленность!
– Да это, Юрк, люди неинтересные попались. Ведь в человеке что притягательно? Характер. А начитанность – да бог с ней.
– О, точно, Талька, характер! И если то, что человек говорит, его, лично его, волнует – всё. И мне это вот так нужно! Веру! Мой кадр! Из моего фильма… Талька! И в работе так хочу, понял? Не могу больше, чтобы – сытыми глазами: глядит фильм и ковырнет во рту зубочисткой или думает, как жене досадить… А кто виноват? Я. Это я ему обыденщину сую: кушай, простак!
– Бей его! – засмеялся Виталий. – Работал этот Буров так себе, ты прав, бей его!
– То-то же! – облегчённо выдохнул Юрий. – Мы, брат, себе цену знаем. Лишнего не закрашиваем.
И тогда только оба взглянули на Ону. Существо присутствовало молча, но удивительно легко.
– Слушай, Виталий, мне бы хотелось уложить Ону, – другим голосом сказал Юрий. – У их светлости всю ночь болели зубы. – Голос был мягок, с нотами шепотка.
Никогда Юрка Буров не был сентиментален. И теперь, уловив своим радаром удивление Виталия, счел нужным пояснить:
– Видишь ли, она сама ничего для себя не спросит.
Существо, которое оказалось все-таки женского рода («она», «сама»), послушно отправилось в Пашутину комнату.
– Устраивайтесь, Она. Форточку закрыть?
– Все равно.
– Закрой, закрой, Таля. У тебя грелки не найдется? А то сегодня красавица прогулялась в легком пальто, теперь ее от простуды не откачаешь.
Было опять-таки удивительно, как он, откинув жёлтое капроновое одеяло, из-под своих рук точно в домик пропустил сжавшуюся, ставшую маленькой и беспомощной Ону, подложил к ее узким ступням грелку, хмыкнул грубовато:
– Грейся, царевна-лягушка!
Он плотно закутал ее одеялом:
– Спи. А мы, как говорят на Кавказе, сперва тихонечко попоем, а потом тихонечко постреляем.
Она кивнула и приветливо улыбнулась.
Это было, конечно, удивительно милое создание, тихое, как лесная речка. И затаённое. При ней нельзя было трунить, говорить резкости. Она так доверчиво покивала из-под желтого капрона, одним своим видом взывая к помощи и участью. Хрупкая тишина. И опять же «сама ничего для себя не спросит»…
– Она будет у тебя сниматься? – спросил Виталий.
– Нет.
– А кто она?
– Хлопушка.
– Что?
– Ну, помреж. Сотня обязанностей. И к тому же хлопает дощечкой об дощечку в начале каждого эпизода и произносит (она все же не немая): «Юность-7/1», «Встреча на набережной 150, дубль 2». Понятно? Целая роль: ведь ее снимают и дощечки тоже и потом находят синхронность.
– Как это?
– Ну, фонограмму синхронизируют с изображением.
– Да? Хм…
– Мало?
И, учуяв не без довольства, что существо произвело свою подспудную работу, Юрий достал из портфеля бутылку коньяку.
– Давай знаешь за что? Чтоб – мимо обыденщины. Чтоб выше жить. И работать во всю силу. Не знаю, впору ли тебе мои… как бы сказать…
– Даже вообразить не можешь – как!
Диалог
– Вот чего мы слушаем музыку?
Смешно ведь. Представь, сидит целый берег или полон зал земноводных, замерли. Почему земноводные? Это я такую разработку писал. Так вот. Замерли, слушаю отключились от времени. Нелепо, да? А меж тем это вдох и выдох. Выход. Спросишь: из чего? Из обыденного.
– А куда?
– Ну, в другое время, например, в другой отсчет в другое его течение.
– Время. А мы знаем, что такое время? Когда мы сохраняем его и когда расточаем?
– День событий, значимый день – длинный… Искусство растягивает время. В длину. А длина – это уже измерение пространства. Другая плоскость. Искусство – плоскость высокого духа, где все по его законам, нелепым для обыденности. Нелепо умирать от любви; сидеть сложа руки и слушать музыку; нелепо кричать:
Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!
Вы, хляби вод, стремитесь ураганом,
Залейте башни, флюгера на башнях!..
А ведь его, короля Лира, слышит только шут! Глупо и нелепо. Но вырви это из времени, из мира – и мир обеднеет. Близость высокого пространства – да ведь она ощущается. Дает живую пульсацию! – И вдруг резко оборвал: – Скажешь – тоже трепач? Нет, брат. Это меня за горло держит. Иначе я бы и к тебе не пришел.
Гл. XVI. Как былоПовод и причина – разные вещи. Когда-то, еще в начальной школе, учитель истории объяснил, по-моему, очень доходчиво. Он сказал: «Жарким, засушливым летом загорелся стог сена. Что служило причиной? Жара. А поводом? Случайная искра». И верно, влажное не загорелось бы! Это – о Юре Бурове. Сено иссохло давно. А что до повода…
В общем, это началось так: кто-то где-то набрал телефонный помер, послушал затаясь, повесил трубку. Кто? И зачем?
Последнее время часто звонили так.
– Алло! – кричал Юрий. – Алло! Слушаю! Нажимал на рычаг. И снова звонок.
– Кто там, черт возьми?!
– Юрий Матвеич, это я. Это звонит Она. – Она мягко и носит свои длинные, неуклюжие фразы. Переводные, похожие на нее.
Она смешная длинноногая девочка, которую они с Тоней после банкета в ВТО провожали на такси в какую то чёртову даль, в пригород, и она по дороге вдруг разговорилась (то молчала, а тут прорвало) и нескладно и патетично рассказывала, какой у них в Прибалтике бывает праздник песни.
– Цветы, цветы, целый город цветы, и как будто это они поют, как весной в поле.
– Разве весной в поле цветы поют? – засмеялась тогда Тоня и обняла девочку за плечи. – А? Поют?
Топя полагала, что маленькая иноязычница оговорилась. Но та кивнула серьезно:
– Немножко поют.
После Юрка видел ее несколько раз на студии – видел с удовольствием. Узнал, что она работает в одной из съёмочных групп помощником режиссера.
– А ко мне пойдешь на новый фильм? – спросил он однажды.
– О, конечно! – радостно охнула она.
И Юрка, снисходя к ее доверчивой открытости, положил руку на эту растрепанную голову, погладил длинные волосы, похожие на привядшую траву.
В его пальцы ударила искра. Он отдернул руку.
– Это ничего. Во мне есть много-много электричество, – тоном первой ученицы пояснила девочка. И улыбнулась смущенно. – До свидания.
К следующему фильму Юрка забыл о ней – взял другого помрежа. От фильма к фильму, от года к году встречал – вспоминал ласково:
– Ну как ты, малыш?
– Я уже совсем взрослый, – однажды грустно ответила она.
Потом куда-то пропала.
И снова вынырнула – уже в ином обличии: Юрий даже не сообразил, что это она, столкнувшись на студии. Только потом – по неловкости, которую ощущаешь, когда смотрят в спину. Но не обернулся: некогда было. И вдруг – смешно! – в ГУМе.
«Если вы потеряли друг друга, встречайтесь на первом этаже, у фонтана». Он никого не терял, а зашел купить плавки, благо был поблизости. И вот тут-то и оглянулся на сверлящий взгляд: Она! Стояла спиной к плещущему фонтану (все в шубах, мороз, а он себе плещет!) и смотрела широченными глазами. Потом понял: глазищи такие от туши – обведены черной тушью прямо по векам, а ресницы той же тушью удлинены и слеплены. Она, кажется, даже окликала его, но не было слышно, только губы шевелились. Он, разумеется, понял значение этих расширенных, выжидающих глаз. Еще бы – не мальчик. Но она-то больно уж девочка. Бог с ней совсем.
Однако подошел, чмокнул в щеку (встретиться в ГУМе – как землякам в чужой стране!).
– У тебя здесь дела?
– М… нет.
– Пойдем тогда отсюда. Хочешь мороженого с лимонадом?
Юрка понимал, что теперешний лимонад был не тот, что первый, – он нарочно играл в эту игру. Они сидели в кафе. Девочка оказалась коротко остриженной. Держалась чинно. «Маленькая все-таки. Ребенок», – думал Юрка.
– Слушай, а что значит эта метаморфоза? И что ты творишь с глазами?
Покраснела.
– И вообще – где ты была?
– Я немножко снималась на Киевской студия.
– Хорошая роль?
– Очень прекрасный: месил ногами глину для… ну… для скотника…
– Что это за скотник?
– Где коровы живут.
– А, коровник! С такими глазами?
Опять покраснела и отвернулась.
– Дурочка ты. Сотри, пожалуйста.
– Сейчас не можно. Нужно с горячей водой.
И поглядела прямо, засмеялась. Зубы были не очень хороши, с пломбами, с желтинкой. А смеялась странно: будто чему-то своему.
– Ты живешь все там же?
– Да.
– Ну, тогда двинемся отсюда: темно, а проводить я тебя не смогу.
Она поднялась огорченно.
Юрка расплатился и догнал ее у гардеробной. Помогая надеть пальто, чуть притянул к себе.
– Ты клюй зернышки, птенец, а особо далеко не летай, слышишь?
И вдруг понял: да ведь это – аванс. Не точно обозначенный, но все же. А имел в виду отеческий совет.
И вот после этого она позвонила.
– Так что, Она? Ты мне хочешь что-то сказать?
– Я просто позвонила. Послышать.
– Хм! «Послышать». А «повидеть»?
– О! Да! – с той же открытостью.
И вдруг он обрадовался, заволновался…
– Чего ж ты никогда не являешься? Тут всякого люду наползает, как мурашей.
– Я не хочу быть мураш. Я…
– Какой «мураш»? Кто сказал «мураш»? Ты бабочка, или птица. Ну, когда прилетишь?
– Я… немножко прилетела, – с грустным комизмом отметила Она, и что-то было уже взрослое в тоне и незнакомое. – Я тут, возле дома.
– Жду, – коротко сказал он и повесил трубку.
Стал спеша засовывать в шкаф вчерашнюю рубашку, ботинки в количестве трех пар, выставленные у тахты, как на парад, разрозненные носки, брошенные на кресле брюки. Нет, порядка не получалось. Кроме того, было, наверное, накурено и пахло вином (он-то придышался, а для свежего человека…), открыл окно, пригладил волосы, вместо пижамных брюк натянул джинсы. Вот и все, что успел. Она уже позвонила.
Он отворил дверь, а там, на лестничной площадке, в полутьме, сперва как наткнулся на глаза, испуганные и ожидающие. Потом уже увидел худую, обтянутую мордочку (без грима) и всю девчачью, узенькую фигурку, тоже очень худую.
– Входи, входи.
Она ступила в квартиру и не огляделась, как это делают обычно. Она не сводила глаз с Юрия.
– Ну, чего ты?
Он помог ей снять невесомое пальто – крохотный, воробьиный кафтанчик, который удивил еще там, в кафе. Захотелось вдруг снова ощутить ладонью жесткие волосы, похожие на подсохшую траву (конечно, короткие – не то, но все же). Но вспомнил об электричестве. Искра, пожар… Видит бог, он ничего не собирается поджигать!
Юрий повел ее на кухню, зажег газ. Она протянула руки к лиловому пламени. Замерзшие, красные пальцы, тоненькие. Что-то уж больно она худа.
– В чем только душа держится, а?
Она не ответила и не отвела глаз. Юрка знал, почему она молчит, и нарочно произносил грубые, пустые слова, чтобы снять значительность момента.
– Чем тебя угостить? Чаем?
– Я замерзла, – сказала наконец Она, будто слова только что оттаяли в ней.
У неё страннее «л» – смягченное. Оно произносится как-то иначе, чем у нас: к нёбу прижимается самый кончик языка, чтобы прозвучало это беспомощное, ласковое «л»
Юрка поставил на стол чашки, достал из холодильник не доеденную гостями снедь.
– Садись, садись, погрейся.
Она стояла, отвернувшись, нагнув голову. Юрка поднял ее лицо. Оно – замкнутое.
– Ты что, Онка? Что случилось?
– Я поссорилась с я.
– С кем?
– С я. Этот я сердится, зачем я – к тебе.
– Ну, и зря сердится. Я тихий, добрый человек.
Юрке вдруг пришло в голову, что ей, может, обидна эта доброта. Такая. Ведь она не знает, как он старается. И Юрка пояснил терпеливо:
– Ты маленькая, а я старый и довольно несимпатичный тип.
Она не улыбнулась, как это сделали бы другие. Она сказала строго:
– Колдун не бывает молодой и старый. Он не имеет год. Как это сказать?
– Возраста.
– Да. Возраста.
Мягкие сумерки. В них бездумно уплывает нелепая кухня, с белыми шкафами (хозяин оставил за большие деньги), с застекленными полками, уставленными цветными чайниками, пиалами и восточными безделушками (по Нэлкиной прихоти).
Тихо. Тихо до прозрачности. Только странный перезвон, похожий на звук разбивающегося фарфора: цон-цони-цон! Так кричат галки, собираясь в стаи. Она сидит, закутавшись в плед, тот самый клетчатый плед, – наконец-то он нашел применение. А тишина и этот перезвон будто сопровождают ее: цон-цони!
С большой ели за деревней поднимается галочья стая – разрозненные занятые в бледном, сумеречном воздухе, а может, нотные знаки в незримо разлинованном пространстве – фарфоровая чашка ударяется о чашку, они разбиваются, мелодично распадаются на тонко звучащие куски. А внизу, на качелях, пристроенных к суку той же ели, узколицая, широкоглазая девушка, она, гортанно смеясь и вскрикивая и отталкиваясь ногами, взлетает к тёмной хвое и потом – у-ух! – стремительно к земле: вверх, в темное, перепутанное, еловое, и – вниз: трава, тропинка, выбитая под качелями земля. А рядом, в саду, вдруг падают сливы – все, шумно, разом.
* * *
– Видишь ли, Талька, сначала для меня был солдат. Старый уже. Не знаю почему. Может, потому, что – мама. Ведь она на фронте была. Или, может, шофер один. Сына он потерял. Представляешь? Сам выжил, а сын убит.
…Шел солдат с войны. А дом его спален, и убиты близкие. И жить ему не для кого, и рана болит. А лечь помереть, так смерть не идет.
И, знаешь, куда, бывало, ни пойду, все об этом солдате. Он у меня там девочку подобрал. Маленькую. Притащил и деревню (где она-то жила – сгорело). И вижу я этого старика иной раз лучше, чем вот тебя, скажем, или Онку. И девочку эту вижу – замурзанную, худую. Ей лет пять, не больше. И все не знал я, зачем мне этот солдат. А теперь вот – девушка на качелях. И тоже – зачем она?
– А ты объедини.
– Он старик.
– Может, девушка-то дочка его?
– Погибли у него все.
– Слушай, это та же девочка, которую подобрал. Только выросла. Он ее в деревню с собой взял. Ведь она не наша была, верно? Да и, поди, контузило ее в бою. Вот она и говорит не бойко. Но все примечает.
– Да, да, Талька! – Юрка вскочил порывисто. – Так и есть. – Постучал по лбу. – Голова-то – деревяшка! Давай запишем. Вот это пока. Ну-ну, а дальше что?
И началось, закрутилось.
Теперь Буров являлся ежевечерне. Виталий приходил с работы, а в коридоре на вешалке дубленка. Ему не надо было заглядывать, а что там, под дубленкой: там было пальтецо птичьей ужины. Маленький черный галочий кафтанчик и небрежно заткнутая в рукав шапочка с ушками (та, у которой постоянно затягивались тесемки). У Юрки был теперь свой ключ от квартиры (Прасковья Андреевна оставила, уезжая), и он, ожидая Виталия, ставил на плиту чайник. В кабинете на столе поселилась Юркина пишущая машинка; на тахте валялся тещин платок – Она (она всегда почему-то полулежала) куталась в него. А на оттопыренном пальчике амура, того еще, маминого, который поддерживал три собранные в цветок лампочки на торшере, висело простенькое (и дешевое, вероятно) Онино кольцо с бирюзинкой. Создание это, уцепившись за Юркин рукав, приходило сюда почти ежедневно. И непонятно как, но оно было причастно к тому, что творилось.
Человек идет через поле. Колосья. Нет, откуда же колосья? 22 марта. Солнышко. Весна. Ручьи под снегом. Вода спешит в овраг. Она смыла снег с прошлогодней – зеленой, не живой – травы, пригнула эту траву, трава стелется по течению.
Солдат смотрит на эту траву. Он и сампрошлогодний. Мертв. В глазах не оживает все это – так, мелькает уныло, почти не оцвеченное. Жаворонок в небе. Вернулся. Трепещет крыльями в пении за его спиной. Солдат не оборачивается. Скулы сжаты, брови сведены. И черные пожары в глазах, и плач ребенка над этим. И снова крик ребенка. Уже явный, не из видения.
Солдат мотает головой. Крик остается – немного странный, горловой, будто тщится перейти в песню. Солдат настораживается, потом бежит на звук. С пригорка, темного от обнажившейся земли, с копешки сена, слетают галки. Солдат бежит ближе, ближе – стой! На примятом сене – девочка лет пяти. Замусленный ватник застегнут у горла, не надет в рукава. Белеет худое лицо, обведенное черным платком. Она пытается встать, тянется к солдату. Он подхватывает худенькое тельце. Девочка закрывает глаза. Ее сон похож на обморок.
Через снег и грязь шагает солдат. Сквозь штанину сочится кровь. Он хромает. Проваливается в ямы, спешит, руки его крест-накрест сжимают крохотный островок жизни, готовый вот-вот оказаться под черной водой.
Солдат в избе. Длинная старуха молча подносит стакан молока. Девочка открывает глаза и вдруг припадает к молоку. Солдат смотрит жалостно, даже как-то по-бабьи. И мы впервые видим: он жив. Остался жив.
* * *
Шли дни. Лида не звонила. Устраивалась для новой жизни? Выдерживала характер? Ждала зова? Виталий вздрагивал от каждого телефонного звонка, от шума открываемой двери. Ждал? Боялся?.. «И холодно бессонным глазам…» Растерянность прошла. И раздражение тоже. Теперь все чаще помнился маленький Крапивин-Северный и дорога к нему из лесничества. Вечерами ездил, закатным часом: за мутным стеклом кабины шевелились ветки, черные на оранжевом, что-то говорил случайный шофер, рассказывал. И – мелькание стволов, и свобода без забот, и свои короткие дорожные мысли, и удалая какая-то веселость, а все вместе – Лида. Все шло от нее. Только он, мальчик еще, по понимал.
И как он стоял в полутьме возле ее дома, и Лида открывала дверь в прочность и покой (теплый свет в глаза, теплый дух в лицо).
– С дороги?
Виталий думал: заботится. Если с дороги – скорей накормить. Теперь знал: хотела безраздельности. Чтобы сразу – к ней. И радовалась, когда было так (так было почти всегда).
Прасковья Андреевна, в те годы еще более шустрая, собирала на стол. А уж потом не путалась, шла за переборку.
– Ну, рассказывай, что там наш Рольф в лесах? (Они оба тогда любили Сетон-Томпсона – с тех пор, как Виталий принес Лиде эту книгу, толстую, в коричневом переплете с золотом, еще, наверное, отцову. Он сказал Лиде: «Для меня лучшей книги нет. Пусть – у тебя, ладно?» И она поняла, кивнула благодарно. Вот потому Виталий и назывался «Рольф в лесах»: лестная кличка.)
– Ну, так что наш Рольф?
– Он, Лида, за деревьями леса не видит. Он, как бобр, своими зубами грызет сухие деревья, потому что рабочих нет, и скоро будет, как пчела, опылять деревья.
– Бедный Рольф!
Она капельку подсмеивалась, и неудачи казались не такими уж тяжкими. Как он тянулся к ней в те дни!
Виталий – почти сорокалетний уже человек – оглядел комнату, заставленную полками, сразу увидел среди Лидиных книг Сетон-Томпсона – тот самый том, коричневый с золотом. Берегла.
Лидка, как же так?
Резко зазвонили у двери. Она! Лида! Вот и отлично! Все изменим… «Регенерация» – есть такое слово: восстановление… Уж если ящерица может восстановить оторванный хвост, а рак – клешню… А почему, собственно, звонит? Есть ведь ключ. А, чтобы он открыл…
Виталий думал так, пока бежал через коридор. Распахнул дверь. На площадке стояла сияющая Пашута.
– Папка! – Она так порозовела за дни отдыха, так рассиялись яркие и нежные глаза! – А где мама?
– Пашутик-Парашютик, дорогой! Ты почему одна?
– Бабушку похитили разбойники, чтобы взять с тебя выкуп.
И рассмеялась своей шутке – милое, ни в чем никогда не виноватое создание.
– Уф! Уф! – отдувалась теща, взбираясь по лесенке. – Хватит миловаться! Виталь, у нас тут заело замок от чемодана…. (Прасковья Андревна была не в ладах со всякой техникой, даже с чемоданной.) Пашута, поставь чайник! Ну что, Виталь, открыл? Молодец! Куда ты мои тапки забросил?
– Вот они, Прасковья Андревна.
– Как Лидушка?
– В командировке.
– Что это? Вроде не собирались. Где же?
– По разным городам.
– Ну-ну! Работа какая колобродная! Пользуется, что муж безответный.
Теща любила его. Господи, как все рвать? Вот оглянулась на дверь Пашутиной комнаты, зашептала:
– Ух, дочка твоя – прямо закружила всех! Парни за ней хвостом. И веселая была. Думается: может, и ничего, может, найдет судьбу.
– Рано ей о суд кис Прасковья Андревна. Пусть свою не высшую математику учит: (х-у) 2…
– Ну-ну, и то верно.
И теща потопала в кухню – делать ревизию их с Лидой «холостяцкому», как она говорила, житью.
Пашута, отпросившись у бабушки, помчалась к подругам. Виталий ушел в свою комнату. Прасковья Андревна, как всегда, стала топать и шаркать у его порога.
– Ты что, уже навечно теперь ааючился? Или чаи со мной погоняешь?
Но тут позвонили в дверь. Старуха открыла и так и накинулась радостно:
– Ох, пришел, земляк! Пришел, разбойник! Да уж и пытала я сколько пытала: где он, где дружок закадычный?
– Здравствуйте, теть Паш! Ну, вы цветете! Теть Паш, познакомьтесь. И обогреть бы чуть… Виталий дома?
Юрий вошел, обескураженный:
– Ты говорил… Оначто, вернулась?
– Нет. Прасковья Андревна вернулась и не в курсе.
– Как же так?
– Они с Пашутой на каникулы уезжали, а в это время…
– Хм. И ты ей – ни-ни? Надеешься?
– Не знаю, Юр. Ведь себя тоже не поймешь.
– Видать, что так, – резко ответил он чему-то своему, – не поймешь.
Вошла Она.
– Эта женщина кто? – тихо спросила она. Спросила Юрия.
– Это Виталь Николаича теща, – с легким поклоном отметил он (Виталий удивился: неужели никогда у Юрки с Оной не было и слова о нем?). – Я разве тебе не говорил? Этот красавец увел у меня любимую тещу. Хороша старушка?!
– Очень прекрасный, – серьезно ответила Она.
– Виталь! – ухмылялся Юрий. – Тебя Прасковья Андреевна зовет «Виталь». Ты добрый?
– Может, поработаем?
– Непременно. Но ты добрый?
– Нет.
– Почему?
– Потому, что если делаю доброе, то из эгоизма: иначе себе дороже стоит.
– А! Ну, ясно.
Она переводила глаза с одного на другого, но в них не было вопроса. Видела Юрину взвинченность и не удивлялась. Может, поняла?








