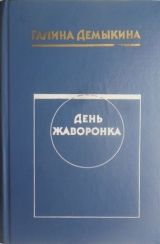
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
«Увел»! Значит, так и есть, увел. – Виталий сел на мостовую. – Увел!»
– А кто его знает?
– Я гляжу – чужой.
– Ходит он тут к одному, брат вроде.
– А к к… кому?
– Не знаю.
– Вот гад так гад!
Постепенно стали расходиться. Виталий все сидел. Он долго сидел, плохо соображая. Уже было за полдень, думать, что парень вернется, не приходилось. Возле топталось несколько ребят.
– Надо заявить в милицию, – сказал один из парней. – Вещь заметная, если будет заявлено, сразу отберут.
– Он продаст.
– И продать не дадут.
– Спрячет.
– Найдут.
– Пошли?!
– Пошли.
– Мы свидетели. Двинулись к милиции.
Потом Виталий остановился. Вещь дорогая, начнут копать, где взяли да на что купили… Мать книги отцовы продала. Книги у него ценные. Но ведь не в библиотеку пошли, не в букинистический магазин. Кто такой Иннокентий Петрович? Частное лицо. И дал он, конечно, дороже, чем цена проставлена… Спекуляция, значит…
Почему такое полезло в голову? Где она таилась, эта робость? Страх этот… Да Иннокентий этот – он известный скупщик, про него лучше не заикаться. Только маму подведешь! А как же тогда? Как маме-то сказать? Может, так: «Одолжил»…Да, пожалуй, так.
Мама, когда услыхала это «одолжил», ахнула, не поверила и горько расплакалась. Он бегал по городу, заглядывал в чужие дворы; он ходил за восемь километров в Мухановку. Нет. Сгинул.
Вот Юрке бы сказать. Но тот не попадался. И только дней через шесть постучал у дверей. Сам постучал – Виталий не поверил даже.
– Входи, Юр.
– Не, не. Ты вот чего – спроси у Елены-то Петровны, не даст ли мне учебник на вечерок: свой потерял где-то.
– Войди, сам и спросишь.
– Неловко мне. Я тут постою.
Виталий бросился в комнату, счастливый подарком: сам Юрка Буров пришел (будто уж не у кого было взять учебника, как только у учительницы), а вернулся к пустому крыльцу. Да нет, не к пустому: привалясь к завалинке, чуть видный в темноте, стоял, живой, еще теплый с дороги велосипед!
– Мама! Юрка нашел его! Мама!
Это был маленький подвиг во имя дружбы.
Часть II. Серым по серому
Гл. V. УчёбаЮра Буров ходил по московским улицам: одни из них – любимые, на других – табу, запрет. Город он знает дотошно, как это и положено провинциалу. Москва для него как чужой язык для хорошо обученного иностранца – с суффиксами и окончаниями, фонетикой, синтаксисом, с центром и пригородами. Юрка всегда дает отличные справки прохожим. Он, к примеру, знает: если идти по Пятницкой к центру, то окажешься возле дома № 40, где помещалась фирма «Глориа» – та самая, в которой бесславно начинал свою деятельность блистательный кинорежиссер Протазанов. Дальше пойдет такое странного названия место – Балчуг. Направо набережная. Не свернешь – еще одна набережная, Раушские улицы – от немецкого, вероятно, слова «rauschen» – шуметь, журчать. Нет, он не турист, не заглядывает в справочники, просто строит догадки. Ведь по Яузе плавал Потешный флот Петра Первого, и улица сохранилась – Потешная. И кладбище строителей-немцев Немецкое – вот потому же и Раушские переулки. История.
Хождение по городу теперь уже не было ознакомлением. Скорее – закреплением пройденного. Юрка бывал здесь и прежде: сперва заочно учился в педвузе. (Смешно: он должен был стать учителем черчения и рисования, как в его время Вошка – отец Кости Панина.) Даже намечтал, как сломит школьную инерцию, сделает эстетическое воспитание главным, как будут слушать его и волноваться, отвечая. Это ведь можно запросто: тут многое от преподавателя зависит!
Не стал он учителем. Еще в вузе понял: нет. К тому же из Крапивина уехала Лида, а ее присутствие весьма подогревало Юркины просветительские мечты.
Еще тогда, приезжая на экзаменационные сессии, Юрка услышал о курсах для «бывалых». А он к тому времени уже кое-что повидал: и шоферил в леспромхозе, и там же вместе с вербовочными работал на лесоповале, – сколько пьяных исповедей слышал, дружб и драк повидал (да и сам, пока утверждался, попадал в переплеты: ему же верховодить надо было, без этого ему не жизнь!).
И вот теперь Москва. Сперва до отчаяния доходил: уставал от шума, от скоростей, нечем было дышать, не за что глазу зацепиться (ведь и глаз привыкает к пейзажу с деревьями, к деревянной, низкоэтажной архитектуре, к просторному обзору).
Потом увидел в музее картины, часть из которых знал по репродукциям – малым открыткам в альбомах Виталия, – и остановился от счастливого толчка в груди.
Увидел Соборную площадь Кремля, плывущие в светящемся полумраке кресты над царицыными палатами.
Пропитался наполненной тишиной читальни, где прочитанная книга только разжигает жадность. И – был покорен.
Нет, столица не только шум и суета, врете вы, приезжие!
Постепенно город вошел в глаза и сердце полюбившимися улицами, домами, привязал дружбами, щемящей памятью встреч и утрат. Есть такая изогнутая улица Димитрова. Она уже много-много лет – табу. Вот что случилось с Буровым здесь.
В первую же свою столичную весну забрел на эту улицу просто так, из любопытства, забрел, потому что жил рядом. А вернее, как говорят, нелегкая занесла. Будто поманило что. И вдруг заволновался. Вошел, огляделся: ничего.
А уж навстречу, гордо откинув голову и победно стуча каблуками, шла больная его память, тоска его и горе, шла та, ради которой каждую ночь возвращался мысленно в Крапивин-Северный, ради которой столько раз бегал на вокзал читать таблички на вагонах: «Москва – Архангельск»: к их общим родным местам пойдут…
– Лида! – позвал Юрка.
Она не услышала. Но это была она. Нет других таких глаз с голубыми белками, ни у кого нет такой величественной походки и всей этой стати королевы, которую лишили престола.
В одной руке женщина несла портфель, в другой – набитую продуктами авоську.
– Разрешите помочь!
Оглянулась. Осветилась улыбкой. Он забыл, какие у нее белые неровные чесночники зубов. Забыл ее манеру в разговоре еще больше запрокидывать голову.
– Как ты попал сюда?
– Я учусь в Москве.
– А сюда, в этот переулок?
– Нет, Лида, не через адресный стол. Это случайность. Чистейшая.
Она серьезно кивнула. Он пошел рядом, взяв у нее сумку и портфель.
Он ведь повзрослел за это время, стал смелей. И, кроме того, они здесь свои, крапивинские – в чужом городе.
– Хочешь, я буду каждый день носить твои вещи? Хочешь – в зубах, а? Или могу облаивать всех, кто на тебя посмотрит!
Она погрустнела:
– Не хочу, Юра. И потом – на меня никто не смотрит. Здесь не Крапивин, и мне уже много лет.
– Но тот, кому надобно, смотрит? – Он все не решался на прямой вопрос. И ей, видно, не хотелось этого разговора.
– Заходи, если будет время. Звони.
Вытащила из портфеля ручку, вырвала листок из блокнота. Написала все про себя: телефон такой-то, адрес… И он написал о себе, подал. Но от этой её уклончивости (есть, стало быть, от чего уклоняться!) что-то у них сломалось. Теперь можно было просто спросить: «Ты у мужа живешь?» И она ответила, что да. Юрка не вполне расслышал, но боль, ослепившая так, что потемнела улица, боль эта дала понять: не ошибся.
– Ну, совет да любовь, как бабка моя сказывала.
– Спасибо. – И опять тряхнула головой, и светлые, ровно остриженные волосы колыхнулись не в лад (не в лад, не в лад).
– Может, украсть тебя? Увести? А? Ведь нет же тебе счастья – я вижу!
– Ты ошибаешься, Юра. Я люблю своего мужа.
Он много лет потом обходил эту улицу. Но она болела в нем, дергала, как нарыв.
* * *
Если на растопыренные средний и указательный пальцы левой руки наложить такие же пальцы правой, получается клетка, рамка. С ее помощью можно взять в кадр, как бы отделить на секунду от всеобщего движения самые разные куски жизни. Вот попробуйте. Юрке порой везло. Особенно в читальне, где, бывало, из глыбы тишины высечется смазливая и до последнего (нет, до предпоследнего) предела серьезная рожица, поведет черным оком… Или на лекции попадется вдруг затылок, рука, пишущая записку (при желании даже можно увидеть, кому и о чем, – рамка очень организует материал!), чей-то зевок в профиль (если в профиль, то ползевка?) и сияющий глаз преподавательницы (ах, эта попытка равновесия в интеллектуальной жизни: кому-то сиять, а кому-то зевать!), ее смуглая щека, короткий нос, чуть вывернутые губы.
– Вы увидите сегодня немые фильмы Протазанова. Помимо прочего обратите, пожалуйста, внимание, как Александр Яковлевич врезал надписи: на артикуляции, на открытом рте. Говорит человек два-три слова и – надпись. Режиссер как бы сблизил изображение и текст: здесь – подспудная потребность звука, который, как известно, не всеми мастерами кино был принят. И даже Чаплин…
Юрке немного стыдно за самодельную кинокамеру, но это ведь не от скуки. Нет, нет, ему интересно все, он хватает, пьет, поглощает! Немое? Да. Звуковое? Отлично. Цветное? Давайте сюда!
– Открой свою детскую тайну, Буров, – окликнул его как-то один из однокурсников – Виль Аушев (о нем еще будет речь). – Ты часто проглатываешь тех, кого слушаешь?
– Да, – без улыбки ответил Юрка и добавил помягче: – Иногда, правда, разжевываю. У меня исключительно крепкие зубы.
– Это важная деталь в нашем деле, – отшутился тот.
А читалка! (Вернее, кабинет кинорежиссуры на втором этаже ВГИКа!) Юрка почти по нюху забрел сюда (хорошо еще пропуск курсов захватил) – и просиживал все вечера до закрытия и все творческие дни!
Газетные вырезки, книги, журналы…
…Теория «киноглаза» Дзиги Вертова: жизнь, как она есть, «жизнь врасплох». (Что это? Киножурналистика? Или может дать что-то для художественного кино? О. Юрка тогда еще не видел фильмов, где вымысел могуче подкреплялся подлинными кинокадрами. Это предстояло.)
«…Я всегда старался заставить своих героев жить в новых, неожиданных измерениях реальной действительности…» Это – Феллини. Совсем другое представление о кино. Что это за « неожиданные измеренияреальной действительности»? Интересно вот как! – но что это? Понятно, что именно это для него – искусство. А если не неожиданные измерения, тогда не искусство? А, дьявол! Поди разберись!
«…В искусстве жизнь должна быть соединена с фантазией, без этого я не мыслю творчества». Старый театральный режиссер Мильтинис будто вторит великому киномагу.
«…Что такое «доверие к действительности»? Вы поймете меня, если я скажу, что заснятие на пленку представления «Мнимого больного» не имеет никакой ценности, ни театральной, ни кинематографической, но если бы камера имела возможность запечатлеть последние минуты жизни Мольера (как известно, Мольер умер на сцене, во время представления «Мнимого больного»), то перед нами был бы поразительный фильм…». Это – Андре Базен. Он вроде ближе к Дзиге Вертову и отрицает обоих предыдущих. Все ищут, и все – разное. Где истина? Нет, не истина вообще (истина в искусстве – победа художника). Но для меня? По какой дороге мне? Лично мне?
И совсем странное, не до конца понятное, но вызывающее смутное чувство зависти: «Работа теперь совпадает со всей моей жизнью». Так сказал все тот же Федерико Феллини, сделав уже несколько своих удивительных фильмов.
Юрка бы, может, по молодости прошел мимо этих слов, но обжегся об уголья, тлевшие под ними.
* * *
С однокурсниками говорил мало. Писал свои первые учебные работы. Давно, в самом начале, было наивно намечтано съездить в Крапивин-Северный. С кинокамерой. Она-де пройдет по центру города – тихому, с картошкой и помидорами вдоль овражистых улиц; по бабкиному лицу, склоненному над самоваром, и – если удастся – за ворожбой (где и когда еще встретишь такое?!), по столичному автомобильному простору, и – снова Крапивин, дощатые тротуары, река, полная облаков, сосновый борок. (Теорию «киноглаза», как мы видим, стороной не обошел.) Юрке хотелось, если удастся, снять одну из старинных «вечерин» – северных посиделок, которые помнили и исполняли теперь только старухи, – но как! И какие лица! Таких в Москве днем с огнем не сыщешь. Юрка вообще ощутил здесь, что оторвись он, отрекись от своего Крапивина – и ему так же мало будет что сказать, как и большинству его однокурсников.
«Хочу, хочу знать не меньше ихнего, а черпать из своего. Они все больше из чужого, а у меня есть. Свое».
Но скоро понял, что до Крапивина и после курсов-то не добраться: кто доверит ему? Поверит вкусу, выбору, нужности материала? Кто оплатит?
«Так съезжу, в каникулы». (Юрка сперва крепко скучал по дому.)
А тем временем шла учеба. Режиссерская раскадровка по заданной теме; рецензия на показанный фильм; операторская экспликация… И каждый непременно должен отчитаться на занятиях. Только и гляди, как бы не попасть впросак. А вот, пожалуйста, задание: режиссерская разработка картины любого художника. Что взять? У Юрки никогда нет ничего готовенького. Но уж картина-то! Ведь он художник. А ему все сложно да тяжело. Помнится, Виталий рассказывал про дуб. Туговатый он. Вот-вот!
– Я по Брейгелю, – говорит один. Это все тот же Виль Аушев. Он не больно юн, руки его тонки, но тяжелы, будто устали, а голос уверенный, И кажется, что за словами – еще бог знает сколько всего и что человек недоговаривает, щадя ваше время.
– Питер Брейгель, «Безумная Грета», – говорит он и дальше читает:
Грохот взрывов. Дым и пламя.
Сине-черно-красное небо.
Грохот сапог, хотя идущие ноги
Обуты в мягкую обувь.
Юрка съеживается: «Я не смогу так…» Грохот сапог, хотя ноги обуты в мягкое… «Или смогу? Хм, почему они всё Брейгеля берут или Босха? Открыли для себя? Полюбили? Или, может, мода?»
Когда высказываются, Юрка молчит.
– Буров Юра, ваше слово, – спрашивает педагог (он всех спрашивает).
– Нет пока слова. Если можно, повременю.
Гордость боится ушибов. А энергия, молодой напор требуют выхода. Только «выход» не должен никого насмешить.
Юрка идет в музей. Там интересно многое, но есть объект особого притяжения: полные света и ясных тонов залы Ван Гога, Матисса, Сезанна.
А вот картина, которая выставляется редко, Юрке просто повезло! – на ярком фоне травы и неба (трава без цветов, небо без облаков, все – без оттенков, как залито краской!) розовые неповоротливые, нелепые, похожие на улиток, вылезших из раковин, фигурки людей. А может, эти телесные глыбы – дельфины или саламандры? Нет, нет, – люди. И они в нескладности своей прекрасны, потому что необычны и потому что дело, в которое они погружены, тоже прекрасно и не каждодневно. «Музыка» называется эта картина, и существа эти, задумчивые, беспомощные в своей увлеченности и духовности, погружены в музыку.
Юрка шел домой и пел: «Музыка, му-узы-ка…» Вот про какую картину он будет… А потом только сообразил: должна же быть музыка. А какая? Стал слушать, благо консерватория рядом. Ужаснулся своей неосведомленности. Но потом вдруг понял: найдет. Нужное найдет и так.
Потому что то, что слышал, говорило ему отчетливым языком, минуя разум, – прямо из души в душу.
Однако читать работу пришлось прежде, чем была найдена музыкальная вещь.
Волновался, идя на занятие.
Слушали серьезно. Но – до предела. Зачем, зачем в конце работы он позволил себе наивно такое личное: «Звук рожка умолкает. Мелькание цветовых построений, как бы пришедших из абстрактного мира музыки, постепенно успокаивается, пропадает. И мы снова видим их. Беззащитных. Похожих на улиток, потерявших свой жесткий домик. Любой порыв ветра повалит их, любой оклик заставит болезненно вздрогнуть…»
– Что ж, по-вашему, искусство делает людей слабее? – спросил тот, кто читал про «Безумную Грету».
Юрка обернулся резко:
– Искусство?.. Что там – слабее! Да оно, как гром в поле, убивать должно!
– Убивает не гром, а молния.
– Все равно. И чтоб воздух сразу свеж, и зелень из земли перла, и…
– Это называется, Юра, «катарсис», очищение. Об этом уже несколько сотен лет назад…
Все уже имело, оказывается, свое название, все было замечено, на всем стояла печать слова… Он вечно ломился в открытые двери!
– А какую музыку вы бы взяли? – спросил преподаватель.
– Не нашел еще. Но я найду. Может быть, Прокофьев.
– Возьмите Малера, – посоветовал всё тот же Виль Аушев. Говорил он теперь очень серьезно и доброжелательно. Может, из-за внимания, с каким отнесся к Юркиной работе педагог: ведь все они немного лебезят перед отцами-наставниками, кто явно, кто по-умному. И это лебежение удивляло крайне: что же они, отцы эти, подадут, если тебе сам господь бог не подал? (Он был наивен, как видно из описания, этот Юрка Буров.)
Юрий давно и настороженно присматривался к Аушеву: не очень уже мальчик, с разболтанной походкой, будто усталыми кистями холеных рук, которые постоянно надо куда-нибудь положить – на стол, на ручку кресла, на диван, – иначе им утомительно. Человек с живыми, яркими глазами из-под беспорядочной поросли бровей. Юрка слышал много раз его уверенный голос через всю аудиторию:
– Уже было, старик! Бывало! Подумаешь, предел восторгов – актер перевоплотился! Вон американец Лон Чаней был неузнаваем в каждой роли – родная жена путала… а кто теперь его помнит?!
Или:
– Э, да ты читала Жоржа Садуля! Но зачем, дорогая? Может, ты вообще любишь авторов, у которых нет своих теорий?
Буров ощущал принадлежность этого человека к другой стае, робел, сталкиваясь с его эрудицией: боялся показаться простачком… Нет, разумеется, Юрка знал в себе силу, но не хотел, никак не хотел усомниться в ней. Потому и держался поодаль, хотя, если уж быть совсем честным, надо признаться: брал в библиотеке книги, о которых кричал Виль.
Однажды Виль Аушев сделал попытку разговориться с Буровым. После лекции довольно известного мастера кино, большого любителя киноанекдотов (и такие встречались, врать не будем), догнал Бурова у входной двери:
– Ну, что скажешь? Юрка пожал плечами.
– Ради этого ты ехал за сотни миль?
Такой разговор не устроил Юрку:
– Время мы теряем равно: ты – сорок пять минут и я – сорок пять. При чем здесь мили?
Аушев схватил его за рукав, и Юрка на миг ощутил влажную мягкость его ладони.
– Слушай, Михайло Василич!
Юрку передернуло. В устах Аушева даже от Ломоносова оставался главным образом его поход в лаптях.
– У меня другое имя.
– Знаю, знаю. А слышал? Есть предположение, что Ломоносов – сын Петра Первого. И рост, и стать, и Петр бывал у них, да и, придя в столицу, говорят, отец повел Михаилу прямо ко двору.
– Откуда взял?
– Не помню, читал где-то. А вообще-то я к тебе по делу.
– Давай тогда уважать друг друга. У меня есть имя. Юрий Буров.
– Вильям Аушев, – церемонно представился тот. – Воровская кличка – Блоха. – И оживился: – А что ты думаешь? Я, между прочим, и правда был вором. Сидел даже. В детской колонии.
Юрке хотелось сбить этот полусветский тон, что-то не устраивало его в бывшем воре. Или, может, похвальба по этому поводу. А еще верней – первое обращение. Он уже начинал догадываться, что многие здесь не умеют построить свою оценку явлений и людей и потому все, с чем сталкиваются, поселяют в готовые домики. «Михаила Ломоносов – гений из народа», «чеховский герой – нытик-интеллигент», «хемингуэевский диалог – подтекст больше текста»… Юрка разжигал свой протест, кипел внутри: читают, чтоб потом ничему не удивляться; чем больше прочитал, тем больше готово домиков – втискивай, вталкивай и них. Ну, а если не лезет? Похоже, да не то?
В тот день разговор их на том и оборвался: кто-то окликнул Аушева, подошел, закрутилась другая тема, и Юрка поскорее распрощался.
Теперь, после обсуждения Юркиной работы (вполне, надо сказать, доброжелательного и заинтересованного), Виль подошел снова. Но на этот раз, как и в зале, на «вы».
– Хотите послушать Малера? А то я выкрикнул и не подумал, что у вас может его не быть.
– Спасибо. – Буров был рад. У него, разумеется, не было Малера.
– Тогда прошу вас ко мне. Я живу рядом.
– Хорошо. Только того… мы вроде бы говорили друг другу «ты».
– Разве? – притворно удивился Виль. – Ну, воля ваша. То есть твоя. Я – со всем уважением.
«Вот юла! – опять тайно раздражился Юрка. – Не можешь в простоте? Не хочешь? Тебе или повелевать надо, или лебезить, так, что ли?»
Они шли по улице, обсаженной молодыми липками, и у Юрки было ощущение неловкости, неловкости чисто внешней – от развинченной ли походки спутника, от своей ли угловатости рядом с обтекаемым изяществом Аушева. Говорил Виль:
– Главное – не повторять. Все должно быть ново, чисто, с иголочки. А как? Уже столько наснято, все вроде бы найдено-перенайдено.
– Так уж и все? – возразил Юрка. – Это вроде бы не задача: «ново». Что-то еще должно быть.
– Ты что ж, против эксперимента? «Не тужьтесь, мои дорогие, над формой, не напрягайтесь, как это было с одним известным режиссером, который…» – Он теперь ловко передразнивал недавнего лектора: – «Кино – это искусство, связанное с движением, кинетическое искусство, и потому всегда должно… всегда должно, должно…»
Юрка рассмеялся. Удивился: здорово вышло! Впервые за весь разговор что-то в душе помягчело.
– Нет, Виль, – досмеиваясь, сказал он, – я про другое. Ведь важно еще – о чем мы говорим, а не только как.
– А, форма и содержание?!
– Иди ты знаешь куда! Я говорю, что Достоевский, например, всерьёз изучал Фурье, а Феллини, говорят, интересовался метафизикой и оккультными науками…
– И нам, ты считаешь, тоже оккультными?
– Нет, я серьезно. Что-то же мы хотим сказать? Такое… что только мы… ну, что не может никто другой.
Аушев остановился, живые глаза его источали вроде бы даже восхищение.
– Вот я и говорю: ты – то самое. Я всем это говорю. Я ведь вижу. А они… – И махнул рукой.
Юрка не стал спрашивать, кто онии чтоговорят. Удивило другое: его непримечательная личность обсуждена, о ней даже спорят.
– Хм, смешно. Сидишь вроде тихо, никого не трогаешь…
– Ты, брат, сидишь с вызовом. Ты молчишь и таишь, это сразу видно.
– Что мне таить?!
– Есть, есть что. Я слышу твой бунт. И ты прав: пришел на курсы эти, пробился, а – не то. Верно? Все не по делу. Только вот что фильмы показывают.
– Да я, наоборот… Мне… Мне все это вот как нужно!
– Не спорь! Тут толковому человеку надо действовать самому.
Комната Вильяма. По стенам – стеллажи с книгами, из стеллажа выдвигается доска – получается стол. Еще место остается для тахты, покрытой чем-то клетчатым и пушистым, а на подоконнике два декоративных зверя – лев и обезьяна. Оба прямо-таки нездешней красоты.
Юрка огляделся и, кажется, позавидовал. Хотел бы? Да, да! И не только книги, но и зверей, и весь дух уединения и покоя. Хотя уже где-то подспудно знал, что ему этого не дано. Нет, достаток может быть, уединение тоже с грехом пополам, но вот это прекрасное сочетание: «…и покоя».
Пока хозяин ставил на выдвинутый стол кофейные стаканчики в деревянных подстаканниках и варил тут же, на крохотной плитке, кофе, гость ходил возле книг и вскоре уловил систему: все левое крыло было заставлено тщательно отобранными и, вероятно, читаемыми книжками большой литературы – от Данте, через Достоевского, Кафку, Фолкнера, до Андрея Платонова, Цветаевой, Пастернака, Рильке. Было тут множество сборников по фольклору и различных словарей – и словарь Даля, и философский, и дипломатический. По другой стене размещались книги, связанные с французской живописью. Дальше – кино. Вот он, знаменитый и ничуть не уважаемый Вилем Аушевым Жорж Садуль, а вот книги Эйзенштейна, Пудовкина, Кулешова… Да ведь это счастье – сидеть вот так не в читалке, а дома, на мягкой этой клетчатой тахте, и читать, потягивая кофе из кофейного стаканчика!
* * *
Юрка не жил в общежитии. Отправляя его в Москву, обе женщины долго совещались. Мама плакала:
– Теперь свидимся ли?
– Мам, ну чего вы? – неумело утешал Юрка. – Ведь уезжал уже, когда шоферил, так два года дома не был. И в Москве живал. А вернулся же.
– Что ты, сынок, равняешь? – вдруг с прямым, трезвым взглядом обернулась мать. – Была у тебя здесь приманка, теперь нету.
И Юрка понял, что его тайна не тайна для городка. И еще – что матери тяжко будет без него, что обидна его тяга не к дому, а к какой-то неизвестной Лиде. И что в самом деле не вернётся он в Крапивин-Северный: чем бы занялся он здесь, окончив режиссерские курсы? И уже потом, в дороге и в первые месяцы московской жизни, по-детски как-то мучился, вспоминая об этом прощании. Ему было жаль той красивой, озорной, белозубой, которая до войны таскала его за вихры. И эту – больную, прибитую, оглушенную войной – тоже было жаль, и хотелось поскорее не думать. Бабушка при сборах была деятельна, сложила в чемодан все сама, и все, надо сказать, нужное. И еще дала адрес:
– Поезжай к Дуне, сроднице нашей. А я буду что ни месяц посылки слать. Живи у Дуни.
Дуня старая, грузная. Она была рада: все одна да одна, а тут человек возле, и достаток появился – бабка не скупилась на варенье, грибы, вяленую рыбу, а как резали скотину, то и мясо присылала. Дуня была человеком великой доверчивости и вскоре оформила опекунство и прописала «своего крапивинского» к себе на площадь (и, надо сказать, ни разу о том не пожалела).
Юрка тогда не знал меры этой щедрости, не знал ей цены, но стараться для старухи старался, даже не зная. Уважительность к старшим (бабкина, верно, еще, от той, давней российской деревни) в нем была. Но как жалка, как духовно бедна была эта его комната, в которую вечно просачивались чад и брань из общей кухни и в которой, кроме приносимых Юркой из библиотеки книг, не было ни одной.
«Хочу как у Виля, – страстно возмечтал он. – И так будет».
Забегая вперед, скажу, что оно не стало так никогда. То есть пришел и достаток, и квартира, и даже плед на тахту был куплен примерно такой же (о сила первых впечатлений!), но ему и вправду ни капельки не было отпущено от того прекрасного сибаритства, которое разрешает, отстранив легким движением руки планы и дела, пить кофе, сухое вино, коньяк и читать, размышлять, погружаться в нирвану. Здесь должно быть нечто от усталости, подготовленной опытом ли предков, своим ли ранним опытом; должно быть нечто вбирательское и – да простит мне Виль Аушев и другие, которых я уважаю и ценю, – светское и антитворческое. Нет, никогда подземные толчки не дадут тебе, Юрка Буров, спокойно усидеть с чашечкой кофе в руках! Рывком поставишь ты ее на стол, облив полированное дерево, и побежишь по комнате, замечешься, как зверь, в капкане своих, своихдум, пошедших внезапно от столкновения с чужими (кто это будет – Томас Манн? Достоевский? Ван Гог?). И так – пока не выплеснешься весь. До конца. В том, где суждено тебе сказаться, – будь то кинокадр, а может, и полная лента (редкая удача!). Призвание, Юрка, носят, как горб, как недуг, это вовсе не радость и не счастье. Только ты пока не знаешь этого. Одержимость – вот во что оно выливается. А разве счастлив тот, кто одержим? Это другим он может нести очищение, высокую радость, даже исцеленье.
А может – все не так (я о Юрке). Может, я приписываю ему то, чего и нет вовсе. Может, просто захочет он такой вот квартиры, душевного покоя, достатка (даже не богатства, просто достатка) и заживет спокойно и безбольно. Тогда можно порадоваться за него. Тогда можно оплакать его. Я не знаю, что нужно человеку. Этого чаще всего не знает и он. Только дальние удары о берег тех волн, той стихии, которую обошел он (или к которой не дошел), только тупая, отраженная от этих ударов боль, да беспокойные просыпания по ночам, да ничем не объяснимое раздражение на все проявления гладкой, вроде бы благополучно текущей жизни – вот и все, пожалуй, тайные знаки, которые сложатся в понятие «но состоялось»: то, что должно было стать, – не стало.
Так можно ли радоваться, если захочется тебе уединения, и покоя, и чашки кофе над прекрасной книгой? Можно, можно, если это – ТВОЕ. Если это, именно это утолит тебя и обогреет. А если нет?
– Хватит мотаться по комнате, – позвал Виль. – Кофе стынет. А кофе должен быть или совсем холодным, или совсем горячим.
Юрка хмыкнул ему радушно, так, что дрогнула и ожила его рваная ноздря.
– Разбойный у тебя вид! – восхитился Виль. – Очень колоритный. Я весь обзавидовался.
– Рожа должна быть приманчива! – повторил себя Юрка и вспомнил крапивенский вечер, костер за рекой, запах вскопанной земли.
…Надо Виталия разыскать. А где? Может, адресный стол потревожить?
И вдруг вообразил встречу. И дрогнуло в душе. Да, это вам не Виль. При нем мысль бойчее ходит!
У Виля был еще коньяк. И персики. Он чистил персики серебряным десертным ножом – очень как-то вальяжно и матерьяльно (опять же на зависть!). Слушали симфонию Малера. Юрка понял: это прекрасно и, вероятно, – то, не мешало общество Виля, его редкие реплики (редкие, но Юрка ждал их, не был свободен). А еще у Виля было конкретное предложение:
– Слушай, давай вместе сделаем курсовую? Если вдвоем, вместо стометровки двести метров дают.
– Надо подумать, – ответил Юрка. Он уже к тому времени понял, что из простого брожения кинообъектива ничего не выйдет: нужен сюжет. Да и бродить этому объективу вдали от столицы никто не даст: нужно минимум затрат. И потом ему начинал нравиться этот Виль. Ничего парень, сойдет на новенького.
– Понимаешь, Юрь Матвеич, здесь в основе должен лежать анекдот. Завязка – кульминация – развязка.
Он был прав. Стали перебирать случаи.
– В наших краях такую байку рассказывают. Приехало в колхоз районное начальство для досмотра. Ну, председатель сразу водочки, закуски – и на лужок, на природу. Сидят. Только разговор пошел, а тут самолет-распылитель. Ну, знаешь, чуть не фанерная такая штуковина, поля химикалиями от вредителя посыпает. Летчик приспустился над пирушкой-то и позавидовал. Взял да и посыпал их. Всю снедь запорошил. Тут бухгалтер не выдержал (убыток какой – и зазря!), схватил бутылку – да в самолет! И вот ведь дело – попал! Да и пробил там что-то. Одним словом, падает самолет. Летчик, однако, жив остался. Ну, машина повреждена – суд. А по какой статье? Хулиганство? Так нет же – летел человек этот вот луг опрыскивать. Хотели бухгалтера за поломку ценного оборудования – дак что же он за снайпер такой, чтоб бутылкой прицельный огонь по самолету вести?! Так и замяли.
– А у меня есть приятель, актер, он женат. И у него завелась любовь. А жена, Нина, очень милая женщина, но ревнивая, выследила. Только он вошел в квартиру к своей возлюбленной, Нинка подбежала, позволила в дверь, а та и открыла. Нинка – представляешь? – ворвалась и видит своего дорогого.
«Костя! – кричит. – Костя! Как ты можешь?» – И плачет.
А тот и говорит:
«Простите, вы ошиблись, меня зовут Николай Степаныч. А это моя жена Лена».
Нинка выкатилась, в глазах темно, все лицо залито слезами. Приходит домой. Ее встречает муж:
«Ниночка, что с тобой? Где ты была? Я вернулся с репетиции голодный, вот яичницу пожарил…»
И действительно, на сковороде недоеденная яичница.
Так эта Нина сама мне рассказывала: «До сих пор, говорит, не знаю. Костя это был у той женщины или нет». Уж больно яичница ее убедила. Вот сила детали!








