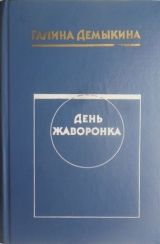
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Юрий еще раз прочел новый сценарий: он не доверял себе с первого раза, все думал – чего-то не углядел, есть, кроется тайная мысль за пустыми репликами. Ведь Слонов (а неизменным буровским сценаристом стал именно он) не только барственно глядит на людей и события, но он ведь любит Нэлку, обожает пса Джимми. И песню тогда спел по-хорошему, без форсу (правда, больше таких светлых минут не случалось). И вот Юрка все искал в его сценариях, вычитывал и с каждым разом находил меньше. А уж этот!..
Это был срамной сценарий. В нем все не сходилось: обстановка – с поступками, поступки – с характерами. Он, этот Барсук, хотел создать целую «энциклопедию современной жизни», «галерею образов», что там еще? Какие есть готовые определения? Какие штампы? Он дал размах строительства нового городского района, и доброту Простого человека, и молодежь с гитарами, и даже философию – даже философию! (Несложную, правда: что выгодней – доброта или зло. Доброта, доброта, не волнуйтесь!) И современную живопись (легко развенчивал ее, сделав художника бородатым козлом и наркоманом). Во! Даже наркомания… Все, все вместил могучий Барсуков ум.
Но в бедных его цепких руках все превращалось в груду безделушек.
Вот любовь: влюбленные прогуливаются по набережной Москвы-реки. Парень (хороший, наш, рабочий парень, крепко толковый и прочно стоящий на земле) хочет поцеловать девушку (девушка похуже – избалованная интеллигентка, а мама ее молодится и пудрит нос, где ни попадя). Но девушка хоть и влюблена, как клуша, но дает отпор.
Буров набирает знакомый номер:
– Нэл, спроси своего Барсука, почему его Таня не целуется – гриппом, что ли, боится заболеть!
– Не остроумно, Юра. А Барсука нет дома… Мало ли почему можешь не хотеть…
– А-ля-л я…
Это, наверное, Нэлка не хотела целоваться с Барсуком. Но ведь он уже стар и любви у нее не было, а у него рот гниловатый… Мм-да, личный опыт. Ладно, пропустим.
А вот почему этот наш паренек после свидания опаздывает на смену, а его мастер – ни слова, только хитро улыбается? (Так и сказано: «хитро улыбается», а – перехитрил старик молодого красавца!) А… это чуткость. Вспомнил свои годы… Вот уж и растекся в длинной речи: «Как сейчас помню…»
Юрий хлопнул по столу, подул на руку. Как сейчас помню – я думал сделать в кино свое, прекрасное. С каждым разом получаю все худший отброс. Что, мне жить не на что? Да лучше в дворники. В лифтеры. (И слушал себя: заразился пошлостью, заразился: «в дворники», «в лифтеры», «в грузчики» – пижонские общие места…) А что? Отдать назад! Выступить, обругать – при всех. Халтурщики, бездари! И те, кто пишут, и те, кто принимают. А уж кто ставит – подлецы!
Сам не заметил, как выскочил на улицу, – побегал-побегал, чуть поостыл вроде. Возмущение улеглось; стало жаль состояния, в которое приходил, начиная работу, – разговор с актерами как бы походя: «Слушай, Миша, тут одна роль есть. Загляни». А сам ночь не спал, намечтал этого Мишу…
Но в такой фильм и пригласить-то срам.
И еще, остывая, думал о врагах, которых с его отказом сразу утроится, и как Барсук-влиятельный повернется к нему задом. Да неужели я слаб, чтоб иметь врагов? Но тогда я слаб и для работы. Для настоящей.
Только теперь заметил, что бессмысленно петляет вокруг недоснесенных деревянных домиков, сиротливо и живописно обрамляющих кооперативные новостройки. Глупо-то как! Домой, домой!
* * *
Юрка вошел, а она уже сидела на диване, по-кошачьи свернувшись. Черные волосы до поясницы и – распущены, привезенный с собой пушистый платок закрывает (почти, кроме колен) длинные подогнутые ноги; в его прокуренной и пропахшей вином комнате будуарный порядок: на висячей полке, рядом с книгами, – ее духи, над диваном – маленькая иконка в узорчатом окладе, на столе – ваза с двумя привезенными ею цветками. Кроме того, она делала статуэтки из кустарниковых корешков. И вот – пожалуйста: на полке русалочка с раскрашенным лицом, полная вычурного излишества, – даже в такой малости проступает характер. Ее смуглое, неподвижное, всегда – хоть голову разбей! – всегда красивое лицо…
– Юрий Матвеевич, вы заставляете себя ждать.
Конечно, Нэлка приготовила эту фразу.
– Я счастлив, что ты проявила терпение.
Было бы естественнее сказать: «Я рад тебе, Нэлка!» Но теперь такие искренние слова из него не лезут.
– Барсук ушел в министерство, и я решила…
Барсук? О нем говорится без напряжения. Не то что поначалу: «Я не смею быть дрянью!», «Он меня вытащил…» А теперь: «Барсук ушел, и я решила…»
– Слушай, ты тут взрастила сады Семирамиды… висячие… Мне даже неловко за бутылки и горы пепла, которые ты…
– Не волнуйтесь, пепел я замела в уголок.
Господи, что за пошлость это обращение на «вы»! Она говорит: чтобы когда-нибудь не сбиться. Дак ведь не собьется – не та замеска. Тесто-то сладкое, без дрожжей, сроду не убежит. Если только пересадить в другую посудину. Может, тесто хочет пересесть?
– Ну, что на студии?
– О, Нэлочка, идут, идут пробы, нагнал артистов, а главное не решено.
– Что главное?
– Ну, тональность, что ли. Как это все сказать. И сценарий, прости меня…
– Вам не хочется сцену, где герой и героиня разговаривают впервые, сделать замедленной, с деталями, с подробностями, как у Антониони – помните? – в «Затмении», когда этот бочонок с водой… а?
– Нет, не хочется.
О, эта гладкость речи! О, это знание всего на свете!
– Вы подумайте, Барсук говорит… Впрочем, он не понимает. Представьте: городские реалии – камни набережной, по камню ползет муха, первая муха – ведь весна… Трещины на асфальте, по реке плывет детский кораблик…
– Нэлочка, давай о другом.
– Или, как у Феллини…
– Ты не хочешь заварить мне чаю?
Она обижается. Боже мой! Если ей говоришь, что тебе интересно показать крупно лицо человека, когда он задумался о поступке – единственном, может быть, поступке в жизни, – она бойко выкликает:
– Пути, которые мы выбираем?!
А если упоминаешь слово «свобода», она тотчас же находится: «Свобода, как осознанная необходимость!»
Зачем, зачем их только учат, этих Нэлок, – ведь они способны шелухой, которую всегда хватают вместо зёрнышка, замусорить, засыпать все живое! У нее прелестное тело – чуть перезревший экзотический плод. И в те редкие секунды, когда она молчит…
Она знает свою силу, а он, Юрка, слаб. Слаб человек. Он умеет заставить себя, умеет сделать то, чего не хочет. Ему знакомо слово «надо». А вот «не надо», «нельзя», «остановись» – это из другого словаря.
– Нэлка, иди сюда, ко мне на колени, я буду поить тебя с ложечки.
Она усаживается, и он дает ей откусить конфету, потом целует в сладкий жующий рот.
– Нет, нет, сиди! Запьем чаем.
Он гладит ее поверх платья, и глаза ее делаются шалыми, человечьими, бабьими. О, если бы она не умела разговаривать! Но она умеет:
– Послушайте, мой дорогой, но я ведь все про вас знаю.
(О, господи! Началось!)
– Да, да, Нэлочка! Всё.
– Я говорю о вашем новом увлечении.
– Ага. Помолчи капельку.
– Что «ага»? Я ходила смотреть на эту вашу хлопушку: триста три дубль два, триста три дубль три… Пришла в конинский павильон, где она хлопает…
– Нэл, хватит, мое золото.
– Но вы не отвечаете по существу. А я не хочу быть просто…
Ну вот и программа. Она не хочет просто.
– А чего ты хочешь?
Разумеется, она сейчас сформулирует. Это она мастер. Конечно же, конечно, она хочет быть возлюбленной, а не наложницей (ай-ай, какой богатый лексикон!). Но нет же сил произнести идущий к делу ответ. Бог с ней совсем, с наложницей. И зря она про хлопушку. Сразу остудила.
– Зря ты об этом, Нэлка. Ну ладно, ты свободна.
Обиде ее нет предела. Волосы причесываются рывками, оттопыренные губы дрожат.
– Я знала. У меня очень развита интуиция, ты не думай.
– Я и не думаю. Ты молодец.
– А у этой девчонки нет московской прописки, учти это.
– Пусть отдел кадров учтет.
– Не строй дурачка. Ей нужен муж, квартира, прописка, роль. Она же актриса. Ха-ха-ха! Она тебя не прохлопает, твоя хлопушка, будь спокоен!
– Слушай, Нэла, у тебя есть сумка?
– Что?
– Ну, тара какая-нибудь?
– А зачем?
– Возьми свои платки, салфетки, иконы…
Дверью она бухает, как пьяница в шалмане. Эта не простит. Какая дрянь, а? Прописка! В воздухе висит облачко ее пудры и непробиваемое:
«Реалии…»
«Антониони…»
«Феллини…»
Как она попала сюда? Брысь! Брысь! Он достает из шкафа бутылку, наливает коньяк в стакан.
– Будьте здоровы, Барсук, Нэла и иже с вами. Отмыться, отмыться!
Из почтового ящика, что на двери и обращен нутром в квартиру, торчит конверт. Адрес отпечатан типографски, на белой бумажке, приклеенной к синему полю. Деловое. Юрка читает небрежно. Какое-то там заседание. Какое-то… Нет, кажется, важное. Вот-вот! (Прерванная мысль застучала снова.) Тихо вернешь сценарий – пожмут плечами, зашепчутся; громко – раскол на своих и чужих. И чье-то сочувствие тоже. Это непременно:
– Уважаю, старик!
– Э, да ты человек!
– Давай пять.
На черта мне их рукопожатия? Нет, пожалуй, нужны. Тут может подвернуться достойная работа. А может, долгое ничего. Бойкот. Надо умненько выступить. А, черт с ним, с умом. Что я, дурак? Дурак? Тупица? Подлец?
* * *
Зал был полон и душен. И плавал в благодушии. Оттого слипались глаза. Как давно он не был на ристалищах! Как стойко не знал победителей! Впрочем, сориентироваться было легко.
– Необычайно свежий прием, найденный Василь Василичем в его последней работе… (По имени и отчеству непременно.)
– Новый фильм Василь Василича может служить образцом…
– Идейно-художественная ценность фильма «Свет»… (Все тот же В. В.!)
Но я видел этот фильм и знаю, что они врут. Что им даже не мерещится ничего такого. Просто В. В. сегодня победитель, законодатель и председатель (а может, ответственный секретарь).
Зал придремывал. Но не спал… Отнюдь. Потому что должно было знать своих победителей. Предстояла умственная работа: выявить из речей. Из всей этой мутноватой жидкости нечто должно было осесть, как наиболее весомое. Выпасть в осадок.
О буровских фильмах никто не говорил: они теперь шли гладко, но интереса не вызывали.
А кому, собственно, нужен ваш интерес, уважаемые киноработники? Меня смотрят миллионы людей и…
И ленивая мысль наткнулась на боль. В который раз!
Прислушался к речам. Опять хвалили В. В., но встал Володя Заев и сбивчиво заговорил о фильме, который положили на полку, и было видно, как дорог Заеву этот фильм, хотя и не работал на нем вовсе, а просто увидел. И следом кто-то еще – из молодых – о том же. С той же горячностью. Бурову страстно захотелось, чтоб о нем – вот так же и такие же. Захотелось, чтоб его «положили на полку», предали анафеме, но чтоб сам он знал, знал о себе!
Но тут вышел человек, который… как бы это половчее сказать? На нем было незримо означено, что он не поставил фильма, не написал сценария, ничего не снял, ворочая кинокамерой, и ничего не сыграл. Человек среднего роста, средней упитанности, средней степени одетости (но без вызова, как это бывает с «богемой»), – словом, весомый человек. А позади него (Буров просто замер) – огромная густо-лиловая тень. Человек самолюбиво выпрямился и начал говорить. Он еще не все понимал в сложном деле кино (это было заметно), но был оснащен документами и списками и потому точно знал, кто где расставлен на этой лесенке, на этой шахматной доске. Кто король, а кто пешка. Хотя и с пешкой был вежлив.
Юра Буров отвлекся от узнавания (неужели – он? Ведь там была предназначенность для битья, а вот – гляди ж ты! – вырвался) и заволновался совсем по другому поводу: сейчас назовет всех. А вдруг меня не назовет? Видал мои фильмы, помнит меня, а в списке лучших – нет. Нет! Середняк!
А тот называл имена четко и последовательно. Ах, он знал даже, кто за кем!
Как изменился! – думал Юрий, чуть успокаиваясь. Как уверился в себе. А все равно малолик. Не совсем безлик, во… Он, помнится, хотел стать личностью и при этом искал заручку («заручка» – значит: взявшись за чью-то ручку, чтоб кто-то вел!). И Юрка тогда согласился вести. А кто теперь? Кого теперь провожает до дому? Перед кем заискивает? И на кого – директору? Кто-то, видно, покрупней.
А малоликий Панин все говорил, расставляя на белых и черных квадратиках. А когда кончил, Юрий там не обнаружил себя. Раньше он все-таки стоял среди центральных пешек, под флагом «молодые» и еще «талантливое пополнение». Теперь выпал. Впрочем, этого следовало ожидать. Надо или сновать здесь, вращаться – тогда могут вспомнить в нужный момент. Или – делать настоящее. Показываться легче и эффективней: любой малоликий это любит.
Как уныло быть кем-нибудь
И весь июнь напролет
Лягушкой имя свое выкликать,
К восторгу местных болот…
Чтобы тут, в этой полудреме… Разве дело в заметности? А в чем? Прекрасное лесное болото – зеленое, сочное (осока), пахучее, зыбкое, полное своей неповторимой жизнью. Проплыла пиявка, мягкая, бархатная, с присосками, – красивая тварь. Проскакали наездники, нежно и зыбко касаясь глади легкими нитяными ножками; скривил по касательной к белым осклизлым корням жук-плавунец. И такая тишина – и не слышно, как лягушка поймала на раздвоенный клейкий язык золотистую муху, а дафнии… И тепло, тепло, и – испарения…
Юрий Матвеич понемногу соловел – сам подловил себя на этом: зачем выкликать? Зачем тревожить? Дрема – лучшее из состояний… «Я никто. А ты кто? Может, тоже никто? Тогда нас двое. Молчок!» Но ведь должны быть хотя бы двое. Кто-то должен радоваться делу рук твоих. А чему? Чему радоваться? Но я, что ли, виноват? Да. Я!
Нет, Буров не был смастерен для дремы. Его дух, его вполне конкретный разум противились. Он мог не ходить сюда, не касаться. Но раз уж явился!..
Он написал записочку. Она дошла, вызвала легкое недоумение в президиуме. Через какое-то время председатель назвал его фамилию. Юрий вздрогнул и пошел к трибуне. Совсем пустой. И остановился, глядя в зал.
Там были знакомые и даже родные лица, сопричастные одному делу. Ему ли глядеть сверху вниз. Да он сам только что проснулся, почти проглотив уже сценарий Барсука, – проснулся от боли в животе: отравился! Проснулся, чтобы выжить. Проснулся от боязни смерти.
– Вы знаете, – сказал он театрально тихо. И рассердился на себя: он все еще хотел завоевать их, то есть опять-таки подольститься. Нет! Нет вам, нет! И продолжил уже обычно, как говорят с собой: – Я, наверное, в сравнении с большинством из вас в привилегированном положении. У меня не плачут малые дети. Не понравлюсь, буду подвергнут остракизму – так ведь я умею землю пахать, на тракторе хорошо работаю, шофером опять же могу. У меня еще бабка в колхозе, пристроит в случае чего.
В зале немного зашевелились; кто-то хихикнул: «За что остракизму?»; кто-то выкрикнул: «О чём ты? Не темни!»
– Да. Так о чем я? Не о фильме В. В., который мне показался очень обычным. И вам так же. Иначе не было бы сказано «необычайно свежий прием». Иногда прилагательное убивает. Еще Мопассан, мир праху его, заметил, что сказать: «я тебя ОЧЕНЬ люблю, УЖАСНО люблю» – несравненно меньше, чем просто «люблю». Я тебя люблю. Свежесть – это свежесть. А когда ее нет, говорят «необычайная свежесть». То есть пустота. Как слово «недоперевыполнить». Или «недопереплатить». Мне надоело недопереплачивать! Я говорю как режиссер: беря плохой сценарий, мы всегда недопере! Мы хотим сделать пирог из мусора. Мы кладем всякую сдобу – масло, молоко, дрожжи… не знаю, что там еще, – в мусор. Мы хотим припёка. И оно вздувается безобразно, это тесто. И чем больше наше пекомое похоже на пирог, тем хуже, потому что оно несъедобно. Слышите, чем лучше, тем хуже!
О, как сбивчиво и нечетко он выступал. Но сидевший в первом ряду Володя Заев – пли это лишь показалось? – кивнул ему. И Юрий чуть задержался на трибуне.
– Почему мы беремся за такое? Почему не прикрываем пустоту собой, телом своим, как амбразуру стреляющего дзота… в этой тяжелой войне? Вот почему я о детишках, которые плачут или не плачут. Я зарекся. Всё.
Буров шел по залу под явственный шепот:
– О чем он?
– Ясно, о чем.
– Ну, и говорил бы прямо.
– И так прямей прямого.
– С именами…
– Возьми и скажи.
Но никто ничего такого не сказал, и Юрию уже было неловко за свой неумеренный рывок, к тому же чреватый… И опять, прорываясь сквозь боль, шла мысль: а что? Были и у меня кадры отменные! Фильмы мелки (теперь и таких не будет), а кадры… – И обрывал себя: э, да что я! Неужели опять Барсук или такие же? И мне, и им – вот этим, умным, талантливым? Чего ж терпят? Видно, борцы, сошедшиеся грудь к груди на несколько таймов, передают друг другу вместе с потом своим и слюной кожную болезнь. Мы заразились пустотой.
* * *
На заборе сидела кошка. Серая, тощая, с длинным хвостом. Юрий Матвеич с удивлявшей его самого дотошностью разглядывал из окна ее обогретую скупым солнцем мордочку (скупое, но ей хватило), ее сжатые на древесном столбе изящные пальцы с вобранными когтями, умильный прищур ее суженных от света глаз и такую же умильную улыбку. Кошка поела на помойке, уселась на круглом столбе забора и созерцательно наслаждалась… В Крапивине у бабушки жили кошки, Юрка любил их. И сейчас подумал: чего не завел до сих пор? Забот никаких, а мурчанья, умильных взглядов – до отказу! Заведу. Надо завести. А думал все это, чтоб не возвращаться к вчерашнему собранию. Потому что теперь все переигралось и сценарий Барсука следует выбросить! А что взамен?
Взамен последовал телефонный звонок и оторвал мысль от кошки.
– Юрий Матвеич Буров? – Мягкий, но официальный женский голос. – Одну минуточку, сейчас с вами будут говорить.
После паузы прорезался баритон:
– Здравствуй, Юрь Матвеич. Это Панин, Константин Анатольевич.
– О, добрый день! Рад слышать!
Юрка не совсем понимал, как теперь с ним. Однако кинул пробный камешек:
– А я вчера гляжу: ты – не ты…
– Я, я! – засмеялся тот, довольный.
– Откуда же ты вынырнул?
– Сейчас изложу. Прикомандирован к вам. – Голос чуть зазвенел благородным металлом: – Я, брат, теперь большое начальство. – Он назвал должность. Юрка старался не знать особо должностей (а скорее – прикидывался, что не знает: творческая, мол, личность!), но тут оценил. Должность видная.
– Что ж, будешь руководить?
– Придется. Вот на собрании был, тебя, шалуна, слышал.
Юрку кольнуло это начальственное панибратство.
– Я не такой уж, Костя, шалун. Я серьезный.
– Ну, тем более. Серьезный, идейный. Тут есть один сценарий… Он, понимаешь, без претензий, но по тематике…
– Рабочая тема? Или о милиции?
– Нет, брат. Поглядишь. В общем, мы тут, как говорится, посовещались…
– Решили – мне? Премного обязан.
Буров не ждал толкового. Но все же не Барсук. Потому что хуже пошлости только вранье и жестокость. Он договорился о встрече (Костя Панин пригласил к себе в Комитет, комната № такой-то), время взяли не дальнее – часа через три (обоим было интересно увидеться!), и Юрий стал понемногу собираться. Жил он далековато, машину свою еще не подготовил к весне, так что самое время. Он шел по подсыхающему тротуару и смеялся. Сбросил путы! И – чуть розовела на горизонте надежда. Прощай, Барсук. Прощай, Нэлка! «Оставь соби».
Помнил, как бабушка, провожая его в столицу, наставляла:
– И там колдуны есть. Подойдет такой, дочкнется до плеча: «На тоби!» Это он зло отдает, черную неделю. А ты сразу ему по руке: «Оставь соби!» Да громко, не особенно-то совестись!
Бабка была решительна. А как бы иначе сила, живущая в ней, пробилась наружу? Эх, бабка, кабы не ты, разве бы я чего стоил?
В большущем кабинете сидел Панин (и написано было на табличке: «К. А. Панин»). Теперь, вблизи, было видно: сер, сух, светлоглаз. Подзастывшей прозрачности глаза, похожие на белый агат (есть такой, встречается). А тень – непомерно разросшаяся лиловая тень – снова померещилась за его спиной. Долго глядел на вошедшего, будто не узнавая, и не здороваясь (хотя ведь секретарша доложила), потом встал, вышел из-за стола, протянул обе руки.
– Ну, здорово, здравствуй, дорогой.
Юрка рад был, что не обнялись.
– Садись, потолкуем.
И не полез за стол, занял второе, посетительское кресло. Пошел ва-банк:
– Вот я давно хочу спросить кого-нибудь из вас, ну из творческих, так сказать, личностей. Чему вы думаете научить зрителя? Вот ты – чему?
Ха! Задушевный разговор? Ну что ж, давай. Ведь я сегодня, как и ты, начинающий.
Юрий не считал себя ни мыслителем, ни проповедником. Но думать думал.
– Видишь ли, я полагаю, что искусство научить людей вообще не может.
– Как же так?
– Не знаю даже, как сказать. По-моему, дело настоящего художника, – не такого, каков я сейчас перед тобой, – его дело – внести в мир гармонию.
– Понял, понял. Сделать, значит, людей гармоничными. Чтоб различали, где добро, а где зло, чтоб поступали как люди. Точно?
– Ну, если хочешь – так. Нет. Нет, не совсем так. Это опять вроде бы научить. А таких прямых путей не бывает. Я пытаюсь – о более тонкой материи. Понимаешь, есть наше бытовое повседневное кручение, а есть и другое – то, что включает мировую культуру, мир духовности, мир высоты. Из него черпает искусство и несет это людям. И те, кто могут воспринять это… они становятся богаче душой, выше.
– А кто не может?
Юрий пожал плечами:
– Это уж их забота, не моя. Не ходить же век пригнувшись оттого, что кто-то пониже.
– Барствуешь, Юрий Матвеич.
– Я известный барии. Мое родовое именье стало музеем.
– Дело не в том. Зачем людей разделяешь?
– Не я их делю. Они сами разные. Одни хотят понять, Суметь, работать хотят – в любом деле, способны на дружбу, на любовь, на самоотдачу, так ведь? А другим только деньги дай или выгоду какую, а если у кого хорошо, так не то чтобы дотянуться до него, – а позавидовать, обозлиться, еще и гадость сотворить.
– Что ж, их исправить нельзя?
– Можно, вероятно. Но трудно, не в раз. И если я сумею заронить хоть крупицу добра… ну, стало быть, и я кое-что сделал.
Юрка знал уже, что не договорится, что не хватит слов и запалу, который всегда оставлял его, если не подбрасывали дров, не подхватывали на лету. Но хоть не гасили бы, что ли, тщились бы понять.
– Так-то оно так. Но нет ведь абстрактного добра. И зла тоже. Все во взаимосвязи.
– Конечно, конечно. – Деловое чутье подсказывало Юрию: не спорь. – Но ведь, Костя, что-то мы с тобой даже в этой взаимосвязи принимаем, а чего-то нет, верно?
– А как же!
– Вот и я хочу отделить.
– День от ночи, да? Черное от белого? Ну и верно. Верно. Давно пора. Чтоб, значит, поступали как люди. Так они вернулись к началу.
– Ты, Константин, голова.
Юрий дивился: вроде в мальчиках этот Костя был посложней. «Роль личности в истории» и все такое… Но раздумывать было не время: Панин совал ему красивую зеленую папку с застежечкой.
Они расстались дружественно, и азиатские Юркины глаза не выдали подвоха.
– Бываешь в Крапивине? – чуть снисходительно спросил под конец Панин, как бы связывая нити в дружеский узел (хоть и нечего вспомнить, а все же общее прошлое).
– Конечно! Родина.
Буров уволок под мышкой новый сценарий и приглашение заходить, звонить в любое время. И он непременно «зайдет, позвонит в любое время»: он уже задумал нечто, в чем К. А. Панин должен был помочь.
И куда эта чудь белоглазая девала свой страх? Свою предназначенность для битья? Надо было спросить о жизненном пути. Впрочем, ясно – он извилист, как горная трона, идущая вверх. Каждому камешку поклонишься, хватаясь, чтоб не упасть. А это он умел, еще тогда. «…О, мадам…»
Сценарий был приключенческий – о международном разведчике. Никакой. Без Барсуковой пошлости, однако. Если что не сходилось, то лишь ситуации: как супермен ИКС (Х) мог удрать из резиденции Главного Врага, да еще унести все документы, если он (этот X) был приведен туда двумя вооруженными людьми, которые остались у дверей? Оказывается, проще простого – через окно. Слез по трубе со второго этажа – и все дела!
Юрий, сидя за столом, старательно помечал для автора: «Придумать».
Как мог все тот же супермен X прочитать бумагу на языке, которого он не знает? Опознать «своего» без признаков и т. д.? И почему не болит душа за этого супермена X (иначе не назовешь), за именем которого кроется всего лишь человеческая конструкция из сметливости, смелости и удачливости – ни характера, ни лица? И ни тени юмора. Куда там!
Милый Фантомас! Ты обобщил все это. И: а) рассмешил смешливых; б) напугал пугливых; в) расхрабрил храбрых: г) наловчил ловких!..
Юрка поймал себя на том, что, все больше злясь и распаляясь, думает уже, однако, об актере (Вася Мерфин, непременно Вася), и о месте съемок, и о поездке по означенным странам (их несколько, и все интересны!). А чего?!
И точно чужое крыло замахало у плеча. Чужое, прочное, из какого-то неуязвимого материала – без кожи и хрупких косточек. Пластмасса? Легкий металл? (Как далеко можно летать на таких крыльях и как безболезненно!..)
Может, мне, Юрию Бурову, когда-нибудь хотелось своим искусством что-то сказать? Полно, полно! Какая чепуха! Да я мечтал всю жизнь о пластмассовых крыльях за плечами и о душной кабине, и командировочных, о шмотках, о телятине с грибами…
А зачем тогда был Мугай-остров? Зачем бабкина черная тень в красных отсветах? И краски, которые сперва убивали всё живое, а потом научились, умаляя то, чему подражали, отдавать свое, бесконечно серьезное – полотну? Неужели то было детство? И оно осталось там, в далекой стране Крапивенке? А потом…
Потом была дорога, и на ней стояло чучело. Я содрал с него идиотский котелок, рванул кацавейку. Надел современный костюм, галстучек модной расцветки и ширины: живи и – отыди!
Оно ожило, чучело, и потащилось следом:
– Ты меня родил заново. Я – твое дитя.
И вновь была дорога. И стояло новое чучело в измурзанной одежке. Я содрал с него дурацкое тряпье… Да это же – бесконечка! Жил-был бычок – с белым пятнышком бочок!..
Они, эти новомодно, с иголочки одетые чучела, теперь мои собеседники, соглядатаи, союзники. А если кто и что наперекор – так ведь они и дубинкой дерзкого! Сообщники! И душно. И руки уже тянутся к привычной работе – содрать тряпье ли, плохо ли скроенную одежду, украсить, подновить, пустить по свету новое, новое чучело!
Да со мной и говорить-то перестали всерьез! Вот он, шкаф, вместилище плодов моих поисков и обретений. Шкаф этот с модными шмотками подмигивает настольной лампе: наш-то! ишь ты!
А уж про людей,
про друзей, бывших…
И тут вошла Тоня. Без предупреждения. Пришла – и все. Та самая Тоня, которую он так странно (через патологию ее чувств) снимал в первом своем фильме и с которой был счастлив в весеннюю ночь после вечеринки в ВТО, когда он впервые погладил жесткие, прямые, цвета свежего сена волосы смешной девочки Оны. Ах, как хороша была тогда Антонина! И как божественно глупа! И как беспечна!
– Тонька, ты? Ну, входи же!
Она запнулась о порожек, привалилась к степе. Пьяна, что ли?
– Входи!
Юрий знал, что ее красота непрочна. Но чтоб так скоро!
Пустые глаза торчали на бледном, широком (опухшем?) лице. Непокрашенное лицо. Стена облупившегося дома. Аварийный. На ней (на нем) было написано: аварийный. И почему-то у Юрки хватило доброты ли, ума протянуть к ней руки, обнять, прикоснуться щекой к холодной и почти шершавой ее щеке. К лицу трезвого, несчастливого человека. Тогда она заплакала. Потом рванула из кармашка мятый платок, вытерла глаза и нос, распрямилась.
– Мне ничего не надо, Юра. Просто ты лучше других.
– Случилось что-то?
– Нет. Не знаю. Наверное.
– Выпьем?
– Что у тебя? Водка? А, все равно. Давай.
Пили водку. Есть было нечего, хлеб только. Да и не надо.
– Я рада, – говорила она. – Для чего мне красота? Чтобы шептались? С этого все и пошло. Еду в метро – глядят и шепчутся. Разве это стыдно – быть красивой? А одетой? Что на мне такого надето, чтоб шептаться? Просто сидит хорошо. Верно?
– Конечно, Тоня.
– Я сначала думала – узнают по фильмам. Ведь только лицо снимали, одно лицо. И фигуру. Слово-то какое: «фигура»…
– Пожалуй.
– Ты, если не согласен, не поддакивай.
– Я согласен. Хотя тогда, в пашем фильме…
– Он тоже дерьмо. Только ты его в блестящую бумажку завернул.
Глаза ее вдруг обрели цвет и смысл, и что-то восстановилось в лице, уравновесилось. Гармония. Ведь что такое красота? Гармония. Не более того.
– Вот ко мне тут один старик приходил, – продолжала Тоня. – Он вроде о кино пишет. Сам как можжевеловый корень. Знаешь, из которых всяких русалок, леших, птиц делают. Пришел, посидел. «Чем, говорит, утолишься, а?.. Чем? Красота твоя пройдет», – «Вот когда пройдет, ответила и думать начну». А сама – уже. Думаю. Потому что проснусь утром – и зацепиться мне для жизни не за что.
– Да ведь у тебя кино есть. Роли.
– Нет там ничего этого. Нету. А во мне, Юра, было!.. Может, мало, а было. В девочках. Вот я в балет ходила.
– Хотела балериной стать?
– Да что ты! Смотрела, как это все летит и сливается с музыкой в такие волны… И качает тебя от счастья… Или – в мальчика была влюблена. Из окошка. Мне и не хотелось с ним заговорить. Я ведь знала, что понравлюсь, и всем мальчишкам нравилась. А я гляжу, бывало, в окно… И красивое любила. А теперь не люблю. И в кино мне хотелось показать свою опять же красоту: вот это красивое, видите. А оказалось: вот я вся тут, пустая. Голая совершенно. Что, не видали разве? Не пойми меня, конечно, буквально.
Юрка дивился, что дурочка эта своим путем, через какое-то, видимо, потрясение, дошла почти до того же, до чего и он.
– Мы не растрачены, Тонюшка. Мы с тобой не расточили своего, вот что. Не посеяли. Потому и собрать нечего.
– Может, и так. Как хочешь назови!
– Такэто называется, так. Помирает в нас нечто и кричит.
Она опять заплакала.
– А когда подохнет, смердеть начнет. А? В чем моя вина? В чем?
– А я вот одевал чучел, Тонька. Не плачь… А теперь бросил все. Все бросил к чертям и не жалею. И студию бросил.
– Врешь?!
– Вру. Но почти. Поверь мне.
– Верю, Юрка.
Два пьяных человека над пьяным, плывущим в безответное столом. И два стакана недопитых. Боже мой, какой приевшийся пейзаж!
– Ты меня уважаешь, Юр?
– Да. Теперь – да. И трезвые глаза.
И, может, близко уже до дна. А может – до берега.
Ехал по травянистой дороге. День. Солнышко. Рыжий лошадиный зад, черный хвост, чуть видны загривок и уши. В пустой телеге пахнет свежая трава, а в траве, позади, лежит кто-то. Кто-то чужой и – живой ли?
Юрий просыпался, снова засыпал и видел все сначала: колея, зад лошади, черный хвост… Кусок сена из-под чьей-то свесившейся руки. Мертвого, мертвого везу…
В комнате утренние потемки, на столе стаканы, огрызки хлеба. Антонины нет. Не дурочка она, а то бы не ушла.
– Ты меня уважаешь?
– Да. Теперь – да.
Как она сказала? Просыпаешься – и не за что зацепиться для жизни. Так. Так же и мне. Все последнее время… Просыпался в тоске. И в тревоге. Быстро соображал:








