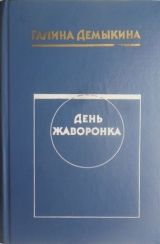
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Глава VII
Солнце мягко спружинило за белые привокзальные дома-новостройки и переменило подсвет всей городской декорации. Цвета розоватой фламинговой беспомощности стали белые эти дома; оранжевой – пыль на шоссе; темной и погустевшей – городская зелень. И мы легко сквозь этот подсвет прошли через новый город и окунулись в тень тех самых дуплистых ив, которые наверняка переживут нас.
Речка была мелковата и грязна от всегородского дневного омовения: жара ведь! Вдали, на отмели, виднелась та самая плывущая в отсветах церковушка. И все возле нее плыло: домишки, садочки, белое официальное здание, похожее на сарай.
– Может, там что-нибудь вокзальное?! – сказал Ты, и мы пошли. Это оказалось далеко, потому что река извивалась, и тропинка – за ней. И вот уже в дуплах ив стало что-то шевелиться, трава повлажнела, в редком зеленоватом воздухе зашарахалась первая летучая мышь.
Мы подошли к тому строению. Оно было официальной побелки – ровной, включающей подоконники и двери. Сквозь закрытые, а кое-где и зарешеченные окна ничего не проникало. Почти. Только дребезжащий мужской смех – тонкий, звенящий.
Мы переглянулись: странно. Постояли. Ты стал искать дверь. Ты стал искать ее, волнуясь, будто сам хотел того, что случилось потом. И нашел. Постучал. И нас впустили.
Это одноэтажное, неказисто побеленное здание скрывало внутри темноватый зал с лепным потолком. Зал был узкий, вмещал только стол – один, длинный, под белейшей скатертью, уставленный бутылками и едой. За столом сидели люди в темных костюмах и в светлых рубашках с галстуками. Меня поразила неподвижность их лиц, – бледные, торжественные, они что-то напоминали. А, вот что: пятиэтажные дома на пустыре.
Нас не заметили. Здесь шло веселье. Взлетали к бутылкам руки. Поблескивали запонки. Смех и говор. Мне показалось, что все незамысловато, элементарно. Но, может, я и не права.
– Гляди, гляди, Никитин-то к Шалимовой подсел!
(Смех.)
– Петр Михайлович, жене скажем!
(Смех.)
– Нам не страшен серый волк! – Это реплика Петра Михалыча.
(Смех.)
– Волков бояться – в лес не ходить! Верно, Петр Михалыч?
– А как же!
(Хохот.)
– Работа – не волк… в лес…
(Внезапная тишина.)
– Ну, это ты брось…
Все поглядели по сторонам.
– Ннн-да…
– Откуда вы, граждане? – Это уже к нам. – Откуда вы? Кто вас впустил?
– Мы… знаете ли… Мы хотели бы выехать из города…
Нас оглушил смех еще сильнейший, чем от шутки над Петром Михайловичем.
– Выехать – ха-ха!
– А-ха! Слы-ха-ха-а-ли?
– Выехать – ха-ха!
И вдруг я увидала, что один – со смуглым, тяжелым лицом и светлыми глазами – не смеется. Глядит надменно и обиженно. Увидели и другие. Смех прошел. Надменно глянули все. Стали еще больше похожи – с обвисшими щеками, прищуром подпухших глаз, опущенными складками у рта.
– А кто информировал, что мы здесь? – спросил смуглый.
– Мы услыхали, что здесь кто-то есть.
– А-а-а… Зайдите через недельку.
– Но мы… Нам негде жить.
– А-а-а… Ну, это не к нам.
Я поняла, что они все же по выезду, то есть что это им ближе.
– Мы бы уехали.
– А кто вы, собственно?
Мы сказали.
– Понятно. Понятно, – смуглый задумался. Поднял на Тебя бледно-серые четкие глаза.
– Я не мог видеть ваших работ?
Ты промолчал о памятнике. А ответил так:
– Если вы были в столице на выставке…
– Нет, нет. У нас в городе. Скульптура «Дети будущего» в парке. Нет? Не ваша?
– Слава богу, нет, – ответил Ты.
Тот улыбнулся:
– Вы умеете лучше?
– Надеюсь.
– Посмотрим. Да вы садитесь. Садитесь. Коньяку? Водочки? – Это был, конечно, не очень главный человек. Но что-то он знал про себя, что давало ему силу. Это сразу ощущалось. – Вы пейте, уважаемые работники искусства. Я вот что скажу. У нас тут планы гигантских работ. Перспективы. Простор. Я сведу вас с кем надо.
Смуглый обращался к Тебе, потому что его интересовал Ты. Меня он сразу отсек, как лишний вес.
Речь шла обо всем городе: все скульптуры, всё, что на украшение и возвышение его. И человек этот был уверен, что сумеет помочь Тебе.
– Наш город древнее столицы. Это не значит, что мы хотим соперничать. Нет. Но… Вы понимаете?
Ты понимал. Ты давно искал такой возможности. Это был, конечно, соблазн. Соблазн с большой буквы.
– А вы поезжайте, – было сказано мне. – Тут как раз и кассир, и шофер автобуса. Вам как лучше?
– Мне все равно.
– Тогда зайдите к Шалимовой. Шалимова!
Это была красиво причесанная, хорошо подкрашенная женщина.
– Что скажете?
– Вот надо отправить.
– Прямо?
– Мм… Через Петрова.
– Зайдите к Петрову. – Она указала на дверь, вделанную в стену. – Сошлитесь на меня. – И по-мужски тряхнула мою руку.
Я сделала шаг от стола. Оглянулась на Тебя. Ты, будто меня и не было вовсе, продолжал разговор. Никогда не видела я такого азартного лица – ни у Тебя, ни у кого другого. И я поняла: это все. И открыла дверь.
Я опускаю целую главу моей тоски.
Я делаю вид, будто ничего не произошло. Ну, дали человеку работу, о которой он мечтал. Ну, пошел он за пальцем манящим, забыв попрощаться. Забыв попросить остаться. Нет, что я говорю?! Забыв обо мне вообще. Но теперь это – вне обсуждения. Потому что это – характер. А Ты уже тяготел для меня к обожествлению. Но у кумира, у божества не должно быть характера, не должно быть внешнего облика. Разве изображение – даже икона! – не делает его доступным обсуждению, панибратству, поруганию?!
В те далекие времена, когда Ты еще был для меня просто человеком… о, тогда Ты рассказывал, как Тебя обижали, и Ты чувствовал свою беззащитность. И захотел Сыть сильным. И как растил силу изнутри, не задевая мягкой оболочки. Ты мягок, даже вкрадчив. А сила есть. Живет. Но это опять-таки характер. Я боялась знать это. И теперь не хочу. Характер, облик, даже отдельные поступки – это пустяки, если есть то главное, что Ты принес мне, та сущность. Этого ведь отнять нельзя. Это осталось мне. « Перед глазами травы и дерева».
Потому я опускаю главу моей тоски, обиды, поисков свободы. Только общий абрис. Штрихи:
Я вылечу, вылечу, вылечу
Из хитрой твоей западни.
Я крылья помятые вылечу,
Попробуй тогда, замани!
Тогда поворкуй со мною,
По-птичьему посвисти!
Я стану мудрой змеёю
С тобою не по пути.
Не нужно мне птичьей приманки:
«Легко»… «Высоко»…
Увижу я листья с изнанки,
Не крылья твои, а брюшко,
Полеты не станут сниться.
И, лежа в тени, под сосной,
Подумаю: глупые птицы!
Свобода.
Такой ценой.
Но ничего похожего не произошло. Никакой змеи. Глупые детские ходы! Мне просто хотелось так думать. От боли.
Нет ничего. Ни памяти, ни боли.
Могу тропой обратной – до начала.
Могу – на доли и триоли
То, что звучало. Отзвучало.
А утро сеет
серый свет в оконце
Для скучных «против»,
равнодушных «за»,
Для «все равно»,
И, как мертвец на солнце,
Не заслонясь, гляжу
в твои глаза.
И этого не было. За все время, что я жила в городке в одной из комнат беленого дома, ожидая помощи от зам. Петрова, я видела Тебя лишь раз в окно: Ты шел с какой-то женщиной (о, нет, это была деловая женщина!) и, увлеченный беседой, размахивал руками. Это ничего не прибавило к моей тоске и не убавило ее. Просто я старалась больше не смотреть в окно. Тоска моя билась о стекла, постепенно каменея, обретая резкие черты уязвленной гордости и таким образом прорываясь в пустую, ничем не заселенную зону свободы. И это было самое тяжелое. И на это ушло несколько лет.
За это время я рассчитала отличный типовой проект дома отдыха и получила поощрительную грамоту.
Еще, помнится, послала телеграмму на имя «самого» – начальника – с просьбой освободить меня от работы «в связи с изменением семейного положения». (Думаю – обрадовала его по высшему разряду!)
Сделала денежный перевод знакомой молоденькой секретарше домоуправления, чтобы вносила за меня квартплату и не выписывала с жилплощади. (Терминология – что надо!)
Отправила письмо. Одно. Единственное. Мастеру Масок. Вы, может быть, заметили, что я давно не упоминаю о родителях. И не потому, что они не вошли бы органично в повествование. Еще как вошли бы! Просто их не стало в живых, и лучше уж ничего не говорить, чем говорить всуе. А в этом разговоре каждое слово было бы всуе.
Вот и всплыл теперь для меня добрый старик Сарматов, единственный, кажется, из той моей прежней, переулочной, парковой, беззаботной жизни.
О чем я писала ему? О том, что не могу так вот просто вернуться в наш большой город после того, что со мной произошло. И что, может, он прав (мы когда-то говорили об этом), что в наше время женщина – носитель любви, как в древности – хранитель очага и огня! Но от этого мне не легче. И надо переболеть, а потом уже жить дальше. И что я никогда, никогда не буду больше строить башен для тех, кто любит тишину.
Письмо без обратного адреса (а каков он?) и с подписью: Яна-Юля-Анна. (Вот, должно быть, удивился! Впрочем, нет, разве можно его чем-нибудь удивить!)
Глава VIII
Но пришло утро. Солнце – тоненьким лучиком. Пыль в луче. Стол обрел значенье стола, за которым можно читать и пить чай. Окно – очертанья окна. И что его можно распахнуть.
И как раз тогда – легкие шаги у двери.
– Здравствуй. – И звенящий кокетливый смех. Шалимова. Сама. – Ну, что ты надумала? (Мы давно перешли на «ты».)
– Поеду.
– Тогда, знаешь, я отпущу тебя прямо. На свой риск.
– Как это – прямо?
– А вот так.
Крепкая рука потянула меня к единственной незаставленной стене. Ключик из кармана. Пошаривание им по блестящим светло-коричневым обоям. Ага! Нашлось отверстие! Щелчок. Не заметная, оклеенная обоями дверь стала медленно отворяться наружу.
– Толкни!
Я толкнула. И шагнула в зеленый мир: ветки, листья, стебли. Там, за этой дверью, шумел высокий, серьезный лес. Лес зверей, птиц, борьбы за солнце, лес естественного отбора, гибели и выживания.
Я шагнула в него, распахнув, как эту дверь, глаза, сердце, руки. Хватала, пила ртом, носом, кожей запахи лета, хвои, мятной травы, привядших листьев. Шла, и не оглядывалась, и не дивилась, что за городским неладным домом могло оказаться такое, и не боялась заблудиться, и не думала о пище и ночлеге.
Сквозь чащу проломилась к просвету. Там был берег реки, намытый песок, склизкие створки плоских ракушек, и солнце, и кусты ивы, повисшие цепкими ветками над водой. На ветках водоросли, ил, маленькие зеленью мухи и, конечно, синие стрекозы – украшение мелководной реки. Я забралась на ветки и сидела, как в подвесном домике, ожидая, что будет дальше.
А дальше была опять река, солнце, вверху и на воде, и медленный голенастый старик, который брел по реке вдоль того берега в засученных до колен штанах.
Дед был сухожильный, хваткий, деревенский.
– Чего это вы ходите, дедушка?
– Ась?
– Чего по водам ходите?
– А! Дрова хочу взять. Дрова гляжу половчее взять.
В речушке и правда было полно топляков. Как он их возьмет? Ах, какое мне дело?! Возьмет! Как растет трава? Как идут соки по стволу от земли к небу? Как живут-выживают муравьи и эти вот стрекозы? Все движется по заведенному мудрому закону. И он, старик, тоже. И я.
И я смеялась, болтала босыми ногами в воде, потом бултыхнулась сама в быструю, мелкую воду и, счастливая, в мокром платье, с туфлями через плечо, пошла, как тот старик, вниз по реке к высокому мосту, который приметила еще раньше.
Доски моста были полутораметровой ширины (вот какие тут деревья!) и очень высоко над речкой и далеко за ней (вот какие половодья!), и босой ноге было горячо ступать, а сердцу больно от обретенного мира и радости этого обладания.
Узкая тропа вела в гору, через малинник. Все в гору и в гору. И река, и её заводи, где плескала в камышах здоровенная рыба, – все это окунулось глубоко в низину, густо освещенную солнцем, которое, однако, уже тускнело – вот и рыба-то начала играть!
Запахло малиновым листом, издалека – скошенной и подсохшей травой.
Сзади кто-то нагонял. Оглянулась – тот самый дед.
– Ну что, дедушк, нашел, как дрова взять?
– А как же. Завтри возьму. Просушу до зимы.
Мы пошагали. Я старалась не отстать и не досадить разговорами, а все же держаться вместе: ночь на подходе.
– Что там, наверху?
– А Гора. Город так назван – Гора. До войны большой был, немцы спалили. Теперь деревянный весь отстроен. Люди поразъехались сперва, а потом вернулись, кто живой остался.
Город начинался большим оврагом, над которым стояла очень строгая, официальная каменная школа.
А овраг зарос репейником, лебедой, молочаем. Из середины зарослей торчала наискосок бузина – видно, съезжала вместе с песком. Цеплялась. А почему оказался овраг? Потому, что река поменяла русло. И мост, тоже довольно-таки официальный, висел над пустой старицей. А речка шла поодаль.
– Капризная, – кивнула я.
– С характером, – подтвердил дед. – Куда весть-то тебя, в гостиницу или к моей старухе?
– А что ближе?
– Гостиница близко тут. Ты откуда идешь-то, не спросил.
Я назвала город. Он присвистнул:
– Издалека. (Он ведь не знал, какя вышла, думал, что путем шла.) Ну так завтри приходи к нам. Я аккурат меду накачаю.
А гостиница была, как все дома в этом городке, – двухэтажная, ни больше ни меньше других. Только что занавески на окнах одинаковые да в сенях запах от уборной. А так – садик, половичок на ступенях. В коридоре нас встретила белолицая босая женщина. Она несла, прижав к животу, самовар. Дед пошептал ей что-то. Я топталась у двери.
– Чай будем пить? – Это я так сказала, чтоб не просить. Очень тяжко номер в гостинице выпросить. И есть, а не дадут. И с чего бы?
– Надолго к нам? Или на одну ночь?
– Пока на одну.
– С девочками положу. Их сейчас нет, на танцы пошли. Агрономы из Марева, из деревни, на танцы приехали.
Она провела меня через комнату, где спали двое мужчин.
– Ничего. Пьяные. До полудня спать будут.
В другой комнате, за проходной, сняв сумку с железной кровати, указала:
– Вот тут и лягите.
В комнате была еще только одна кровать.
– А девочки?
– Они на этой. Да господи, с кавалерами прогуляют до утра. А утром ехать. Они рады, что приткнувши.
– Неудобно. Может, другая комната есть? Я оплачу.
– Нету ничего. Я бы с радостью. Да спите, спите. Мне дед сказал, сколь вы прошли. Он нам родной, дед, нашей тетки муж.
Вот кому, стало быть, я обязана этой койкой.
Вечером, да усталая, я не разглядела. А городок был отличный. Деревянный, поставленный на деревянный тротуар, с одной стороны – тот самый овраг с бузиной, а с другой – большущий стог сена. Выше домов. Он как бы выводил город в ноле, а потом в лес, к речному спуску и – дальше, неведомо куда, к деревням или таким же вот городам. Я плохо выспалась – мешали девочки. Пришли рано, одна плакала:
– И не уговаривай, больше не поеду. Хамы, хамы городские!
Другая утешала и все порывалась уйти погулять ещё («Я бы поглядела, как там мой Петенька с другими крутит») и не решалась обидеть подругу, хотя втайне и надеялась, что Петенька не крутит и что это именно он ходит под окном и посвистывает.
Потом, когда девочки притихли и Петенька отвалил, начало меня сносить течением сна, обретавшего все большую четкость. За последнее время я забыла, что бывает такой ядреный, без болотной зыбкости сон.
Когда утром я вышла из комнаты (девочек и правда уже не было, а пьяные еще спали), в коридоре, как и вчера, босоногая белолицая дежурная ставила самовар.
Она напомнила, что дед звал к нему, объяснила, как идти. И вот я у того стога, что выводит город к другим далям и весям.
И за мною шла моя тоска.
Она догнала меня еще вчера, возле гостиницы. Почему – не знаю. Может, было невыносимо, что Ты не видел той речки, и моста, и заводей внизу, под солнцем. А может, просто нагнала по следу. Но я опять опущу это. Потому что в то время Ты еще не потерял для меня живых и теплых черт и не обрел значения символа. Хотя молитвенное смирение уже гнездилось где-то в глубине. И первые слезы – не гордые и злые, а истинные, от печали и утраты и уже от благодарности– горячо подступали к глазам.
А трава вдоль тропы касалась рук. И касалась ноздрей ее разогретая пыльца. Цветы так не умеют пахнуть, как трава. Это была уже вторая трава на заливном вдоль речки лугу.
Она много петляла в своей жизни, эта речка. Она разбросала много оврагов и оползней. Теперь они поросли где лесом, где буйной травой, а где остались песчаными срезами, и все это вместе давало эффект прекрасного, эффект зарождения счастья. И дед поселился посреди этой благодати рядом с еще четырьмя владельцами маленьких крепких домишек.
Дом был обнесен частоколом (я потом узнала – от лисиц, а то больно цыплят крадут), а сад – отличный фруктовый сад с ульями – вынесен за изгородь (люди здесь не воруют. Все свои, все на виду, даже и городские). Хозяйка деда была – старое издание белолицей гостиничной дежурной. И так же приветлива. Только что не испорчена службой. И щеки пожелтели немного от времени, но не сильно. Принесла меду в большой банке:
– Дед ушел, дак велел принять, угостить. Садитесь, садитесь к столу. И самоварчик готов.
Булки она пекла, посыпая их сверху мукой. И эта прихваченная жаром мука была особо вкусна. Говорила о саде, о пчелах, как дед хорош в пчеловодстве, что другие еще и медогонки не замарают, а у деда уже полно меда. И как умна пчела, что она «червит по взятке».
– Как это?
– А вот если мал цветочный урожай, взятка плохая, так она и потомства дает мало. (Я вспомнила, что пчелиные детки и правда похожи на червяков. «Червит!»)
– Деду помогаете?
– И деду, и по своему делу. Скотину обиходить надо, огород на грядки поднять.
За частоколом проплыла статная девушка с короткой белой косой.
– Светлана идет, – закивала бабка.
– Ваша?
– Нет. К соседям приехала с матерью. Мать-то ее – наша, с Горы. Да в самой столице прожила с детства и молодые годы. Хорошая была, дородная.
Девушка вошла, чуть пригнувшись в дверях. Была она не то чтоб красива, но, как говорят, осаниста. Какая-то была в ней порода, подпорченная чужой кровью. Лицо получилось узкоглазое, с недобранной. И всё же притягивающее взгляд. Может, от гордо вскинутой головы.
– Здравствуйте.
И нижняя губа натянулась прямо. Вовсе эта гримаса не была похожа на улыбку – где-то я уже видела ее. Видела! Волевая гримаса…
А кожа нежная, и эти льющиеся волосы. Верно, носит их распущенными, только здесь заплела для приличья. И эти волосы я тоже знаю.
– Как мамка-то? – спросила моя старуха.
– Ничего, бабушка. Ноги опять распухли.
– От жары.
Девушке было не так интересно про мамку. По молодости это неинтересно. Только потом, когда мы взрослеем… Но тогда уже поздно.
Девушке было интересно, кто я. Она тоже будто узнавала меня и не могла узнать. И мы глядели.
Сколько времени прошло? Когда? В какой жизни встречались? Может, в гостинице? Там, где висит объявление: «Работает стол самообслуживания электробритвой». (Вот клянусь – висит!) Может, она была администраторшей, сживавшей мне, что нет мест?
Или запомнившейся почему-то пассажиркой в набитом автобусе, который в пыли и колдобинах пробивал многочасовой путь? Поля за окном, деревни, хуторки, дальний лес. И эта пыль, пыль, которой сотни лет. Взлетала под копытами татарских коней и опричников, оседала на мягкие лапти странников. И теперь вот – припудренные той же пылью покорные лица людей в автобусе.
Такое ощущение странное:
Лет шестьсот я езжу по этим дорогам.
Каждый камешек…
Сено коровам.
И, бывало, при Грозном —
Стоны да звоны,
А поля сенокосны
И сонны, сонны…
Меня настигало теперь повсюду это ощущение давности. И казалось, где-то рядом, вон за тем леском, живут еще вятичи и дулебы, а то и чудь заволочская… Может, тогда и встречались с этой статной дулебкой, – когда мужчины наши совершали набеги, а мы, женщины, ждали их с добычей и с полонянами.
Но это все выдумки. Потому что иначе она не назвала бы меня так, как звали в далекой моей жизни там, в переулочке с тополями и с крокетом: Аня.
Она сказала:
– Аня!
– Светка! Товарищи, та-та! – ответила я. И мы обе рассмеялись.
Света! Светка Сидорова! Дочка Насти и Степана. Вот оно как! Кто мог ждать? Мы не обнялись и не поцеловались. Но на речку пошли вместе. И в тот день, и на следующий. И начались длинные разговоры, жесткие с ее стороны по отношению к отцу и покровительственные – к матери.
Вот что я узнала о Степе. О моем герое, к которому у меня всегда не только притяжение полярности.
Степа! Степа! Степан – книга под мышкой, пытливый глаз, жадная хватка памяти. Вечный ученик, познаватель, хвататель сведений! Кто сказал тебе, будто каждая гусеница в конце концов обретает широкие и яркие крылья – надо только стремиться в рост, перемалывать челюстями мясистый лист, ползти, ползти вверх по дереву. Нет, конечно, все может быть. Но птица – не склюнет ли? И потом – непарный шелкопряд – кем он был прежде? Разве ты к этому стремился? Нет, нет.
Ты, вероятно, не создан был для полета (не всем же!), но было в тебе нечто, что заставляло останавливаться в восхищении. Может, только очень уж ты любил это поступательное движение по корявому, всем глазам (как напоказ!) открытому стволу.
Степа! Степа! Что я знаю о тебе? Да ничего. А прошла жизнь. И, продираясь сквозь память, сквозь многолетние завалы ее, я выбираюсь на выложенный широким плоским камнем тротуар моего детства, где колышутся солнечные пятна, созданные игрой ветра и густой тополевой листвы. И мне этим далеким солнцем озаряется вдруг все, что хотелось оттолкнуть, отторгнуть, стереть. Не всякая река вызывает желание искать ее истоки. Течет и течет. Вот и здесь так. А теперь вдруг, по прошествии, за давностью, да под этим солнцем памяти, да среди этих лесов, помнящих более давнее и более тяжелое – все то, переулковое, крокетное, тополевое, вдруг отозвалось болью, жалостью и зажило иной жизнью – жизнью заглохшего пустыря, где хотели построить, да не построили, и так он и остался. Зарос. Рождает смутное сострадание и чувство (почему-то) и своего запустения.
А при чем здесь Степа Сидоров? Да почти ни при чем. Только вот что мы – люди, и он, и я, и эта его статная дочка с недобринкой в глазах, в великой доверчивости открывшая мне жизнь отца.
Я не пересказываю точно, а так только, в преломлении, Разве мы бываем объективны?








