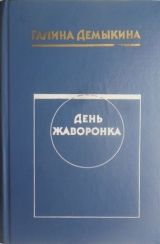
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Первое, что отпечаталось в памяти, – это крепкий шлепок об землю – как-то тяжело, животом.
– Юраша! – закричала мама.
А бабушка остановила:
– Не тронь его, а то заревит.
А он и не думал реветь (нет, хотел, конечно, да не стал), потому что, лежа на животе, заметил в траве возле дома, где свалился, крохотного птенца. Они долго глядели друг на друга. И Юрка ясно видел взъерошенные перышки на его серой головке и светлый, обведенный желтой каемкой клюв. А над ними уже летала птаха.
Обеспокоенная его долгим лежанием, подошла бабушка:
– Ты что, никак убился?
И Юрка молча кивнул в сторону птенца.
– Удрал, – шепотом сказала бабушка, помогла мальчику встать и повела его к дому. – Много у нас птах этих! Пошли-ка, пошли, они сами управятся.
И Юрка ощутил (как – это даже сказать трудно) теплоту солнышка, и свежесть и таинственность травы, из которой вдруг может глянуть такое нестрашное, желторотое, и прочную радость оттого, что они все втроем – он, бабушка и мама. А в сенях ему понравился устойчивый запах кадок и рогож (будто раньше не слышал), а в комнате – холодок сквозняка от открытых настежь окон с прибитой марлей, чтоб не летели мухи со скотного двора.
И потом по вечерам, запрыгивая в широкую, еще пустую мамину постель, он тихонько радовался чему-то, чему не было имени.
В то же, кажется, лето один человек подошел к дому, привалился к венцу и пальцем подманил:
– Иди-кось, сынок, гостинец дам.
Юрка подошел, и человек протянул ему картонную трубку, оклеенную цветной бумагой.
– Подставь к глазу-то, глянь, глянь!
Юрка глянул и захохотал от восторга, и человек, хлопнув руками о подогнувшиеся колени, тоже захохотал.
– А? Ты поверти ее, ешшо, ешшо! – Он был рад не меньше мальчика.
Но вышла бабушка, и человек поскорее ушел, а трубка осталась у Юрки. И если в нее глядеть вверх, на свет, внутри складывались и переливались цветные узоры, их было много, разных, и привыкнуть к ним было нельзя.
– Там стеклушки, – сказал один из его старших приятелей. – Это колле… койле… У меня был такой. Давай вытряхнем!
Он врал, этот парень. «Стеклушки». Юрка прижал к себе трубку. Он ушел домой и попросил бабушку спрятать. Старуха поворчала: «Знай, от кого брать», – но калейдоскоп убрала. И Юрка изредка просил посмотреть и всякий раз в голос смеялся от радости.
Чуть позже было и другое. Собственно, оно было всегда, только прежде таилось:
пряталось по углам;
протягивало руки из темноты;
нашептывало; исчезало и вдруг обозначалось;
невидными нитями связывалось с бабушкой.
Однажды ею было сказано: «В школу сегодня не ходи» (уже во втором классе). И в тот день заблудившийся немецкий самолет сбросил зажигалки, и школа загорелась. Детей, правда, спасли всех. Но вот второкласснику Юрке Бурову велено было не идти. Может, как раз его бы… А так – остался ему весь привольно лежащий на песчаных холмах город; деревня Крапивенка; речка с затонами, где щурят – хоть руками бери; поле, лиловое от люпина; лес, где под дубом валялся, ощерившись, белый лошадиный череп: пока мужики окашивали поляны, медведь задрал копя.
Возможная встреча с медведем не пугала. Драка с мальчишками – тоже: сам первый лез. А вот тот, другой медведь, которому мужик отрубил лапу и который пришел ночью к его дому:
Все села спят,
все деревни спят…
Одна баба не спит, —
этот – из ночи, из тьмы, невесть почему знающий, что делает старикова баба, спеша и озираясь на черное окно:
Мое мясо варит…
Мурашки по телу. И под одеяло с головой!
Бабка была не как все. На нее на улице с опаской оглядывались. Но и ходили тайно, шептались с ней в сенях, а то в ее светелке.
Юрка хотел знать, но слушать не смел.
А когда бабушка пела (пела слабенько, не то что мама – той голосу на троих отпущено, да редко кто его слыхивал) – вот то Юрка любил. И даже хотел допытаться – о чем? Пела, например, обращаясь к матери, с умыслом:
Что не ястреб совыкался с перепёлушкою,
Солюбился молодец с красной девушкою.
Проложил он путь-дорожку – перестал ходить.
Проложи он худу славу – перестал любить.
– Полно вам, мама, – слышал Юрка всегдашний материн жалобный отзыв. И спрашивал бабушку:
– Расскажи про этого… ну, про ястреба.
– Про ястреба – не диво, – говорила бабушка и поглядывала в мамину сторону, – я вот тебе про лебедицу расскажу.
Она отводила внука к себе в светелку (вообще-то ход туда был не свободный, бабка не такая уж была простая). В крохотной этой комнатушке при сенях было чисто этакой старушечьей чистотой – все старое, да мытое. Там по стенам висели пучки травы, под окошком стояли бутылки тоже с травяным, пахучим. Бабушка усаживалась на низкую деревянную кровать (еще покойный дед сколотил) и, обняв мальчонку и покачиваясь, плела старинную сказку-старину, что-то теряя в ней по пути, что-то отдавая свое.
– «Был у короля сын – Иван-королевич. Вот поехал он на охоту. Только до речки доскакал – выходит ему навстречу девица. Да такой красоты, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Полюбилась она королевичу, и решил он на ней жениться.
– Пойду к тебе в жены, – говорит красавица, – только дай клятву, что никогда – ни в горе, ни в радости – не спросишь, кто я такая.
Поклялся королевич, и зажили они счастливо.
Долго ли, коротко ли – стал он замечать, будто жена его чем-то озаботилась. Да еще – стала часто на речку ходить. Вот один раз на вечерней зорюшке вскочил он на коня да к речке прискакал. Глядит, а на берегу сидит его жена-красавица, белых лебедят из рук кормит – приговаривает:
Дитяточки мои лебедяточки,
Чистой водицы попейте.
Отборной пшеницы поклюйте…
А на траве белые крылья лежат. Взял королевич да и сжег эти крылья – до перышка – и говорит жене:
– Вот кто ты есть? Допытался я.
И только сказал, а на том месте и нет никого».
– А кто же она была-то? – спрашивает Юрка.
– Кто-кто… – вдруг недовольно отзывается бабушка. – Видно, мал ты еще, чтобы сказки тебе сказывать.
* * *
Детскому пониманию доступно почти все, что и взрослому. Только ощущается таинственней, а проявляется обнаженней.
Он помнил, как хотел власти. Безраздельной. Мальчишки против этого устоять не могли. Он придумывал игры; самолично и вполне справедливо делил свое войско на отряды (если игра на «кто – кого»), наказывал виновных. Когда стал старше, не уступил места атамана тому, кто поумнее (ведь именно так чаще всего кончают мальчишечьи вожаки, которые держатся на силе и инициативе!), а сам стал «поумнее», и решать всякие споры: как теперь сложатся наши отношения с немцами, скольких правителей обманул в свое время Талейран… – прибегали опять же к нему.
Школа отделила его от теней, шорохов в углу. Она внесла свой вклад реального, размеренного, организованного. Потянули и себя организовать, свои дела, а потом даже мысли (когда они появились).
А что до Талейрана…
«О, мадам! – сказал этот лукавый старик госпоже де Гемюза. – То, как проходят первые годы нашей жизни, влияет на всю жизнь…»
Да, да, Талейран, бедняга, до четырех лет жил у кормилицы, пока не упал с высокого комода, куда эта почтенная женщина посадила ребенка и откуда забыла его снять. И вот – страшная хромота на всю жизнь. Но это – лишь телесные страдания, а дело не в них. Отнюдь не в них. Надо же когда-то освободиться от этого жалкого сидения на комоде, когда никто не помнит о тебе, но освободиться, не свернув шею. Не падать больше! Пусть другие падают.
Но все это не имеет отношения к Юрке Бурову и к его городку – Крапивину-Северному.
Бабушка поздним вечером, почти ночью, топит лечь. Красный свет угольев и – огромная черная, с оранжевыми краями тень. Где это видано – кухарить ночью? «…Мое мясо варит…» Восьмилетний Юрка проснулся и глядит с большой кровати, где он спит теперь (мама на фронте, она медсестра). Темные руки расправляют тусклый, высушенный на солнце травяной стебель, губы шевелятся едва внятно: «Вода-водица, река-царица, заря зорица, соймите тоску-кручину и уносите за сине море, в морскую пучину».
Травины ложатся в чугунок, и – нежный дух поля, дождя, лета.
«Как в морской пучине сер камень не вставает, так бы и тоска-кручина к ретивому сердцу не приступала и не приваливалась, отшатилась бы и отвалилась…»
Юрка, кажется, от рождения помнят эту траву, возвращенное ее запахом время лета, – память солнца на коже, ветра в подоле рубахи, когда он, еще маленький, босой и бесштанный, шел меж картофельных гряд в поле: тогда была неясная мечта – уйти от этого огорода, кольев, крапивы, кур, загадивших всю землю, – уйти в синий лес, что за полем. Там, говорят, волки.
Потом, уже в отрочестве, странные эти причеты, черная бабкина тень, ее неровные, оранжевые, похожие на крылья, обгрызенные края и красные уголья – порхание и промельк в них – стали четкой картиной желаемой красоты и тайны. Захотелось оставить это для себя, чтобы всегда можно было сюда вернуться. Купил детский набор акварели и кисточку, раскрыл школьную тетрадь: красное густо брошено на лист. Там теплился, жил огонь. Но не он один: за пределами листа было еще что-то, что отбрасывало черную тень с неровными краями. Тень ни от кого. Кто-то (или что-то) – за кадром.
Он был счастлив находкой, долго сидел, зажмурившись и смакуя эту тень от неизвестности. От судьбы. Как предчувствие. И – мурашки по спине.
А когда открыл глаза, подсохший рисунок поблек, четко проступили тетрадные клетки, на которых должны были стоять цифры или буквенные их, алгебраические изображения.
Юрка попытался восстановить в памяти ночь, когда он глядел на пламя печи, на скрюченную бабушкину фигурку над травами, среди пламени. Но – все ушло из памяти, из сердца. Попытка перевести в искусство – убила! Будто он предал что-то. Думал, что это от неудачи. Много позже узнал: это – в природе искусства.
Юрка не пробовал повторить опыт, затаился, боясь мертвящих рук своих. Но он не был слабым человеком, двенадцатилетний Юрка Буров, потому не отчаивался, а уговаривал себя: потом. Все потом. Все вернется преображенно.
И вернулось. Но это уже другой сказ.
Школа стояла на окраине, так что ходил Буров через весь город (от окраины до другой), ходил – в радость.
И с некоторых пор неотступно шагал рядом некто Костя Панин – аккуратный, подстриженный человек одних с Юркой лет. Оруженосец, что ли. Костя этот появился и школе чуть позже. Юрка посмотрел на него и увидел вдруг, – а может, показалось, – за ним лиловая тень. Однотонная, без оттенков и резко очерченных краев, скучная, но – тень. У других и такой не было. То есть цветной.
Шел урок. «Хм! Лиловая тень, – думал он. – Ерунда какая-то. А вернее всего – показалось». Оглянулся. Костя Панин сидел за последней партой в том же ряду. За спиной, на желтой стене, ясно лепилась лиловая тень. Юрка кивнул парню, тот свел брови и чуть растянул губы. Сосредоточенный человек и опасливый: боится обознаться, – а вдруг не ему кивнули?
Но уже на перемене подошел спросить что-то про учебники, а домой шли вместе.
Возле Юрки всегда была толпа, но по дороге она рассасывалась. Костя дотопал до самого Юркиного дома.
– А сам-то ты где живешь? – спросил Юрка.
– Я? Я… Да возле школы живу… пока… Мы снимаем.
– Надолго к нам?
– Не знаю… Как повезет.
Он не хотел говорить, и Юрка не стал пытать.
– Зайти за тобой утром? Я рано встаю, – спросил Костя.
– Валяй.
И он зашел. Маленький серый паренек (серые глаза, серая кожа, серые волосы). И стал заходить за Юркой в школу и тащиться через город после уроков. Далековато, конечно. Зато безопасно: кто тронет Юркиного друга?! А тут, кажется, пределом жизненных посягательств было (пока) – «не тронь».
Говорить особо не говорили, будто присматривались, принюхивались.
У Юрки был отличный перочинный ножичек – еще довоенный. Нож брался за кончик, бросок, и – вжжих! – этот же кончик впивался в дерево. Нож вибрировал напряженно.
– Хочешь, кинь!
– Я не умею, – ответил Костя.
А через несколько дней по пути в школу сам спросил:
– Дай-ка теперь.
И из пяти раз попал три. Хм, упорный. Натренировался! Но Юрка промолчал – ни похвали, ни хулы. Так уж ведется на севере. И тогда впервые спросил:
– Ты кем будешь-то?
– Я? – Мальчик удивился интересу к себе. – Я на исторический пойду.
– Почему?
– Понимаешь… – Серая кожа на лице Кости Панина стала фиолетовой. – Мне интересно, как это все получается.
– Чего получается?
– Да все. Вот нас учат: роль личности… что вроде от нее ничего не зависит.
– Ты считаешь – зависит?
– А как же!
У него были и доводы, это совершенно ясно, – но он не хотел приводить. И снова Юрка не стал пытать. Только спросил:
– А тебе-то что?
– Очень даже что. Мне, мне лично это важно.
Юрка покосился удивленно: может, рядом с ним личность? Но внутренним слухом слышал, как его спутник льнет к силе… Хм, «личность»! Чего же ты тогда?!
В Косте этом была какая-то предназначенность для битья: ведь это сразу видно – кого толкнешь, а кого нет. К нему, к новенькому, тянулись, как радары, все глаза, все уши: каков?
А он вот каков.
В ту же пору к ним пришел учитель черчения, тоже приезжий (тогда было полно их), – серые волосы, серая кожа лица, серый, приглушенный голос. Он кашлял подолгу, закрывал беззубый рот платком. Но и в эти минуты в класс не приходила тишина: юность жестока, не так ли? И прозвали его «Вошка», и на его (лишь на его!) уроках бегали по партам.
Однажды писали контрольную, кажется, по физике. Не уложились вовремя, полкласса осталось на перемену. Когда дали звонок к уроку, в дверь сунулся с линейкой и угольником Вошка.
– Одну минуту, Анатолий Сергеич, – попросила физичка.
Тот укоризненно покачал головой, закрыл дверь.
Реакция физички была естественной:
– Сдавайте, сдавайте тетради, ребята, учитель ждет.
– Подождет! – вдруг зло выдохнул кто-то.
Физичка поискала глазами, в удивлении остановилась на новеньком. Точно – это сказал новенький. Тихий человек, который к тому же сдал уже работу.
– Отцу было бы тяжело, если б он узнал, – задумчиво и по смыслу темно проговорила учительница. – У него как раз неприятности.
Костя потупился.
Следующий урок начался из рук вон дурно: больно охота из за какого-то Вошки получать колы! Он вошел подчеркнуто деловито.
– Ничего, ничего. – Важно кивнул в ответ на извинения физички и сразу разложил на столе линейку, большой циркуль с мелом, зажатым в деревянной лапе, учебник по черчению, журнал. Ну учитель и учитель! Прямо не Вошка! – Прошу сдать домашние работы. Собери, дежурный.
В голосе его было раздражение, а он не имел на это права. Не имел, да и все.
Парень, сидевший рядом с Юркой Буровым, поднялся было, но тут же сел, схваченный за руку соседом.
– В чем дело, Буров? Сдавай чертеж.
– Я не принес.
– Да вот же он, заложен в книгу.
– Это не тот.
– Покажи.
– Что ж, вы не верите мне?
И Юрка убрал книгу с листком в парту. Не будут же с ним драться!
– Я поставлю двойку. Та-ак… Буров – двойка.
Поединок начался. О, как неравны были силы!
Учитель стал вызывать по журналу. Выкликал фамилию и уже знал, что будет отвечено.
– Нет.
– Не принес.
– Нет.
Рука его, выводящая двойки, дрожала.
– Панин!
– Я не сделал.
– Это неправда, Костя.
Серое лицо учителя поднялось над столом, водянистые глаза потемнели от злости, упершись в такие же потемневшие Костины глаза.
– Я не вру.
– Ты что тут комедию ломаешь? – закричал вдруг человек у стола, и хлопнул ладонью, и потом стер ею слюну, брызнувшую из беззубого, обезображенного злобой рта.
Ребята притихли. Потому что удивились. Что это между ними за разговоры?!
– Не кричите на меня! – все так же надменно прошипел Костя.
– Да я тебя выдеру, подлеца, не то что…
Класс захохотал, загикал: поняли наконец, кто эти двое друг другу, поняли, что не первая это между ними вспышка и что Костя стесняется отца, потому и таил долго, и что отец понимает это и оскорблен, злится и что сейчас еще что-то будет такое же щекочущее нервы. И оно правда стало.
– А ты… Ты… – закричал вдруг почти по-девчоночьи тонко Костя. – Тебя знаешь как зовут?
До этого все свободно бегали по классу. Кто усаживался третьим, поближе к учительскому столу, – ничего не пропустить бы! Кто, выбежав к доске, строил гримасы, приплясывал. А тут все остановилось, ждало.
– Сказать? А? Сказать, кто ты тут для всех?!
– Я знаю, – вдруг совсем тихо ответил учитель и сел на стул. – Я и сам знаю.
Он закрыл голову руками, будто его собирались бить. А по коридору гулко процокали шаги. Дверь открылась.
– Что тут у вас?
На пороге стоял директор Пал Палыч. Он был не то, чтобы строг сейчас – скорее серьезен.
– Как дела, Анатолий Сергеич?
Тот все ниже клонил голову, кладя ее постепенно на журнал, и все шире охватывал ее руками.
– Павел Павлович, – сказал вдруг Юрка и сам удивился своему прозвучавшему в тишине голосу, – Анатолий Сергеевич просил меня собрать домашние работы. У него болит голова.
И, не ожидая разрешения, достал из парты свой чертеж и пошел по рядам:
– Давайте чертежи, давайте, ребята.
Директор протянул руки ладошками вниз, будто дирижировал:
– Занимайтесь, занимайтесь! – и тихо вышел. И каблуки его не щелкали по коридору.
Почти сразу раздался звонок. Юрка положил кипу на стол. Ребята, будто сговорясь, быстро и молча убрались из класса.
Через некоторое время оттуда вышел и учитель, сопровождаемый бледным, растерянным Костей. Они прошествовали по этажу, и ни один из мальчишек не перебежал им дорогу, не крикнул, не засмеялся.
«О, мадам, то, как проходят первые годы нашей жизни…»
Гл. III. Лида СчастьеваБывают люди, о которых трудно говорить. И с ними трудно. И не потому, что так уж они сложны и непонятны. Просто – едва дотронешься, как заденешь болевую точку. Всюду болит. Такое душевное устройство.
Лида была сказкой городка. Синеокое ее победное лицо; улыбка… так улыбалась бы крепость, которая никогда не падет; движения, похожие на выныривание поплавка: вверх, вверх, вверх, если даже тянет рыбина в глубину.
О Лиде Счастьевой читали лекции по клубам и школам: она в войну была парашютисткой, ее награждали орденами, вызывали в Москву… Узкобедрая и широкоплечая в соответствии с тогдашней модой, светлоголовая, смуглолицая, на длинных крепких ногах, она самолюбиво двигалась по деревянным улицам Крапивина-Северного, засыпанного песком, заросшего лопухами и лебедой. И все окна глядели ей вслед.
Лида Счастьева! Красавица Лида! Не она одна вынесла страх и скорбь войны, горькую радость победы. Но, может, не так крепки были эти плечи, может, для их широты было подложено чуть больше ваты в новый штатский костюм, а так – они покатые, нежные, и скрипкам бы петь, и тонким шелкам касаться…
«Во мне болит тишина», – писала она в дневнике.
А сон ее почти повторял быль: фанерный вагончик среди степи, и у самой черты горизонта – пыль, пыль и приближающийся черный клубок: враги. Она знала это ощущение беззащитности, – парашютистка, подвешенная на огромном белом зонте над целящейся в нее землей.
Прекрасные ее, неровные, похожие на чесночинки зубы открывались в победной улыбке. Крепость никогда, никогда…
По ночам она кричала во сне.
Из знакомых парней с войны вернулись двое: толстогубый и толстозадый Ленечка (когда Лида кончала школу в сорок первом, он перешел в восьмой класс) – теперь и он был орел! И всем парням парень Митя, тоже Счастьев – какое-то дальнее родство, проследить которое никто не мог. Оба ринулись к Лиде и оба пали жертвой ее радушия и равнодушья. Но ведь молодость любит разбивать стены. Вот они и взялись каждый на свой лад.
– Прынца ждешь? – сердился Ленечка, вздувая на скулах желваки. – Или избаловалась, семья не нужна?
А Митя щурил подплавленные внутренним огнем глаза.
Желтые иголки
На пол опадают —
Все я жду, что с елки
Мне тебя подарят!
Он почти всегда призывал на помощь стихи Симонова, поразившие в военные жестокие годы своим прикосновением к интимному, точно открывшие заново, что человек, несмотря ни на что, продолжает быть и пост свою птичью песню на развалинах судьбы.
А Лида уже спела свою песню, похожую на крик, захлебнувшуюся над листком похоронки, пришедшей с другого фронта, куда послали его, его – кусок ее души, ее тела, её жизни. Молоденький лейтенант с трогательными, почти детскими завитками на затылке, строгий и властный мальчик, беспомощный перед ней. Разве, стреляя в человека, убивают его одного?
Тогда у Лиды отобрали оружие, потому что видели: ей легче не жить. Но все ж она дошла в полузабытьи до конца войны, прослужила еще около двух лет в оккупационных войсках и только после этого впервые прошагала по дощатым тротуарам родного Крапивина, победно вскинув голову и возбуждая любопытство, зависть и, разумеется, осуждение: «Быть не может, чтобы у ней так уж ничего…»
Не может, не может, вы правы, дорогие!
И тогда же откуда-то из подворотни глянули в упор резкие, светлые, почти детские глаза: восторженные, злые, азартные. Пятнадцатилетнее бешенство радости и утраты… Она знала мужское искательство, и оно было бы ей сейчас ненавистно. Здесь же Лида ловила этот взгляд совершенно отдельно от его носителя, и что-то в ней крепло, вздрагивало пробуждающейся жизнью. А самого мальчишку она едва ли узнала бы, пройди он мимо с опущенными глазами.
Во мне болит тишина…
Директор школы был человек пожилой и тихий. В городе, похожем на село, и школа тоже почти сельская, двухэтажная, рядом с пекарней, поэтому запах в ней был всегда домашний, теплый. Нянечка Нюша любила цветы. От каждого своего цветка, будь то герань или Ванька мокрый, отторгала по росточку или листку, давала прорасти в баночке и тащила в школу, на окно, – первый этаж цвел, как оранжерея. Так было до войны, в войну много померзло, да и Нюша болела, не за всем был догляд. А теперь снова закружевело на окнах. Лиде понравилось проходить мимо. И ребята шныряли, как ожившие весной мухи. Смущала лишь почтительность, с которой ей кланялись. И отдаленье. Все были с ней на расстоянии, кроме родных да Ленечки с Митей. Даже бывшие подружки. Впрочем, чужое горе, если оно не рассказано, отпугивает.
Директор Павел Павлович говорил по-здешнему, нажимая на «о». А Лида уже переучилась, и ей, когда они заговорили, это показалось неловким – будто она хочет выхвалиться. Но сразу прошло. Заговорили они так: он открыл окошко в коридоре на первом этаже и крикнул на улицу, как школьнице:
– Счастьева, зайди-ка, зайди сюда!
И она, попятно, зашла. Он молча повел ее на второй этаж и – через учительскую – в свой кабинет. Она сразу вспомнила большую карту на стене (директор был географом), плохонький стол, заваленный тетрадками и дневниками (как она волновалась, бывало, когда ее дневник попадал сюда!). Лида по-детски испугалась, что он спросит ее забытое из географии, и по-взрослому – что заговорит о войне, попросит выступить… Но он усадил, как ученицу, напротив себя и спросил жалостно;
– Что собираешься делать?
А она еще и не думала. Она еще качала на руках свою боль и усталость…
– Не знаю, Пал Палыч.
И вдруг заморгала, заморгала… Вот чего ей хотелось, оказывается: вмешательства. Чтобы в душу влезли. Нахально, по существу, влезли, потому что какое его дело?
– А что читаешь?
– Ничего пока… Я еще…
– Ну, выбора что-нибудь. Вон в моей библиотечке.
Она кинулась к шкафу, чтобы отвернуться от старика, и выбрала, не глядя (буквы расплывались), самую толстую книжку: можно будет подольше не приходить.
– Ну и дело, – сказал он и протянул сухую, теплую руку.
Она шла домой, не глядя вокруг, забыв надеть победное обличье. Отобрал старый ее наигранную гордость и снова ввел в сан ученицы. А это было ее, ее звание! Она создана была вечной школьницей, безраздумно потребляющей сведения. И просто не знала об этом, как не знает утенок, впервые чиркнувший перепончатой лапой по воде, что это его стихия.
Утром она открыла книгу. Открыла, чтоб узнать:
Есть в Флорентийском Национальном музее мраморная статуя, которую Микеланджело назвал «Победитель». Это нагой юноша с прекрасным телом, с вьющимися волосами над низким лбом. Стоя прямо, он ставит свое колено на спину бородатому пленнику, который сгибается и вытягивает голову вперед, как бык. Но победитель на него не смотрит. В минуту удара он останавливается, он отвращает свой скорбный рот и нерешительный взор… Он откинулся назад. Он не хочет больше победы, она претит ему. Он победил. Он побежден. Это изображение героического сомнения, победа с разбитыми крыльями, – это сам Микеланджело, символ всей его некоей.
Не образ побежденного победителя завоевал ее, не рассказ о беспокойстве духа, которое, по мнению автора – Ромена Роллана, – есть недостаток гармонии и, следовательно, зависит не от величия художника, а от его слабости… А сам факт существования высокого и возможности вот так говорить о нем. И не просто высокого – уж какое видела она на фронте и потом в госпитале! – а вот этого отстраненного от повседневности или преображавшего ее – высокое искусство, вот что! Может, именно война – боль, нищета, долгое неподпускание к себе всего, что не относится к сегодня, к сейчас, – породили этот рывок к искусству. Она читала и слышала в себе робкое, скорбное и счастливое: «Живу! Живу!»… – издерганное, гордое, отмеченное красотой существо, вечный школяр на полной нешкольных тайн земле.








