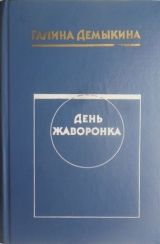
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Юраша, – сказала бабка и поманила сесть возле, – занемогла я. Если помру, злом не поминай. Людей не слушай. Я не так, может, жила, и по хозяйству поплоше других, и тебе вот с матерью оставить нечего. Дак ведь мне данобыло. Даномне это. Нет моей воли скинуть.
– Что дано? – наклонился к ней Юрка. Он знал, о чем она. Но ведь бабка никогда не говорила с ним об этом. А после сегодняшнего ему хотелось ясности.
– Знать кое об чем дано… врачевать, заговаривать.
– Как это?
– А я и не знаю, как сказать-то.
Она отдышалась тяжело, прикрыла глаза.
– Не свободна я, вот что. Будто что во мне живет и приказывает: «Твори то, твори это».
Старая лежала прямо, и темные глаза ее, устремленные на Юрку, постепенно обретали живость. Точно бы легче ей стало от высказанного, от внимательного Юркиного беспокойства.
– Тебе бы передала, да молод. Вон какой взбалмутной пришел. А тут покой нужен. Большой.
И вдруг добавила:
– Мамку жалей. – И кивнула в сторону стола.
Юрка схватил письмо, стал глядеть на знакомые закорючки. Скорее догадался, чем прочитал, так они были неразборчивы: «Еду домой покалеченная. Принимайте, какая есть. Все же за вас воевала».
Юрка отошел к окну, смотрел на улицу. Напротив их избы ничего не было – только проезжая дорога да веретёнышки пыли по ней. Дальше – зеленая лужайка, зеленая, с травой и кустами, и берег, обрывающийся к реке, – коричневая кайма её на глубине и желтая от песка – у того берега. И там зелень, луга. Хорошо всё же у нас, – так думалось, думалось для отвлеченья, чтобы еще какой-то миг не представлять себе этого вот: «…принимайте, какая есть…» А какая есть?
Юрка хорошо помнил мать, хотя больше бывал с бабушкой. Помнил, как она приходила с поля – в белом платке, закрывавшем лоб и завязанном сзади, в выгоревшем платье. Ему нравилось, как она крепко ступает по половицам босыми ногами, как сперва сердится – отойди, мол, устала! – а напьется молока с хлебом (стоя пила, никогда, бывало, не сядет!), так и улыбнется вдруг. И тогда видно, что зубы у нее белы на загорелом лице, а глаза нестроги.
– Ну, неслух, давай за вихры-то оттаскаю!
И вцепится сильными руками в волосы – щекотно, не больно. А он вырвется, побежит, она догонит, – а то я не догонят, – и пойдет у них возня да кутерьма! Бабка никогда не угомоняла их.
Помнил, как перед войной большим уже, лет восьми, копал вместе с ней картошку возле дома, и она не помогала ему, а по-бабьи подсмеивалась его неумелости.
– Эге, мужичок, да ты, никак, озимую картофь выводишь, – эн в земле-то оставил сколько!
– Не больно-то смейтесь, я еще и поболе вашего со своей делянки возьму. В два захода иду!
– Ну-ну, поглядим.
Они весело соревновались, и она не щадила его, он это видел – вся выкладывалась, и он гнал, гнал изо всех ребячьих сил. И мечтал, что когда-нибудь станет ловчее ее.
Еще осталось в памяти, как ее посылали в Архангельск, на курсы медсестер. Не больно то хотела:
– Я в поле работник.
– Изработаешься, – говорила бабка. – А это и в старости хлеб. Коль уж не хочешь мое-то перенять.
– За вашу науку, поди-ка, горенкой да окошком в решеточку пожалуют.
– Болтай, болтай, языкастая!
Бабка морщила маленький нос, уходила за переборку. У нее были поперечные складки на носу, повыше ноздрей, и когда они напрягались, значило – сердится. Сердилась всегда за одно – за непочтительность к ее странному и опасному дару.
– Мама, мама, что вы, я ведь плохого-то в голове не держала! Выучусь, глядишь, и вместе врачевать начнем.
– Ладно, Ладно. Загад не бывает богат. А ты езжай легко, – может, и судьбу найдешь.
– Нет уж, моя найдена, – вздыхала мать.
– «Найдена»! – ворчала бабка. – Под забором валяется.
Юрка знал, о чем они. Судьба – это муж, новая семья. Он не желал ей судьбы. А «под забором» – и про это разумел. Жил в городе некто Матвей Иваныч Симаков, мастером на фабричке работал, стайки чинил. Жил шумно, скандально, пил непросыпно. Спьяну жену и ребятишек загонял на чердак – и чтоб цыц там! Чтоб ихнего духу не слыхать! Потом шел, волоча ноги, через город, большой, тяжелый, обрюзгший, шел к пригороду, к их деревеньке Крапивенке. Стучал у окна:
– Таня! Я это.
– Вижу, что не прынц, – резко отзывалась мать и отходила от окошка.
– Виниться пришел. Пусти, Татьяна. Словечко скажу.
– Наслушалась.
Он садился на бревна, сложенные под окном, закуривал, опустив хмельную голову.
А в маму точно бес вселялся – начинала мыть, чистить в избе, песни петь (ох, и голос у нее был – заслушаешься!). Воду выплескивала с крыльца возле гостя; а то возьмет косу, траву начнет подкашивать – так тоже под самым его носом. Сердитая, веселая.
– Ан пятку-то срежу, сторонись! – И улыбнется ярко, и вдруг погасит улыбку. Красивая. Ах, красивая!
Юрка не знал, а понимал свое и сам начинал озоровать: за петухом погонится, перо из хвоста выдернет; через плетень перескочит; молоко в кружку нальет, на крыльцо сядет – пьет, на Матвей Иваныча пялится.
– Чего глядишь, не признал? – спросит тот хрипло и еще ниже голову нагнет.
А Юрка молчит, свою силу чует. И все ему хочется спросить, не он ли трубку с живыми узорами подарил. Но не спрашивал. Почему-то знал: нельзя.
А как война началась, мама и вернуться из города не успела, прямо из Архангельска да на фронт.
Сколько прошло, чего натерпелась – разве узнаешь?
«…Принимайте, какая есть…»
– Когда приедет-то? – спросил Юрка, не оборачиваясь.
– Не пишет-от, – проскрипела бабка. – На станцию надобно ездить встречать. – И Юрка по голосу уловил, что она подымается.
– Полегчало, бабушк?
Она отозвалась чуть смущенно, но уже посмеиваясь над собой:
– Видать, что не померла. А то кто ж за Татьяной ходить будет?
Он обернулся, встретил ее ожившие глаза, и с души спало.
Юрке тогда показалось забавным (он думал об этом): нельзя помереть, потому что дело есть. Неотступное. Разве смерть спросит? Удивился и запомнил, чтобы много лет спустя вложить это чувство в душу старого солдата, потерявшего семью и дом. Точное – горькое и радостное – чувство: так это, так: если ты кому нужен, век твой еще не изжит. Если нужен кому.
* * *
Мать приехала на седьмой день. Седьмой раз Юрка добирался с попуткой до станции (станция была за двадцать километров). Приезжал заранее, стоял за закрытыми воротами (к платформе почему-то не пускали до прихода поезда) – смотрел, пытался узнать. Рядом выли женщины, встречая запоздалых фронтовиков. Другие стояли, окаменело сомкнув челюсти: ждали судьбы. Теснились ребятишки, неловко приспосабливаясь поиграть: толкали друг друга локтями, брыкали обутыми ногами, тихонько хихикали. Маленькие еще, не знали, не помнили тех, кого должны были обрадовать, удивить, накрепко прибить к дому.
Но вот издали становился слышен паровоз, в рядах за воротами начиналось движение. Давали стукушки малышам, прикладывали концы платков к намокшим глазам: молодые выпрямлялись, прихорашивались, лица делались суше, строже. И вот поезд останавливался. Медленно, бесконечно медленно открывались двери, спускались ступеньки. Еще медленней не сходили – сползали, вываливались мужики, кто с костылем, кто в бинтах еще. Они сперва махали кому-то там, в вагонах, прощались со своим, привычным, а потом уже оглядывали пустую платформу.
Тут отворялись ворота, и блеклая, но рядом с ними всё же пестрая толпа, неистово голося, бросалась к ним, окружала, оглушала… Тут и поцелуи, и слезы, и поднятые над головой малыши…
А однажды на платформе остался безногий. Юрка видел, как его высадили дружки, сунули раскуренную цигарку, похлопали по плечам и потом поскакали в вагон, когда поезд уже дернуло. Человек остался на асфальте, так близко к этому асфальту, что потрогал руками. Он озирался вроде бы независимо. Он не видел (а Юрка видел, ясней ясного видел!), как стоявшая за воротами женщина скорбно и холодно поджала губы. Она туго затянула черный платок под острым подбородком, на смуглые натянутые скулы пятнами вышел румянец. Женщина подхватила на руки меньшого пацана, а двум другим, постарше, сказала твердо:
– Не приехал папка, – и двинулась прочь. Прочь, прочь, сперва шла, потом побежала, и дети поспевали за ней.
Жестокая или – ради детей? Не прокормит одна четверых. А может, и из стариков кто на печи лежит, руку за хлебом тянет? В эти голодные годы. В эти лихие… И вдруг обернулась, поставила малыша и – бегом, бегом назад, с криком, с воем. Кинулась наземь перед калекой: «Милый ты мой! Жаленный..!»
Юрка отвернулся, и пошел к шоссейке, и сбился с дороги.
Но с того дня, стоя у ворот, встряхивал головой, чтоб не думать: вдруг и мама такая же приедет – руками об асфальт? Как тогда? Подбежать? Поднять на руки? Что говорить? Ведь он не сможет, как та баба: «Жаленный…» И потом – он отвык от нее. Вдруг не узнает…
Юрка ждал у ворот.
Слезали проворно чужие какие-то женщины – кто с багажом, кто налегке (инспектора ли какие, гости, может, за семь верст киселя хлебать пожаловали). А мамы не было. Первые дни волновался, потом поостыл: будь как будет.
Но вот на седьмой день, как всегда, остановился поезд, открыли ворота, Юрка ринулся вместо со всеми. И сразу почти налетел на нее. Она уже успела сойти и стояла, опираясь на палку, рядом с чемоданом. Она была в аккуратной шинельке, стриженые волосы, наполовину седые, качались на ветру. Только лицо резкое, острое, чужое.
– Мама! – позвал он тихо, и она в этом шуме услышала, обернулась, обняла. Он стал выше.
От нее пахло резко – лекарствами – и приторно – болезнью. Юрка боялся разомкнуть руки – тогда ведь надо говорить. Это была чужая женщина, совсем чужая, и в нем не дрогнуло ничего. Да и она не заплакала, не улыбнулась, точно застыла вся.
Потом опустила руки, отстранила Юрку, оглядела:
– Большой совсем. И я-то уж тебе ни к чему. Как мама?
– Получше. Вас вот ждет, переполошилась вся.
И он поднял чемодан, а она, держась за его плечо и опираясь на палку, захромала рядом.
– В ногу ранение?
– В ногу. Чуть не отрезали. Загноилась рана. Много чего было.
Она говорила нехотя, без тепла. Она была еще не тут.
Доковыляли до дороги, Юрка поднял руку, и первая же машина остановилась. Он был так рад, что старый шофер подтянул маму в кабину, усадил.
– А мой вот сынок не вернулся.
– Может, тоже где в госпитале, – впервые светло поглядела мама. – Много, ох, много еще кто мучается.
Юрка закинул в кузов чемодан, взобрался сам, и поехали. А он думал о том, о безногом. И о маме. И о другом каком-то солдате, незнакомом, который идет к себе домой через чужие земли.
Шел солдат через чужие земли к себе домой. А дома у него нет. Все погибли родные. И для себя ему жить – тяжело с собой. И рана болит. А для кого ему жить, не помереть, – так и не для кого.
Машина бежала по дороге через картофельные поля, кругом широко стояло небо, а тоска держала сердце, затмевала все, не давала видеть красоту. Вот горя сколько вокруг, а как помочь? Что сделать для этой бабы, которая ушла было от беды, а потом рванулась к ней, не пожалев себя, детишек, горе другого человека, который, может, пил да поколачивал ее, поставила выше своего… Что сделать для этого шофера, для мамы…
– Слезай, сынок, приехали!
Юрка отер глаза, выпрыгнул, держа в руке чемодан. Грузовик стоял возле их дома. А на крылечке, теребя беленький накрахмаленный (выходной) платок, теплилась, как свеча, колыхалась, тянулась им навстречу бабушка.
Юрка с шофером на руках вынесли маму из кабины.
Бабушка мелко засеменила по ступенькам, причитая; странные были и такие не похожие на нее слова, и она была точно бы другая…
– Красавица наша… звездочка… зоренька теплая…
Они обнялись и заплакали обе, а старик стоял возле своей машины, и глядел на них, и тоже плакал. И Юрка просил кого-то, – может, судьбу: пусть вернется его сын, какой-никакой, пусть вернется! Пусть та женщина в черном платке не загинет в нищете и горе, пусть воздастся ей за доброту, которая победила все же!
Юрка тряхнул головой, взбежал по ступенькам (мама с бабушкой уже были в горнице), потом вернулся к шоферу:
– Пойдемте к нам. Ладно? Как вроде к себе. Пойдемте.
И вошли вместе.
Да она не так уж и изменилась-то, мама!
Да она и смеяться-то может!
И голос-то у нее хорош, и зубы белы.
– Мы с бабушкой, мам, об вас заботиться будем. Верно, бабушка?
– А как же, а как же!
В комнату через окна и дверь заглядывали соседки.
* * *
Уже целый год Виталий не ходил в школу.
– Ну и как? Нравится? – допытывал Юрка.
– Еще два года – и техник-лесовод.
…мерная вилка…
…гониометр…
…буссоль…
– Интересно?
– …Экономика лесного хозяйства, лесоводство… Да, очень. Это вообще, Юрка, все здорово.
– Что именно?
К тому времени они привыкли видеться часто. Но всегда – по случайному совпадению путей, без сговора. Дружба шла к ним на ощупь.
На этот раз вело их в лес, коричневый, уже почти облетевший, но еще теплый, сухой. Постояли возле дуба, с которого когда-то Виталий прыгал.
– Гляди, зеленый еще, – подивился Юрка.
– А знаешь почему?
– Ну?
– Из-за листьев. Так они устроены, что слабо испаряют воду, слабее, чем у других деревьев. А значит, и питательные соки поступают медленнее. И поэтому все в дубе замедленно – и рост (ведь дуб растет дольше всех), и весной-то он никак листья не развернет, и осенью никак их не скинет.
– Как я! – засмеялся Юрка.
– Ты все к себе примеряешь?
– Нет, Виталий, точно, я туговатый какой-то. Во что упрусь… клещами тащи! Вот что мне эта живопись, а? Я режиссером буду. В кино. А начал – и не оторвусь. Сколько красок извел. Но все же вышло кое-что. Вот с той осы начало получаться. Я, знаешь, чудную штуку заметил. Сказать?
– Давай.
– Только не смейся. Ты мне везение приневолил.
Виталий промолчал неловко и счастливо. Не мог, никогда не мог он уловить Юркиных ходов.
Юрка тоже чуть смутился. Поднял с земли лист того самого дуба. На гладкой его поверхности красовался орешек, похожий на подрумяненное яблочко.
– А про это знаешь? – спросил Юрка.
– Знаю.
– Ну?
– Орехотворки.
– Кто-кто?
– Есть такие насекомые – орехотворки. Они откладывают в листья свои яички, и получаются вот эти орешки – галлы называются.
– Откуда знаешь? – жадно и завистливо выкрикнул Юрка, и подвижная ноздря его вздернулась. – Откуда?
Виталий пожал плечами, будто оправдывался.
– Прочитал, Юр. Раз уж взялся за это… У меня память хорошая. – И вдруг добавил несуразно: – Хочешь, бери книги. От отца библиотека осталась знаешь какая!
Почему-то сказал «осталась», будто отец умер.
И сам испугался. И замер весь. И не хотел, чтобы Юрка спрашивал. Тот не спросил. Молчал, молчал. Потом заговорил о другом:
– А ты не соврал, что тебе там нравится, в твоем лесном?
– Разве не интересно?
– Не в том дело. Ты как-то сказал эдак: «Раз уж взялся», будто сам себя приневолил.
Виталий ловил живой интерес к себе, и оторопь понемногу отходила.
– Я, Юрк, и правда приневолил. Сумею ли только объяснить… Интересно – во как! Нравится. А – не мое.
– Как это?
– Ну, будто живу в чужом доме. Хороший дом, теплый, а не мой.
– Как же понять-то?
– Мне, Юр, чего-то побольше этого хочется. Пошире. К примеру, я знаю, как измерить возраст молодой сосны – по мутовкам.
– По чему?
– Ну, ветки у сосны расположены по бокам ствола, кольцами – мутовками. Каждый год появляется новый круг – новая мутовка ветвей. Вот и считай. Просто. А почему у той же сосны между опылением и созреванием семян проходит почти два года? Пыльца сосны отлично приспособлена для полета – у каждой пылинки по два воздушных пузырька. На семяпочку она попадает запросто, ведь – сам знаешь – сосны голосемянные. А потом зреет, зреет: лето, осень, зиму, и к следующему лету наконец трубка пылинки достигает яйцеклетки. Шишка растет, а семена будут не осенью, а пролежат всю зиму, до апреля. Почему так устроено? Чтобы не было много сосен? Но чем сосна хуже ольхи, которой на все это хватает года?
Или зачем цветет ранней весной фиалка, когда еще нет насекомых и некому опылить цветы? Ведь эта фиалка – ее зовут «удивительная» – пустоцвет. А размножается она совсем иначе, без участия цветка.
– Может, для красоты? – неуверенно сказал Юрка. И Виталий кивнул ему:
– Вот-вот. Загадка. А заниматься я этим не буду – это ясно. Будет не до того. Нам уже объяснили насчет практической работы и трудностей.
Виталий сам себе не говорил этого. И теперь, вложив неясное ощущение в слова, заволновался. Как быть?
Юрка долго молчал, прикидывал. И мягко не то утвердил, не то попросил:
– Знаешь что? Мы вместе сделаем фильм. Такой… Ну… Чтоб как все равно утки по небу тянут. Высоко и грустно… Не очень такой сказанный.
Было ясно – Юрка щедро предлагает свое: возьми, может, подойдет?
И Виталий засмеялся с облегчением:
– Непонятный?
– Понятный, понятный, у кого есть чем понять. Не одна ведь башка нужна, а еще что-то, верно?..
Иногда они вместе ходили в кино. Шли порознь, а после фильма прибивались друг к другу.
– Я бы не так, – часто говорил Юрка. – Не так бы совсем. – А как – и сам не знал.
Однажды поточней выразил недовольство:
– Очень уж все рассчитано! Знаешь, как избу строят: это бревно, потолще, – сюда, это – сюда… И то другой раз коня на крыше вырежут. Без надобы вырежут. А тут – все в дело пошло. Дощечки лишней не осталось. А ведь фильм – он вот сюда, в душу, запасть должен. Чтоб на нем свое думалось, нарастало. Значит, не надо всё-то уж до нутра обнажать. Оставь себе. Себе и мне. Верно? – И вдруг добавил тихо: – А у меня мать вернулась. Сколько времени по госпиталям провалялась после войны. И никак теперь места не найдет. Все мечется, все мечется. – И еще тише: – А я в шоферы иду. Зовет один себе в подмогу. У него сына на фронте убили. Он днем будет работать, я – вечером.
Впервые Виталий слышал от Юрки обычную, бытовую речь. И вдруг понял: Юрка-то совсем взрослый! И позавидовал, как тот легко сказал о том, что болело. А он бы, Виталий, не смог. Нет, не смог бы.
Именно тогда Виталий завел толстую тетрадь, не зная, что она захочет сопутствовать ему все годы. (Впрочем, – вы не замечали? – так часто бывает со спутниками: только приобрети их, а там уж…)
Из тетради
22 октября.
А может – у меня невыраженные склонности? Может, я просто – трава, которая должна отдать стебель и корни? Но зачем тогда я так остро помню? Зачем тогда бродит внутри, если – трава?
Отец бы… Что я сказал сегодня! Если бабушка Устинья лечит словом, то, значит, словом и убить можно. Папка! Я верю, что ты жив. Я буду повторять это, пока не вернешься.
* * *
От этих лет еще остался случай, одной ниточкой спутавший сразу несколько жизненно значимых для Виталия людей. Ниточка была тончайшая, легко было потом порвать, но, как на случайной любительской фотографии, все остались запечатленными.
Давно, когда Лида Счастьева только еще вернулась в Крапивин, вместе с ней тогда приехало двое военных. Они почтительно носили Лидиной матери воду от реки, перекололи все дрова и сложили возле дома душистыми штабелями.
Эти двое привезли в зеленом с крапинами «виллисе» отличную вещь – велосипед. Виталий видел темно-бежевую раму и крылья, когда его выгружали, и этот благородной формы руль, и блестящие перекрещивающиеся спицы. Шины были широкие, красные… Трофейный.
Должен был приехать один из этих военных и забрать его (об этом знали все мальчишки), а потом не приехал. И уже несколько лет спустя написал, чтоб машину, если она сохранилась, продали, а деньги переслали. Парень строил дом и нуждался в деньгах. Это Виталий услыхал от самой Лидиной матери – она клеила на фонарном столбе объявленьице и всем подходившим поясняла:
– Продайте, пишет, Прасковья Андреева, а деньги перешлите. Деньги нужны. И за сколько – назначил. Я не от себя беру: вот письмо, в нем и сумма означена.
Пока у машины был хозяин, это был запретный плод. Чужая вещь. Кому-то повезло. Теперь этот красавец ничей. У кого найдется свободная тысяча рублей, тот и поведет его за блестящие пригнутые рога, на зависть всем прочим. Тот и разбежится по булыжной мостовой, поставив одну ногу на педаль, а другую занеся над новеньким коричневым седлом. Ррраз! И ты уже в седле, и мелькают перед глазами дома, домишки, парк… И головы прохожих поворачиваются вслед, потому что ни у кого в городе нет велосипеда. Тем более – такого.
И всего только тысяча рублей!
Они жили впроголодь.
Мать устроилась все же в школу учительницей литературы, но уроков было не много, да и те пропускала – часто болела. О покупке Виталий не думал даже. О чем тут думать? Но оторваться от объявления на столбе было невозможно. Рядом слышалось тяжелое дыхание ребят, подходили все новые и новые, а отходить никто не отходил. Тут же был и Юрка Буров – Виталий видел не глядя.
– Дьявол! – сказал Юрка азартно и сплюнул. – Вот дьявол!..
На столб упала тень – подошел кто-то высокий. Виталий оглянулся – тот взрослый парень, что когда-то был возле Лиды, у костра. И вдруг осенило: может купить взрослый! Даже пожилой… Ну конечно же, такой и купит. Кто тут побогаче? Степанов, к примеру, сосед, он все в командировки ездит, одет в габардиновое пальто (это он в очереди такой разговор слыхал, сам в габардинах не больно разбирался), или тетка Анюта со своим сыночком, со своим Ленечкой, который, получив от Лиды отказ, вывернул полушубок и пошел по улицам девок пугать. Дурак-то дурак, а насчет велосипеда сообразит, ума хватит. И денег хватит: продадут свинью, кур – у них вон какое хозяйство!
Бежевый красавец, тряхнув рогами, уходил к Ленечке, только след его широких шин на песке…
Пусть бы никто не купил, пусть бы никто… Так ведь купят же!
Виталий выбрался из толпы и пошел домой. Надежды не было, но он отчего-то поспешал, даже спотыкался на ходу. Мама за обеденным столом проверяла школьные тетрадки. Из двери был виден затылок с туго заколотым большущим седовато-рыжим пучком. Сама она как-то пропала внешне, а волосы все еще были хороши.
Мама обернулась. У нее были для Виталия особые глаза – не просто ласковые, а виноватые, что ли. С ребятами в школе она была строга, а сына почему-то жалела, – может, потому, что детство его потеснила война, а она, мать, не умела оградить от забот, от голода, от раннего взросления.
– Что случилось? – сразу спросила она.
– Ничего.
– Говори правду. Я же вижу.
– Да правда ничего.
– В техникуме?
Она уже всерьез тревожилась. Он хотел засмеяться, но губы от напряжения не растянулись. Мама поднялась, шагнула и обняла вдруг, чего обычно не делала. И тут его нервишки сдали, и, давясь словами, не умея одолеть дрожи, он выговорил то, о чем говорить не собирался, о чем говорить было стыдно и бессмысленно:
– У Счастьевых продается велосипед.
– Тот? – быстро спросила мама и точно поперхнулась.
– Тот, тот… За тыщу рублей. Лучше бы он увез его, этот лейтенант… – И, точно эхо, повторил за Юркой: – Дьявол! Вот дьявол, дьявол!
– Мы купим, – вдруг испуганно сказала мама.
– Что?
– Мы купим. Я обещала продать папины книги Иннокентию Петровичу… А мы перебьемся, да? Переголодаем, верно?
Такого вапора счастья, благодарности, азарта он не знал никогда. Ни раньше, ни потом. Он бежал по улице, боясь, что опередят (за деньгами маме еще надо было пойти, и она сразу же накинула пальто, заторопилась). Он будет отдавать ей весь хлеб, он пойдет вскапывать чужие приречные делянки (одна старуха уже намекала ему, но ни она, ни он не решились говорить об условиях), он наймется на летний лесосплав…
В дом Счастьевых Виталий влетел не постучавшись, как в магазин.
– Ты что, ты что, парень? – заворчала Прасковья Андреевна.
А Лида оторвалась от какого-то конспекта и посмотрела живо и приветливо. Но он едва кивнул ей от волнения.
– П… Прасковья Андреевна, мы покупаем велосипед. Мама сейчас деньги принесет.
– Учительница, что ли? – удивилась Счастьева.
– Ага.
– Да откуда у ней?
– В огороде зарыты! – подмигнул Виталий. – Откопает и п…принесет.
– Ну, ну, это, конечно, не наше дело, были бы деньги, – не приняла шутки, но и не обиделась на нее хозяйка. – Да ты сядь, посиди.
Комната была большая, оклеенная голубыми обоями, вещи стояли немудреные, старые – стол, комод, швейная машинка, Лидина полка с книжками и тетрадками (куда-то, видно, поступила учиться). И кремовые, широкого плетения, прозрачные занавески – единственное вроде бы, что привезла молодая хозяйка из трофеев.
Велосипеда не было видно. Но он был здесь, в доме, и Виталий был здесь, и скоро, скоро, скоро!!!
За дверью завозились. Виталий привстал, сел, снова привстал: сейчас войдет мама! А вошла тетка Анюта со своим Ленечкой. Она поклонилась широко.
– Здравствуйте, хозяева. Вот пришли машину посмотреть. Мой душу из меня вытряс. У него своих шестьсот рублей еще с армии на книжку отложено, а четыреста у меня просит, то есть взаймы. Я и говорю – деньги немалые, пойду погляжу на вещь.
Пока она говорила, Ленечка осматривал комнату, ища глазами велосипед, переступал с ноги на ногу – тоже не терпелось!
– Во, еще покупатели! – удивилась хозяйка. – А я как прочла письмо – ну, думаю, кто за такие деньги купит. Велосипед ее корова. Ты, Анюта, ее подумай, что я наживаюсь, – вот письмо-то его, вот, гляди.
И, к ужасу Виталия, она вынула из комода письмо и стала его разворачивать перед теткой Анютой, как перед покупателем. Будто его, Виталия, и не было никогда.
– Да ладно, Прасковья Андреевна, – пробурчал Ленечка. И рука его полезла в боковой карман. – Вот деньги. У матери остальные.
– Нет, Левонид, я поглядеть, поглядеть машину должна! – закричала тетка Анюта. – И зря ты, Прасковья, говоришь, велосипед очень даже хорош в хозяйстве – и сено возить, и картошку.
Ленечка не выдержал, хмыкнул:
– Ты, что ли, возить станешь?
– А коли так, я и денег не дам. Коли отказуешься.
– Не отказуюсь, не отказуюсь, – брехливо заверил Ленечка.
Да неужели тетка Анюта не видит, что он врет? «Он не будет возить!» – хотел крикнуть Виталий. А еще он хотел крикнуть: «Я же первый пришел. Разве так поступают?»
Но Прасковья Андреевна уже открыла дверь в соседнюю комнату, и новенький, блестящий велосипед засиял во всей красе. Его берегли здесь, ни разу на улицу не вывезли, от пыли обчищать не забывали: вещь дорогая, вещь чужая. И опять же – красивая.
– Хорош! – ахнула тетка Анюта. – Что хорош, то хорош. И деньги, скажу тебе, он не такие уж заламывает. Нам-то дорого, но машина стоит. Стоит того.
Она бы, конечно, поторговалась, но ведь сама прочитала: «Продайте, – написано, – за тысячу рублен». Как же Прасковья уступит, своими, что ли, будет доплачивать?
Виталий сидел, остолбенев.
Ленечка позвонил в звонок, надавил на шины, они продавились («Ничего, накачаем»), заглянул в багажную сумку, погладил седло. Хозяин. Хозяин.
– П…Прасковья Андреевна… – прошептал Виталий. – Прасковья Андреевна…
Женщина оглянулась.
– Да вот еще, Анюта, у меня тут купец сидит, – сказала она смущенно.
– Что ж – купец. А деньги-то принес?
– Мать его должна принесть. Ждет-от.
– Ну, смотри, Прасковья, коли обещала… Мы, конечно, жили без этой блажи и еще век проживем…
Она поджала губы, обиделась.
– Да чего там! – рявкнул Ленечка. – Чего там! Давай свою долю, мать, и делу конец. – И он снова засунул пальцы в боковой карман.
Тетка Анюта смотрела на хозяйку, та мялась, пожимала плечами:
– Уж и не знаю, как быть, право, не знаю.
– Прасковья Андреевна, мама же сказала. Неужели она обманет? Она никогда…
– Гляди, Паша, мы второй раз не придем.
– Уж и не знаю…
– Да чего тут знать? – спросила вдруг Лида. Все забыли о ней в азарте, а она ведь была тут.
– Отдавать, что ли? А, дочка? Деньги при них.
– Конечно, отдавай, – просто сказала Лида. – Кто первый пришел, тому и отдавай.
Бухнула дверь, затряслись стекла – ото выбежал Ленечка. За ним, поклонившись и не поднимая глаз, уплыла тетка Анюта. Виталий сидел на лавке, и зубы его стучали. Он еще не верил и уже беспокоился: а вдруг маме не дадут денег? Он подбежал к окошку, потом отошел, снова выглянул. И все не выпускал из виду велосипед, будто тот мог сгинуть.
Но он стоял, привалившись к комоду, велосипед с широкими шинами – ЕГО велосипед…
– Мам, налей-ка Виталию чаю. Да и мне тоже. И сама попей.
Виталий посмотрел на Лиду: она была не только красивая (сейчас, вблизи, правда, чуть похуже) – от нее еще исходила сила, снаружи спокойная, а внутри напряженная, сжатая пружиной. В маме этого не было вовсе. И ни в ком другом на всей его бедной и узкой земле. Может, только в Юрке. Но там этой силы был избыток, и она не была твоя. Юрка и сам не управлялся с нею.
За окном промелькнул мамин рыжий пучок. В ее стати, походке, в стуке каблуков по крыльцу было торжество. Лида отставила чашку, встала навстречу гостье. Виталий поднялся на непослушных ногах, шагнул к двери.
Утро следующего дня вступило в их дом рано и светло. Солнце только угадывалось за зеленой кривизной, но оно ослепило, еще во сне ослепило яркостью и огромностью радости. Виталий вскочил с постели, хорошо, всласть умылся под рукомойником. Руки дрожали от нетерпения. Мама еще спала, и, значит, можно не завтракать.
Они вышли вдвоем – Виталий и велосипед, вышли, сияя и позванивая всеми колоколами и колокольчиками, жившими в том и в другом. Они боялись разбудить город этим благовестом, но не было сил таиться!
И вот еще с вечера надутые шины коснулись булыжника мостовой и запружинили на камнях. Милый, тихий город Крапивин! Он спал, пока Виталий завоевывал его улицы, тупики, самые дальние уголочки, тропинки вдоль огородов и прохладные (просто холодные еще!) дорожки парка.
Орали птицы, лезла между булыжин ярко-зеленая трава, редкие прохожие вертели ему вслед головами, а некоторые замирали на месте. Было все так, как думалось, и еще больше, чем так, потому что нельзя ведь было предвидеть, как метнется от тебя соседская коза и как она остановится, полная достоинства, зажует и мемекнет. Или как тетки Анютин Ленечка, от которого Виталий шарахнулся не хуже козы, вдруг поманит пальцем и спросит, заискивая:
– А прокатиться дашь? Один кружочек.
И как он прокатится и бережно вернет машину, завистливо качая головой. Все – в радость, все – в дружбу, все – в доброту!
Виталий ждал, когда будет время махнуть к тому дому на сваях – чтоб там уже не спали и чтоб не надо было проноситься мимо окон несколько раз. Чтобы сразу Юрка на крыльце – и машина на двоих! Ух, жаль, что так у них не просто! А то бы он еще вчера…
Повыбежали знакомые ребята, бывшие соученики. Все прокатились по разочку. Даже и незнакомые катнулись. Разве жалко? Только бы не грохнули.
И вдруг какой-то парень перехватил машину и, странно хмыкнув, махнул Виталию рукой. Он поехал не как все, через парковую аллею, а по центральной улице, что вела вон из города.
– К… кто это? – спросил Виталий.
– Чей-то тут братишка. Он вроде бы в Мухановке живет, – ответил стоявший рядом парень и качнул головой неодобрительно. И для верности окликнул: – Ребя, чей это парень, что велосипед увел?








