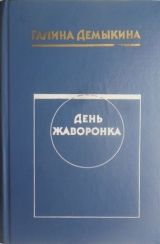
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Где? – Дома.
Что случилось? – Ничего.
Чем обрадоваться? – Нечем.
А утолиться?
И только сегодня ночной страх убрал это. Все вздернуто внутри. Так что же будет? Чего я хочу? Вот такой ясности хочу: ясной головы и чтоб было дело, которое уважаешь. А то ведь что: идут съемки, а думаешь о фильме только на месте, пока снимаешь. Нет, ты дай настоящее дело и подъем от него, от работы. Вот оно – высший подъем, – чтоб, как струночка, звенело все. Все в тебе звенело бы. Тогда за любую соломинку зацепишься для жизни – за окошко, за старый дом или дом-коробку, если такое вошло в твою память пережитой радостью и любовью. Ведь есть же дети, открывшие глаза в белой коробке пятиэтажного дома, сделавшие первую лужу на ядовито-рыжий линолеум, влюбившиеся в девочку из соседней белой коробки, и тогда – о! – тогда этостанет твоей нежной тревогой, стержнем твоей памяти. Разве не так? Впрочем, узнать об этом – зайдите к потомкам.
В это утро все шло и наворачивалось на валик: мысли – не мысли, но хоть убралось раздражение. И что-то еще тоненько дрожало росточком внутри. Что-то едва пробившее утоптанную землю. Вспомнил давешнюю кошку. Не поленился, встал, поглядел в окно. Кошки на заборе не было. А зачем, собственно? Зачем-то нужна была. С узкой, немой улыбкой. Изящной, немой… Если ее погладить… Так ведь гладил уже: жесткие, прямые, цвета свежего сена… И деревянный дом в пригороде, и кусты.
Вот оно что.
И засмеялся сам: старый, старый уже, хватит.
* * *
А вечером ощутил знакомое беспокойство, и пустоту, и тяжесть от необходимости быть в обществе 10. Бурова один на одни.
И обрадовался, когда раздался телефонный звонок: актер, игравший в его последнем фильме самую маленькую роль и занимавший самую большую квартиру, звал (нет, приглашал торжественно, поклонно) к себе.
А что там было, на этой вечеринке? Кажется, опять сон. Да, да. Но почему? И какой, собственно, сон, когда «только народу и чужой дом? Нет, тебя выволокли из комнаты, где ты свалился возле стола, – выволокли, как утоплое тело, и сложили на коврик возле старого чемодана. (Открыл глаза: огромный пыльный чемодан, из него – вытертый рукав кожанки и еще какая-то желтая тряпка. Что это? Где я? Сволочи, гады, пьют за мой счет – и меня же в чулан!) Так вот какой, казалось бы, сон? А он был, и в голове, как полудохлые рыбы, плавали не связанные фразы:
– И он еще хотел войти в элиту…
– Проще, проще надо, не мудрствуя…
– Он не обаятелен в постели… Не обая…
– Элитарность…
– Юрь Матвеич, что ты крутишь… Петух тоже думал, да в суп попал!
– Но вы…
– Молчи, Юрь Матвеич, тут мы говорим, а ты помолчи…
И сразу после этих слов (закадровые реплики, что ли?) поднялся ему навстречу в небольшом кабинетике плотный человек со светлыми глазами. Так чисто выбрит! И такая крахмальнейшая белая рубашка, и такой нужной ширины и нужной скромности галстук! Улыбка. Маленький рот, мелкие зубы, маленькой картошечкой нос. Однако все это в гармонии и покое и потому – мил. (А должна ли рожа быть приманчива?) Чист и мил. (О, мои раздерганные ноздри и несвежая, кажется, рубашка под замшевой курточкой!)
– Хотите чаю?
– Нет, спасибо.
– Вина?
– Нет, благодарю.
– Денег? Хотите много денег?
И он, этот чистенький, стал запихивать в Юркины карманы красные десятки – много! Его ручки с короткими чистыми пальчиками дрожали, и он, такой аккуратный, мял деньги: бери, бери скорей!
– Не надо! Да не надо мне! Отстаньте вы! Отстань, гад!
А тот все оглядывался и совал, а возле всех стен уже стояли невесть как просочившиеся люди. И чужие, и свои – Виль Аушев, Катя, Барсук, Нэлка…
– Я только вошел сюда! – кричал им Юрий. – Я – ничего. Это он привязался, гад! Вот! Вот! – И пытался выдрать из кармана десятки, а они точно прилипли, – одна или две, правда, выпали, кто-то подобрал.
Он обнял Виля и Нэлку (или Катю – так получалось: то Нэлка, то Катя), и они вместо пошли к двери, потом полетели по воздуху уже неизвестно где – в том ли кабинетике, на улице ли. И за ними следовало неизвестно кем произносимое нараспев:
– И он еще хотел… И он…
– Он не обая…
– Ты молчи… Проще, проще надо…
И кто-то пинал его в зад, и это было обидно, даже оскорбительно, но поскольку он все же взлетал…
– Шевелится, – сказал чужой, нормальный (не распевный) голос. – Водка осталась? Дай ему.
Лили водку в рот, так и не повернув его к себе. (Гады! У, гады!)
– Хватит. Не хочу.
Встал и прошел через комнату, потупясь. Не от стыда – от злобы! Такие сволочи! Такое вороньё все и шакалье! Споткнись – подтолкнут. А пить… Да ему не жалко – пейте, еще куплю! Подхалимство их гадкое претит. Э, стоп! Он вроде бы им вчера сказал, кто они есть?! Вроде перед тем, как упасть, он им сказал…
Короткий страх пробежал, как ток, и отошел. Ну, и сказал – не соврал.
Однако позже, уже из своей квартиры, позвонил Аушеву.
– Что тебе ответить, дорогой? – сыто пробасил тот. – мы, конечно, гады, но и ты не солнышко.
Дело было не в словах: Аушев говорил снисходительно. С ним, с Буровым, снисходительно!
– А была речь об элите? Что будто я хотел быть в вашей дерьмовой элите?
– Прости, Юра, ко мне пришли.
Значит, так: Юра – пьяница и надежд больше не подает. Сделал несколько фильмов, которые устроили среднего зрителя, а властителей дум и мод не устроили…
И подумал (не впервые, конечно): а самого?
Самого-то устроили?
И тут же перебил себя: плюнь на них, Юрь Матвеич, для людей ведь работаешь, не для кучки снобов! Да, да, для людей.
Но зачем тогда утешать себя и уговаривать? Если всё ладно-то?
А вот и то, что не все.
Весь день после пирушки было смутно – лежалось, но думалось. К вечеру стали стекаться те же (с малыми вариациями). Он, кажется, до того, как свалился, звал к себе. Аушев, однако, не пришел. А Барсук и Нэлка явились. (Что он задумал, Барсук? То есть, простите, Борис Викентьевич Слонов. Копает небось под меня? Но почему не воюет открыто? Почему, встретившись сразу же после совещания, не отвернулся, а, напротив, протянул свою сухую, крепкую руку: «Вы влили каплю живительного бальзама…» – и так далее. Что это? Насмешка? Маневр, чтоб утопить незаметней? А может, не принимает всерьез? Слова, мол, словами… Точно! Не берет меня всерьез. Потому и явился.) Остальные же просто слетелись бездумно. Опять кто-то, комкая в пятерне Юркины деньги, бежал за горючим.
– Ну что, дармоедики?! – мысленно обращался хозяин дома к присутствующим. Но его трогало, что вот пришли, приходят.
Дармоедики мои,
людое-ди-ки!
Юрка, развалясь на тахте (ему уже поднесли, конечно), глядел, как чужие, порой незнакомые даже люди, чьи-то друзья, кем-то приведенные, уставляли стол бутылками, вскрывали консервные банки, резали хлеб. Они, гады, уже сориентировались, нашли тарелки и вилки в буфете; вот они уже двигают стол к тахте, тащат из-под его головы подушки, чтобы подложить под свои зады.
– Стоп, стоп, стоп! Сдурел, что ли? Чего тащишь!
– Подушечку хотел. Тахта больно низкая.
– А ты, собственно, кто? Кто ты есть?
– Я… Я с Толей Соковым пришел.
– А Толя кто? А меня ты знаешь, кто я?
– Юра, по-моему.
– А фамилия?
– Ты фильм ставил… как его?.. забыл название.
– Ну, и дорогу сюда забудь! Сгинь!
Молодой человек надулся, отыскал среди сваленных в коридоре вещей папочку и покинул. Да, покинул сборище, бурча недовольно.
– А Толя Соков кто здесь?
– Я…
– Мы вроде незнакомы…
– Да как же. Юра, вчера…
– Мотай давай, чтоб ноги твоей…
– Да ты сам вчера звал…
– Врешь, гад. Ну что, уйдешь по-хорошему?
Голоса:
Шепот:
– Опять буянит.
– …с пол-оборота заводится.
– …с полстакана.
Громкие:
– Юрка, что ты!
– …Выпьем, Юра!
– …Юрочка, Юр, можно тебя на секунду?
Ото, разумеется, Нэлка. Она хороша сегодня, как всегда после выпивки (она тоже поднесла себе). Растрепанная, красногубая, с красными пятнами на смуглом лице. И эти яркие, наглые глаза.
– Ну что, телочка? Что, бесстыдница?
Ему хочется обнять эту дуру при всех, при Барсуке. Она зажимает ему рот, отводит его руку.
– Юрочка, спой, а? Спой!
Тянет ему гитару.
– Юра, Юрка! Спой! Юр, просим!
Он понимает: отвлекают от скандала. Но знает и другое, видит по лицам: хотят слушать. Любят. Гитара легкая, – дощечка, щепочка, певучий звон… милая!
Ты открой мне то,
Чего я знать не могу,
Ты открой, а я
Про это людям солгу…
Живет где-то тоненькая, смуглая – в цвет томленного в печи молока – женщина с легкими руками, которые тянутся к тебе, в горе ли, в радости – всегда к тебе. Любой ветер сносит ее в твою сторону. Удача тебе – и она смеется, белозубая, бьет в бубен, пляшет, да так, что… ой-я!
Я-эй!
Эй-хо!
А-не-не-не-не-не!
А горе тебе – она мечет черные искры из глаз, наклоняется над поникшей головой твоей, ворожит… Она и слов-то ни одного не знает. Она так слышит, от ветра узнаёт, из гитарного звона, от глаз твоих перехватывает, она пойдет за тобой через лесные завалы не отставая; она в твой смертный час отопьет из отравленной чаши твоей!.. Только люби ее, не отпускай (не отпускай: уйдет!), держи ее в круге пламени горящего сердца своего (не остуди: уйдет! легко махнёт узкой рукой и смешается с лесом, ищи тогда – не найдешь), береги, береги ее, есть чем дорожить, есть что терять!
Ой, да зазнобила – эх! —
Ты мою головушку!
Ой, да зазнобила
Мою раскудрявую!
Биде, манге
Човалэ,
Бид манге
Ромалэ…
И когда Юрка возвращался через темнеющий лес и кудрявый от клевера луг в эту прокуренную комнату…
Они все родные, милые, они тоже побывали где-то, глупые эти, разнаряженные, милые, глупые, в своем где-то таборе побывали, которого не было никогда и не будет, милые, бедные, и только этот стол и стены, чтобы не вырваться, и крыша, чтоб не видеть звезд, – бедные, обойденные, ограбленные…
– Взяли у нас., увели коней… Простите меня, я виноват, не то я делал, не так жил, не усторожил я дорогого… не туда зазвал я вас, милые вы мои!..
И сразу голоса: Шепот:
– Ну, повело!
– Спивается парень!
– А талантлив, эх, черт, талантлив-то!
Громкие:
– Юр, да будет тебе!
– Ты гений, Юрочка!
– Юрка, все хорошо!
– Да с таким талантом я бы!.. Юра! У тебя дар божий!
– Мы все с тобой.
– Со мной, со мной, да, да…
Он плачет навзрыд, положив голову на согнутую руку. Голоса:
– У него трогательный затылок.
– Трепетный человек.
– Теперь модно, чтобы трепетный.
– Есть в нем что-то, есть!
– БЫЛО.
И кто это выдумал, будто пьяный человек ничего не понимает и не помнит? Это уж, простите, кто как. Бывает, что и трезвый, как говорится, не сечет. А Юрий понимал. Слышал и понимал, только не хотел поднять мокрое, опухшее лицо, чтобы не увидели его обиды, глубокой задетости. А я-то – «милые» Гады! Ну, покажу вам, я покажу! Я вас всех в кулак зажму. Вот так! И вот так! Ишь ты – « БЫЛО»!
К тому часу, когда люди разошлись, он уже изрядно выспался.
Тарелки кто-то перемыл и составил чистой горкой на кухне, но комната, кухня, квартира – все было прокурено, загажено, все было так, чтобы он знал: ничтожество. Он, Юрка, – ничтожество, спившийся, бывший. Ну, обождите, шишиги! (И сам рассмеялся этим «шишигам» – бабкиным, крапивенским.) Может он! Может еще захотеть чисто жить – чтобы ранние вставания, чтобы думать, чтоб без водки и скандалов и без этих пошлых голосов, громких и шепотных… Может думать, работать. Да он еще сам напишет себе сценарий, как он его мыслит. И почему до сих пор не попробовал? Погнался за успехом, за деньгами, которые прожигал в пьяных пирушках, за лживыми этими хвалами…
…И весь июнь напролет
Лягушкой имя свое выкликать…
И как это упустил того, при ком мозаичные мысли становились на места, стягивались к центру, обретали форму и цвет. Как можно было ради главногоне поступиться самолюбием, гордостью чертовой, любовью (будто кто тебе предлагал эту любовь?!)… Надо было все откинуть, а вот а того, главного, не терять. Можно обронить бумажник с деньгами (это уже бывало – спьяну, конечно), а уронить себя, потерять лицо… Не будет этого! Так не будет!
Серая стена с разводами бетона по швам. Ровный-ровный квадрат окна – черный на сером. Серое, но чуть светлее – небо. Вот и все, что есть в этом заоконном мире. Отведи глаза.
Может, комната что-нибудь подарит? Может – в ней? Да, вещи вроде бы разноцветны. Но цвета эти умерли вместе с интересом к их носителям. Когда-то жил темно-зеленый вкрадчивый цвет клетчатого пледа на тахте. Но всегдашняя его одинаковость! Его неподверженность изменениям от освещения, от настроения хозяина! Мертвая вещь. Мертвые вещи! Ничто не осветило и не освятило их. Отведи глаза.
Может – в себе? Ну хоть лучик?! Нет, нет, не для чего и глядеть. Отведи глаза. Отведи глаза.
Бушуют в нас порой осенние ветры, не совпадая со внешними временами года, застывают живые соки под белым холодом снега… Совсем ли? До новой ли весны?
Юрка протянул руку. По ней прошла тень. Неизвестно от чего. Она накрыла короткие пальцы, захватила широкую ладонь со всеми ее холмами, с дорогами жизни, развилинами таланта, счастья, с линией, которая, оторвавшись от главных пересечений, круто уходила вниз и в сторону: сулила второе существование – после смерти.
Он знал эту тень. Вспомнил. Она была уже.
Узкая улица маленького городка – Крапивина, вдоль которой в беспорядке черемуха, ель, сосна. Нещедрые фонари. Но – светло. Душевный подъем, похожий на предчувствие счастья, высветил тогда весеннюю дорогу.
Улица выбралась из-под деревьев и пошла на косогор. И тут он увидел тень. Светлую тень, похожую на лапу ветки. Тень лежала на дороге. А дерева не было. И, значит, ветки тоже.
Позже, уже возле центра, мельком глянул в чье-то освещенное окно. И увидел ее. Ту, которая еще не была в жизни, но уже дала знать о себе подъемом духа, обостренным зрением, этой тенью, пробежавшей через его путь. Через его жизнь.
Она стояла у окна, спиной к свету, и смотрела в темноту. Никогда, ни с чем (даже помыслить невозможно!) не монтируется этот кадр! Свет тусклой лампы на белых прямых волосах, освещенных сзади; четко врезанные в раму окна, в вечер, в жизнь – очертания неповторимо пронзительной для него слабости, потерянности, трагизма.
Когда он увидел Лиду в свете дня – ее царственную походку, независимый поворот головы, дерзкую белозубую улыбку, – не поверил себе, так велико было несоответствие двух обличий и так пленительно. Попытался сложить два образа – распалось. И позже, разговаривая с Лидой, он искал в ней слабость, а уловив, не мог проследить, в какой момент переходит она в силу, не оставляя шва. Ее лицо, со всеми переменами, завораживало. Он глядел, раскрыв рот, ловя движение ее глаз, изменение их цвета, выражения, нескончаемую игру света в радужной оболочке (поистине радужной!).
Лицо, на которое мне не скучно было бы смотреть всю жизнь. Вот как думалось тогда.
А теперь? И теперь. Даже теряющее краски и четкость очертаний лицо это, стареющее… Любое… Да разве так бывает? И разве может быть, чтоб для него так, а для нее – ничего? Чтобы он. Юрка, для нее – ничего? Он закрыл глаза, его опалило теплом тех дней. Это были дни полные, точно корзины с яблоками. И каждый день посвящен чему-то:
день Имени Лиды Возле Школы: она шла навстречу с заплаканными глазами, неся в руках толстую книгу. Шла из школы. От Пал Палыча, наверное;
день Осени: первый яркий осенний день – и зелено-переливчатый жук на серой морщинистой коре дуба (посмотрел на него глазами Лиды и был рад потом долго);
день Первой Удачи, когда вдруг получились на полотне сухие еловые ветки, и странная их легкость и – хозяйка иной, потаенной жизни – оса с ее разумным нелюдским взглядом. (Тоже был ощутим Лидин возможный взгляд на всё это. Может, оттого и получилось);
день Виталия, – подъемный, просторный с утра до вечера, единственный день, проведенный вместе. Тогда легко юморилось, думалось вслух.
Вот почему так: с одним человеком ты умен, изобретателен, открываешь в себе глубины, самому неизвестные. А с другим – дуб, деревяшка: постучи – не будет отзвука. И не в том дело, что первый собеседник умнее, лучше, тоньше второго. Нет, что-то другое. А что?
Почему при Виталии будто включался дополнительный свет («Включите диг!»), все проступало рельефно, всё становилось интересней? А может, так не только для него, Юрия, но и вообще – в смысле, что есть в Виталии этакий стимулятор. Тогда чего ж удивляться, что Лида? Такую, как Лида, не могли притянуть сами по себе ни тонкость лица, ни элегантность – то, чему Юрий поначалу так завидовал. Нет, нет! Никаких баловней судьбы. Юрка не испытал обиды, потому что подспудно знал: все справедливо. Превосходство Виталия было для него неоспоримо. Только боль. Только горечь, которая жила запечной мышью и грызла их общие хлебы – его и Виталия. Общие потому, что отношения их были взаимны. И Юрка об этом знал. И подошло время, потому что не век срезать серебряным десертным ножичком кожуру с персика. Что кожура! Ведь там, под мякотью, в древесной оболочке, живот зернышко, ядрышко, в котором хрупкое чудо новой жизни – с корнями, ветками, зажатыми в кулачки цветами.
Гл. XIV. ПеременыВиталий ходил по комнатам – по двум маленьким, с остатками старины комнатам, и терпкое чувство утраты саднило, мешало дышать. Как же так? Как теперь? Нес человек гору на плечах и казался себе огромным. Теперь гора – с плеч, а сам-то – в весе пера. Ветром сдует. Да тут еще фраза, какой-то обрывок навязчивый: «…и холодно бессонным глазам…» При чем это? И откуда? Сам ли придумал, а может, где прочитал? Сперва хотел записать в тетрадь, которая следовала с ним по жизни.
Тетрадь, тайная, оберегаемая, была – уход к себе, в себя, некий просвет, откуда – солнышко. Там были ветер и воля, тоска по широте, тоска по ушедшему, рывок ко всему, что не умещалось в вольере, называемом повседневной жизнью:
Создаю чертеж моей боли,
Создаю чертеж моей дали,
Создаю чертеж моей были —
Биографии, что ли.
Стихи придумывались часто. И он их иногда записывал.
Размышляя о себе – что так быстро умерился: о покорстве своем и постоянной тайной непокоренности – думал, что куда-то глубоко в историю, может, уходят корни такого вот характера – с затайкой, с усмиренной, что ли, широтой, которой и разгуляться-то негде, потому что для этого выпрямиться надо, расходиться до удали. Той удали, которою богаты были предки и которая смирялась ходом событий, историей, где не только разинская вольница, раскол, славные воинские походы, но и крепостное право, и отмена Юрьева дня, и опричнина, и кандалы…
А память – через времена —
С двойным концом стрела:
Как ноги помнят стремена,
Так помнит кнут спина.
Сводил неявные счеты со странным своим, затяжливым, как болото, чувством:
Как согреть тишину?
Помогите согреть тишину.
Я тону
В этой мелкой воде безысходного счастья.
Уходил от усталости, от недовольства жизнью, а жизнь давно уже шла не по той колее. Как в степь уходил, как в лес, как в радость – в эти тайные записи… Там же, рядом с тетрадкой, лежал кусок дорогой для него деревяшки – отцов идол. И он тоже как-то осенял все, что жило здесь тайно.
Но однажды Виталий понял: и здесь не одни. Понял по словам, чужим в Лидином лексиконе.
– Я, кажется, держу тебя в состоянии безысходного счастья, – сказала она во время одной из ссор, обиженно дёрнув головой.
– Что это за «безысходное счастье»? – насторожился Виталий.
Лида смутилась.
Ну да, так оно и есть! По лужайке, засеянной нежной травой, затопали плотно обутые ноги: вмятины, вмятины. Прогнать? Закричать? А толк какой? Уж и поляны нет, одно месиво из земли и травы.
Он промолчал. И только по боли, по этой боли в левом боку, догадался, что не вернется к своей тетради. Не станет этого просвета в его – в его же! – солнечный мир. Но и к Лиде не вернется – не найдет для нее открытости, которая хоть изредка, но осеняла их отношения.
Его молчание Лида попала по-своему: не догадался. Ей и боязно было, и хотелось прорвать эту пелену, отделявшую его от нее, хотелось крикнуть, как в детстве: «Нашла! Нашла! Не прячься! Палочка-выручалочка…» Но ведь это не в детстве, и не игра, и ставка иная… И она мучилась тяжко: как же добыть эту душу не отдающуюся? Чем взять? Знать бы, в какой части тела она помещается, так и вспорола бы это тело и вытащила живую еще, бьющуюся в руках! Вот! Моя!
– У тебя есть секреты от меня, Виталик? (Это через несколько дней.)
– Нет… Не знаю. А что вдруг?
– Ты, может, не заметил? Мы совсем перестали разговаривать.
– У меня срочная работа.
– Почему все взвалено на тебя? Ездит с тобой почвовед, геодезист, еще кто-то там, а как до отчетов…
Раньше Виталий обрадовался бы заботе. Теперь только раздражило желание и в это влезть, и это отнять. А пустоту заполнить собой. Опять собой.
– Видишь ли, – сдерживаясь, объяснял он, – я руководитель работ, кому же я могу поручить свое дело?
И понял: не слушает. Скорбно стиснула руки.
– Что за голос у тебя! Точно от назойливой мухи отмахиваешься!
– Лида, я устал.
– От меня? Спасибо. Принимаю как подарок. К дню рождения. Он как раз у меня сегодня.
– Ой, прости, Лидка! Забыл.
– Ну что за пустяки!
– Мне очень стыдно. Еще раз прости. Давай-ка знаешь что? – Он поглядел на часы – еще магазины открыты. – Я сейчас сгоняю за подарком, за вином, ладно? Устроим маленький пир.
– Ах, разве в подарке дело?! Если бы ты просто с утра поздравил… Помнил бы…
В глазах ее стояли две огромные слезины. Она была права, конечно. В семье Виталия было принято отмечать дни рождения, Лида переняла этот ритуал, а вот теперь, после стольких лет, Виталий сам его разрушил. Он обнял Лиду, полный раскаяния, забыв обиду.
– Лидушка, милая, я виноват ужасно. Теперь она плакала:
– Я знаю, что ты не так уж ко мне… но не могу, не могу привыкнуть к этой роли: не любовь, а бытовая жена. Чтоб не мешала… не лезла…
– Но ведь у тебя тоже есть свое дело, Лидка, не греши.
– Я не могу уйти в него так, чтобы не видеть тебя.
Я всегда тебя…
Ее горячая, мокрая щека была возле его уха…
Ах, да бог с ней совсем, с этой обидой, – ведь Лида теперь единственный человек, который любит его, да так любит, что вся растворяется в этой любви, забывает свою глупую гордость, идет против себя.
– Лидка. Лидка!
И вдруг она вырвалась, слезы высохли, глаза сверкнули гневно.
– Я не принимаю подачек, ясно? Не при-ни-ма-ю!
И удалилась в ванную, заперлась. Могла бы не запираться. Он не побежит за ней. Глупая и грубая, вот и все.
– Ты глупый и грубый человек, Лида.
Он все-таки подошел к двери ванной. Оттуда слышались всхлипы, захлёбы, потом был открыт кран, потекла вода, и он вспомнил, что утром оставил там бритву, и страшно испугался, потому что слышал в Лиде нечто способное на это сочетание: ванна, вода, бритва…
– Открой, Лида.
Молчание.
– Лидка, открой. Я прошу.
Он подумал, что беспокойство в его голосе может придать ей храбрости. Надо иначе:
– Лида, я очень прошу тебя. Я хочу тебе кое-что сказать. Важное, Лида!
Там было тихо. Даже без всхлипов.
Еще недавно беда кутала его своим черным крылом. Тень этого крыла осталась над его жизнью вместе с памятью раскрытых дверей и завешенного зеркала, запаха еловых веток и привядшнх цветов… И вот снова!
Он закричал, навалился на дверь, крючок отскочил. Он почти налетел на Лиду, стоявшую посреди ванной. Испуганную.
– Ты что, Виталий? Ты что?
– Дрянь! Дрянь! Как ты смеешь?!
Он рванул ее за руку, вытащил в коридор. И вдруг заметил тоненькую хищную морщинку у ее рта. И сытое, сонное выражение глаз. Подумалось жестко: «Напилась крови!» И еще: «Неужели такое навсегда?»
А потом произошло странное, смутное, и Виталий не мог точно все припомнить. Он рано лег спать. Лида, как всегда после ссор, постелила себе отдельно. На этот раз – в комнате Пашуты. А где же были тогда Пашута с Прасковьей Андреевной? А, уехали на школьные каникулы. Да, да, это был январь (Лида родилась 7 января). Виталий достал две путевки в пансионат, и они двинулись, довольные зимой, предстоящим отдыхом и друг другом. А у Виталия и Лиды вот…
Он лежал один на широкой тахте (это прекрасно, что у нее хватило такта переселиться хоть на время!) и разговаривал с другой, понятливой Лидой. В их беседе не было ожесточения (может, потому, что не осталось сил после сцены в ванной).
Он.Лидка, ты бы могла стать моим главным человеком. Самым главным.
Она.Могла, да не стала, верно?
Он.Потому что начала пытать меня любовью. Разве ты не знаешь, что мы не прощаем слишком большой любви?
Она. Тут, значит, лучше поменьше? Да? Лучше недобрать, чем перебрать?
Она медленно вышла из-за крапивенского своего дома, из-за жердей, по которым тянулся хмель (такие жерди были в городке повсюду), – у нее было молодое, прекрасное лицо, длинные, как тогда, светлые волосы и независимая, та самая лихая улыбка, которая позже исказила ее лицо, жизнь, их отношения.
Молодая женщина подходила, тянулась к нему, а он видел только эту не идущую к разговору хищную, лихую улыбку. И теперь уже твердо знал: нет.
– Я не умею вполсилы, – говорила она, подкрадываясь. – Тогда уж ничего не надо. Хочешь, уйду?
Она, может, не верила словам, эта другая, молодая Лида. И он поймал ее на слове.
– Да. Хочу, – ответил он. – Уйди.
Лида запрокинула голову и завыла страшно, как воют бабы на похоронах. Космы ее, похожие на собачьи уши, мотались не в лад с движениями.
«Собака, чужая собака… Она перегрызет мне горло!» И в самом деле её хищные белые зубы с острыми клычками клацнули где-то рядом. Он проснулся, вскочил. Московская квартира. Пашутина комната пуста. На столе записка: «У нас, кажется, непоправимо. Я ушла. Ведь ты захотел, чтоб я ушла?! Л.»
Разве смотрят двое один и тот же сон? Значит, она уже научилась? Давно ли?
Внизу приписка: «Пока не позовешь, не вернусь».
– Я не позову, – сказал Виталий громко. И тут же ощутил это: гора – с плеч, а сам – в весе пера. Ветром сдует. Ах, как врастают в нас привязанности! В химии есть такое понятие – диффузия. Это когда два металла, тесно соприкасаясь, внедряют друг в друга свои молекулы.
В Виталии бродили эти нездоровые, надрывные, чужие молекулы, он ощущал себя совершенно больным. Нес гору – казался себе огромным, силачом, а гора с плеч – в весе пера… Ветром… Но ведь – свобода! Перо, ветер, полет, легкость.
Лида не взяла вещей. Она, эта Лида, не из сна, тоже, видно, не верила словам. Своим словам. Вернется. Вернется без зова.
Порыв ветра улегся. Успокоение. Свобода, вероятно, хотела ограничений…
Слишком долгим было соприкосновение двух разнородных металлов. Слишком.
Но куда деваются пришлые молекулы, когда диффузия прекращается?








