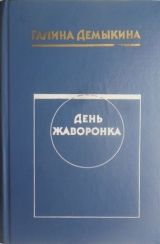
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Юрка вдруг рассмеялся.
– А знаете, как было с одной музыковедческой книгой? Автор написал о темпе и характере какого-то произведения всем привычное «Vivace». – Юрий написал слово на той же бумаге. – Начальство посмотрело и сказало редактору: «Зачем этот латинский шрифт? Напишите по-русски, чтобы каждый мог понять».
Редактор запросто написал вот так: «Виваче». Следующий начальник поглядел и сказал: «Зачем этот латинский шрифт? Напишите по-русски, чтобы всем было понятно». И поскольку редактор был в замешательстве, поправил сам: «Бубаре».
Воцарилось молчание. Потому что показалось крамолой. Главный разглядывал буквы, и вдруг дошло. Рассмеялся. Искренне и весело: «Бубаре! Ха-ха-ха! Бубаре!..» Тогда подхватили и остальные. Загомонили.
– Знаете, Юрь Матвеич, – вдруг оборвал Главный, – у меня к вам претензия.
Снова замолчали.
Но Юрий вошел уже в знакомое – не то слишком серьезное, не то слишком бесшабашное – состояние, когда не заставишь себя ни вот столечко соврать или схитрить (а уж выходило из этого известно что!). Он и думать забыл, что надо поправиться. Или испугаться. Только по тому, как замер Панин, догадался: опасность. Но сам ее не ощутил.
– Что ж такое? – спросил независимо.
– Не бываете вы у нас. На обсуждениях не бываете, на совещаниях. На пленуме не выступили.
– В белый зал зван не был.
– Как же так? Нам нужны такие люди.
Остальные заговорили о тех же обсуждениях, что, мол, скучно проходят… захваливают… необъективно… И что как же так – не пригласили Бурова? (Ну прямо на Бурове свет клином сошелся, нет без него кино!).
Юрий почувствовал себя польщенным (здесь, в этой обстановке, особенно!).
– Да ведь я на самом-то деле тихий, – признался он на полнейшем обаянии и поглядел на часы. – Ох, уже половина двенадцатого! А у меня завтра… – А что– так и не придумал. – Простите, я побежал.
Но поскольку было ясно, что без него сборище погрузится в скуку, Главный поднялся тоже. Ну, и, разумеется, остальные.
Раскланялись, весьма довольные вечером, вышли даже несколько шумно.
– Ну, а каковы творческие планы? – спросил Главный в лифте.
– Мои планы умещаются в небольшой папке, – ответил Юрий доверительно. – И я хотел бы показать ее вам.
– Через голову? – эдак лукаво усмехнулся Главный.
– Говорили же мы сегодня через спину.
– Да, вы правы. И отлично поняли друг друга.
Как всегда при удаче, все бывает вовремя, так и тут точно на этих словах лифт остановился на первом этаже.
Телефонный разговор (короткий)
– Алле, Юра! Юрь Матвеич! Поправился! Ты ему показался, хитрый бес!
– Что из этого следует?
– Спрашивал про сценарий.
– А ты, Константин, не читал, ай-яй!
– И не буду. Неси сам.
– Несу.
Телефонный разговор (короткий) – другой
– Талька! Несу «самому». Костя Панин благословил.
– Ну и валяй. Чего ж ты волнуешься?
– Оконфузиться боюсь. Может, передать через секретаря? С запиской, а?
– Передай. Личные контакты не всегда…
– И то! Привет.
Телефонный разговор через неделю (тоже недлинный)
– Василий Никитич у себя?
– А кто спрашивает?
– Буров.
– Минуточку, узнаю.
– Здравствуйте, Юрий Матвеич.
– Василий Никитич! Может, я невпопад?
– Я прочитал.
– Разрешите зайти к вам?
– Только не завтра… на той неделе, если не возражаете. А сценарий все же пустите по инстанциям. А то, знаете, неловко.
– Хорошо. Спасибо.
(Отбой)
Будто так легко ждать. Будто это вообще возможно – ждать… «по инстанциям». Не понравился сценарий. Теперь – всё.
– Онка, ему не понравилось!
– Так сказал?
– Нет.
– «Нет» – это не есть «да».
– Чертов философ! Ты почему лежишь? Опять зубы?
– Не знаю… не имею много сил… Сейчас встану.
Теперь его раздражало все: расслабленность Оны; наскоро и плохо приготовленный завтрак; необходимость переться на какое-то там малое собрание. А главное – «пустить по инстанциям». Ну, хорошо. Сегодня же и пущу.
И пустил. Отдал самой симпатичной и самой притом влиятельной редакторше – Римме Брайниной.
– Твои? – спросила она, поднимая подсиненные веки.
– Да, Риммочка, мой и только в твои руки.
– Я постараюсь быстро, – уже деловитой скороговоркой ответила она.
И действительно постаралась. И через несколько дней позвонила (умница! милая!), что редсовет принял, полагаясь, правда, на его предыдущие режиссерские удачи. И не сказала (а напрасно!), что та самая редакторша, которую так зло когда-то осадил Юрий на первом фильме, – Вика Волгина, – теперь уже, завоевав кое-какие общественные позиции, еще более авторитетно корила сценарий, назвав его «романтической риторикой» в лучшем случае, а в худшем «уходом в экзистенциализм и мистику». Ее, правда, не поддержали, а Римма даже настойчиво и резко просила доказать, поскольку это уже обвинение (что было ударом недозволенным, потому что всем известно: доказывать трудно и необязательно). После этого вообще все шло ничего себе, если бы не споткнулось о некоего Тищенку Григория Михайловича, человека в этом деле важного, которого ни обойти, ни объехать. Сценарий всегда шел к нему, а читать сценарий ему была мука мученическая. А уж каких фильмов он не насмотрелся за время работы – и наших, из фильмофонда, и иностранных! Так что ничем его не удивишь.
И вот тут Римма подала Бурову сигнал:
– Тищенко буксует!
– А читал? – спросил Юрий.
– Невозможно выяснить. Общие фразы и мычание.
Нет, Юрь Матвеич не пошел к нему. У Юрь Матвеича был свой козырь: ведь уже «та неделя», о которой говорил Главный, шла к концу. А вдруг да договоримся? Вдруг разъясню я ему на пальцах, что это выйдет?! Что такое тоже закономерно для нашего кино. Рядом с другим, разумеется.
Позвонил. Был зван. Пришел.
В приемной сидела секретарша, молоденькая и дерзкая. Вот Виталий, к примеру, не пробился бы через такую, потому что девочка стояла насмерть и была с хаминкой. «Вас я не пущу» – и все. А Виталия такое – прямо наповал.
Юрий же сразу разглядел: да она, эта красотка с опахалами вместо ресниц и лепестками роз вместо ногтей (нет, правда, красивая девочка, синеглазая, смуглая, чуть больше, чем следует, накрашенная), да ведь она же на самом деле – доярка. Отмыть, причесать гладко, надеть белый халат или передник… Ну, и как же ей не хамить… все коровы да коровы, и погулять некогда!
– Почему ж ты не пустишь? – безо всякого раздражения ухмыльнулся Юрий. – Я ведь сговорился.
– Я же сказала – Василь Никитич занят. Велел никого не пускать.
– И меня?
– Он персонально не называл.
– А ты доложи персонально.
– Так не делают.
– Почему?
– Чтоб не ставить в неловкое положение – неужели не ясно?
– Ясно, ясно. Ну, тогда беру на себя. И он в обход девочки шагнул к начальнику, еще улыбаясь ее непритворному возмущению.
– А, Юрь Матвеич! Прошу, прошу!
У Юры такая масочка: вроде смущен и вместе с тем идет ва-банк, и опять же «не судите строго, такой уж медведь». Он и становился таким: одно плечо выше другого, подкупающе беспомощная улыбка, неловкий взмах руки (это в смысле ва-банк – эх, мол, будь что будет!). Впрочем, не только масочка. Он ведь и правда был такой. Только весь. Это был актерский обыгрыш части собственного «я». Когда-то, в ранней юности, Юрка даже вырабатывал в себе «медведя» – у этого зверя, как известно, всегда улыбчивое лицо и ничего не выражающие глаза, так что никто (даже дрессировщик) не видит, когда мишка начинает сердиться, когда готов кинуться. Неподвижная приветливость. Но мало ли чего мы хотим в юности, когда еще только строим себя: внешность, манеру поведения, стиль. Не всегда ведь выходит!
– Рад видеть вас, Юрий Матвеич. Садитесь.
Пауза. Прочитал? Нет? Не одобрил?
– Василий Никитич… я… того, волнуюсь ведь!
Главный засмеялся, вынул из стола папку со сценарием.
Было все же в этом Высоком Начальнике нечто милое, нечванное. Может, это придавало Юрию сил. С ним был легче, чем с Паниным. Много легче.
– Так что ж, Юрь Матвеич, сказать? Мне понравилось.
– Ура! – выдохнул Юрка, – Вы даже не знаете как я…
– Только вы поймите, я ведь это – как частное лицо.
– Ну, ясно. А я уже «пустил по инстанциям». – Сказал и улыбнулся.
– Чего ж вы меня поддразниваете? Я же не могу самолично… Так-то вот. Но мне было интересно. Честно говоря, вы мне понравились еще там, у Панина. В том смысле понравились, что показалось: есть свое. И – не ошибся. Ведь я много вижу говорунов, и дельцов, и обаятельных неталантов – скажем так. Сценарий ваш конечно же талантлив. Но странен. Очень странен. И я предвижу затруднения.
– Да чего ж там странного? Только девчонка чудная – дак ведь она войной напугана с детства, ее с гнезда сорвало, всего лишило. А ведь ей пять лет уже было, понимала что-то. И языка она другого.
– Немецкого?
– Да ведь какая разница? Ребенок. А что говорит чудно, так у иноязычных людей редко обходится без акцента, а она к тому же замкнутая, неразговорчивая – и напрактиковаться не могла. Неужели, Василь Никитич, это странно?
– Не только это. Вот чего вы, вы, как автор и режиссёр, хотите?
Юрий вспомнил разговор с Паниным и сдержал свой порыв.
– Видите ли, я доброту показать хочу. Это о доброте, о том, что не обязательно людям так уж все понимать друг в друге, чтобы быть добрыми. И о бережности – это линия с матерью и с учителем. Я нарочно о нем ничего не говорю до этого, что он, дескать, плохой или что. Он неплохой. А слуха нет. А для нее это, может, единственная любовь – ведь так бывает с первой любовью!
– Я все понял, – тихо отозвался из кресла человек. – Здесь очень хорошо все написано, как-то возвышенно… и это понял. Меня другое тревожит. Не может же быть целый фильм ни о чем. Вот поглядите, так скажут.
Юрий вздрогнул. Ну, всё. Значит, «ни о чем».
– Василь Никитич, – перешел он почти на шепот (в волнении всегда начинал так, а уж потом распалялся), – я бы не простил себе, если б свою, от себя оторванную часть стал строить на интересе детективном: «Отнимут – не отнимут», «соблазнит – не соблазнит». Я хочу сделать фильм по законам поэзии, и если это удастся мне, все будет стоять на своих местах. Ведь что такое искусство? Для чего оно?
– Для чего? – вытянул шею Главный.
– Для поддержания высокого в нас. Я так думаю. И каждый идет к этому своим путем. Мой путь, может, непопулярен.
– Ну-ну-ну, – запротестовал Главный, – вы ведь уже кричите. А зачем? Вы где хотите снимать?
Юрий почувствовал, что глаза его жжет. И отвернулся.
И Главный не стал повторять вопроса.
– Ну и отлично. Берите сценарий. В добрый час.
– А если… как вы сказали… возникнут недоуменные вопросы?
– Сошлитесь на меня.
Тут, собственно, надо было пожать руку и уйти. Но на Юрку снизошла трезвость. Эх, знал бы он когда-нибудь сам, что будет делать через секунду!
– Василь Никитич, а почему бы вам не написать… Ведь каждый раз к вам…
Главный отвел потускневшие глаза.
Испортил! Все испортил!
– Ведь… каждый раз… к вам… – лепетал Буров.
– Да, да… конечно, – грустно покачал головой Главный, еще раз пристально, будто новыми глазами, поглядел на собеседника и протянул руку за папкой.
Медленно развязал шнурки, сделал надпись на титульном листе: «Прошу ознакомиться со сценарием. Я читал». И – роспись.
– Спасибо, – сказал Юрий совсем уже тихо, как-то униженно.
Главный кивнул, молча протянул руку, не проводил до двери.
Юрка вышел как в тумане и так, ничего не замечая кругом, брел по улице. Он не знал, проигрыш это или победа. Только понимал, что совершил бестактность. Но: с другого взгляда – ведь ты же не ради дружбы пришел к этому человеку. Джинн давал дворец, а ты попросил справку о прописке со всеми печатями. И больше к джинну не придешь – растаял. Подвел черту.
Перебрал, Юрь Матвеич!
Да, перебрал, но и меня можно понять: на этот фильм много поставлено!
* * *
А Тищенко сидел в своем кабинете. А Тищенко точил нож для пронзения (пронзания?) буровского сердца. И наконец вызвал жертву. Был Григорь Михалыч тучноват и осанист, руки были полные, с короткими белыми пальцами. И пальцы эти перекладывали страничку за страничкой справа налево, справа налево.
– Так что же, Юрий Матвеич, дорогой, опять у нас солдат возвращается с войны?
– А разве нельзя?
– Можно, но сколько раз? Военных фильмов…
– Это не военный фильм.
– Но ведь герой солдат?!
– Человек, человек здесь главное! Солдат ведь тоже человек!
– А почему не шахтер? Нет, вы поймите меня правильно. Я ничего не навязываю. Просто проблематика другая.
– Что вы имеете в виду, Григорь Михалыч, говоря «проблематика»?
– Ну, проблемы… У солдата одни, у шахтера другие.
– Да ну?
– А как же! Жизненные. Трудовые, так сказать.
– Вы, значит, говорите о материале. Так вам не понравилось?
Юрий вдруг сам услышал, что голос звучит просительно, из чего было ясно, что он помимо воли начал игру.
– Та нет, я не говорю… Но вот надо бы подумать…
– Стало быть, совсем не показалось?
– Та, честно говоря, Юрь Матвеич, от вас, от корифея…
– Э, какой я корифей! Сделал два-три средних фильма.
– Ну, все-таки. В первых рядах, – так что и порадовать вы бы нас должны…
– Так не порадовал? Забрать?
– Тут предлагаются измененьица… В смысле, как вы говорите, материала. Другой материал нужен. И побогаче. И чтоб трудовой тоже.
– Хм! Жалко, что так мнения разошлись.
– Та они ж, редакторы, тоже не все увлеклись… И вы согласитесь, когда уясните.
– Я не про редакторов и не про свое мнение.
– А про чье?
– Про Главного.
– А?
– Василь Никитич читал, очень одобрил.
– На пушку берешь?
– Есть возможность спросить (Юрий не решился сразу на «ты» перейти).
– Зачем же спрашивать? Неудобно. Да и шутка это. Я же знаю тебя, Юрь Матвеич!
– Шутка?
– А то как же! Я тоже шутки понимаю. Ха-ха!
– Погляди тогда!
И Юрий развязал шнурки на заветной папке, которую до того прижимал рукой к боку. А уж роспись Тищенко узнал бы и во сне.
Он помолчал. Склонил голову вправо. Потом влево. Потом поднял глаза. Ясные глаза, улыбчивые.
– Я же говорил, что ты шутник! – И громко рассмеялся, вытер глаза платком, встал из-за стола. – Ну, в добрый час! Что ж, я свои замечания – в рабочем, так сказать, порядке…
И лишь у двери, обернувшись, Юрий поймал на себе его быстрый мстительный взгляд. Вот кто медведь-то! Вот где неподвижная доброжелательность! Эх ты, Юрка, наивный человек, где тебе?!
Ну, да что теперь. Теперь только держись!
Почему так получается, что люди хорошие, добрые, талантливые мало и неохотно помогают друг другу? Такие принципиальные! Какая-то малость не устраивает в другом, порою близком человеке, и вот ему отказан в поддержке! А люди, лишенные таланта и доброты, скверные люди, с такой душевной широтой прощают себе подобным, «своим», слабости всех родов, что невольно восхищаешься их чувством локтя, единством – какие прекрасные друзья!
Почему так получается, а?
У Тищенко было на студии много если не друзей, то единомышленников по схеме «ты мне – я тебе». А поскольку от Тищенко многое зависело, поскольку его «я тебе» было очень даже необходимо, так и «ты мне» не задерживалось… Ну, в общем – о чем тут говорить?!
«Вот мерзотник! – думал о Бурове взбешенный Тищенко, тонча кабинетный ковер. – По виду свой, и держался прежде эдак скромненько, и ходил с шестерок, а тут – за усы. Меня – за усы. Да я для тебя ли их растил, мои пшеничные? Ишь ты – козырь у него, козырной туз… Так ведь, может, он один у тебя и есть, а продержись-ка с одним всю игру. Есть один – ты бы другие приманил. Меня бы пригласил, поговорили бы по-человечески Разве мы не можем понять? А то расщеперился! Да я… Да я…»
А что «я» – пока не знал, и гнев его был еще беспомощным и кипел вхолостую. Но когда первый пар сошел, стало проясняться. А так ли уж крепок Буров? Часто ли и запросто ли бегает по начальству? Надо узнать. И побыстрей. Да что «побыстрей»? Тотчас же! Стал набирать номер Главного и только тут заметил, что смерклось – едва цифры на телефонном диске различаешь. Зажег. В круглом свете настольной лампы сосредоточился.
– Алле, Валенька! Это Гриша Тищенко. Здравствуй, наяда. Я тут тебе украшеньице одно обещал…
– Неужели помните?
– А как же. Так привезли мне из Польши. Поеду к вам – захвачу.
– Ой, Григорь Михалыч! Спасибо!
– Ну-ну, это полный пустяк… А я к тебе по делу, режиссера одного ищу. Бурова Юрь Матвеича. Нету ли у вас?.. Нет? А давно был?.. А… И часто захаживает?.. Всего-то! Ну-ну, поищу в другом месте. Работенка одна ему есть… Целую ручки.
Нет, не такая уж она была доярка и коготки растила не зря, потому что ответы дала исчерпывающие и голосом, тоном подтвердила тищенковскую догадку: нет там дружбы. Не сумел Буров, не завязал. Деловой это росчерк на сценарии, а не дружеский. А это – главное. Дружбу и прочие частные связи отбить трудно. Дело – легче. И сразу забурлило в Тищенке тревожащее, будоражное, творческое. Неправ тот, кто полагает, что Тищенко простой чиновник. Нет, он тоже человек творческий. Только творческая эта энергия пущена по другому, что ли, каналу. Она вложена в каверзы. Да, да, он мастер интриги, тайного конфликта. Как иной драматург плетет свои сюжетные ходы (от которых, впрочем, никому ни горячо, ни холодно), так и он, Тищенко, создает свой спектакль – не либретто, не сценарий, а именно спектакль, потому что и режиссура тоже его. Только актеры со стороны. И уж тут-то наглядно видны все его удачи и просчеты, тут живые люди плачут, смеются, корчатся от боли, хватаются за сердце и за валидол… Эх, если бы такие спектакли да оплачивались по тарифу! Быть бы Тищенко богачом. А то – всего лишь зарплата. А ведь он ничуть не меньший творец, чем любой другой на этой пресловутой студии, хотя и не устраивает торжественных просмотров, банкетов, заметок о себе в газеты и журналы. Он – скромный жернов, в тиши и темноте дробящий зерно. А уж какая будет мука – крупного, мелкого ли помола…
Вечер – слякотный, февральский вечер с огнями в окнах и дыханием близкой большой улицы города, – вечер этот звал выпить, так сказать, «посидеть». И приятели звали. Было уже несколько предложений. Но Тищенко не пошел. Тищенко Григорий был одержим идеей. Тищенко творил. Он уже сделал несколько звонков на студию, дабы узнать поточней, какова прочность Бурова. Не все, нет не все его любили. А одна молодая редакторша выразилась даже не очень цензурно. Но какая-то прочность в его положении все же была, это, кажется, за счет работы. Что-то там нравилось им в его работе. Но это не большой козырь. Восьмерочка, например, если считать вместе с анкетой: анкета хорошая по всем пунктам.
Луна из-за водянистых облаков глянула в окно тищенковского дома глубоко за полночь. И застала его не спящим.
– Восьмерка да туз козырей, – соображал он. – Да это еще какой он игрок, посмотрим!
Спал Тищенко прерывистым, тревожным сном, какой бывает после напряженной творческой работы, – это знает каждый, кто создавал что-либо, будь то слова для песни, или музыка к ней, повое приспособление для станка или неслыханная доселе теория строения вещества. И все что-; то складывается, меняется местами, ищет пропорций в неотдыхающей голове, так что к утру само дозревает.
Поздняя утренняя заря не нашла Тищенко в кровати. Он сидел у телефона, вздрагивая от утреннего холода.
– Коля?.. Привет! Зайди ко мне в присутствие часам к одиннадцати… Что? Та ничего не случилось, есть о чем погутарить. Жду.
– Леня, Левон, ты как сегодня в двенадцать? Пообедаем?.. Ну, гоже. На обычном месте жду.
– Яков?.. Ратуй, дорогой. Без тебя…
Это все были мелкие козыри, не выше валета. И пригодиться они смогут позже, когда фильм будет снят и придет пора принимать его. Вот тут и станет с их помощью ясно: сценарий-то был, может, и неплох, а уж что сотворил с ним режиссер – вот где беда. А можно и пораньше начать – с просмотра отснятых кусков, подать сигнал: не все, мол, благополучно. А всего важнее создать этакую атмосферу недоверия, сомнения: вот делается фильм, суммы огромные берет, в график влез, другим дорогу перешел, а заранее можно сказать: брак! На полку пойдет. Даже Слонову был заброшен пробный шарик. Но тот, воробей стреляный, вышел пока на нейтральную. Верно, это все были козыри не выше валета. (Других пока тревожить было рано.) Но их ведь много. Да и как еще тот, мальчишка, играет? Теперь Тищенко мысленно называл Бурова не иначе как «мальчишка», хотя был не многим старше. Перед Тищенкой ты мальчишка. Дуралей и губошлеп. Тищенку не замай;. Тищенко тебе всяких Феллиниев разыгрывать не даст, верно та редакторша вчера сказала – «экзестенализм», нет, «экзестенцилизм», «экзистенциализм» – вот как… тьфу, не выговоришь.
Мысленно Григорий Михайлович уже набросал короткую, но убедительную речь, которую скажет, а вернее – изложит письменно. Нет, дорогой мой! Тищенкой не кидайся, прокидаешься! Тищенко опасный зверь. У него и Главный-то еще может по швам затрещать! А ты – за усы. Не для того я их растил, пшеничные, не про твою честь. Так-то вот.
Телефонный разговор.
– Талик, здравствуй, дорогой… Через неделю едем смотреть натуру.
– Чего смотреть?
– Натуру. Деревню, где снимать, понятно? Дорогу, по которой Чириков шел с фронта, – ведь шел он в марте, помнишь? День такой особый был – двадцать второе марта. И теперь время к тому.
– Да, да… Но мой институт… Я, правда, сдал материалы…
– Вот и отлично. Оформляю тебя на два месяца. Не спорь, это нужно. По ходу кое-что дорабатывать придется. Онку возьмем. И Володю Заева. Ну, готовься.
– А куда поедем?
– Есть куда. Примечено давно.
– А Крапивенку побоку?
– Нет, махну на недельку. Ну, оформляйся пока. Завтра уточню.
* * *
Виталий давно не видел Юрку (только телефонные переговоры), еще дольше – Ону. И голоса ее не слышал, тихого и медленного; и прямого – из глаз в глаза – взгляда не видал, и тоненьких пальцев с резко выступающими косточками, и обтянутых простыми чулками узких ступней, беспомощно ищущих опоры среди диванных подушек. Только кольцо с бирюзинкой на оттопыренном пальчике амура – вот все, что осталось ему. Неужели Юрка не будет ее снимать? Неужели начнет искать другую, заставлять худеть, станет учить эту чужую странному, птичьему акценту, от которого, может, и пошло все? И что за глупая робость не велит спросить запросто: «Будешь снимать Ону?»
А зачем тогда берет ее «на натуру»? Как помрежа? Да нет, что Юрка, глупец, что ли!
И сладко запелось вдруг: едем! едем! И легко будет бросить работу.
Он подал заявление и впервые не ощутил робости при переходе в другое состояние. Юркина, что ли, вабанковость передалась? Или Онина безопорность (живет же ведь без надежных зацеп!)? Одно беспокоило – Пашута: ее худоба, молчаливый вопрос в глазах, ее отстраненность. Да я не думаю о ней! Неужели нелепая – тринадцатилетней давности! – Лидина выдумка лишила меня чувства к дочери? Ну, а если и не родная? Всю жизнь ведь рядом. Лида передала ей (а может, воспитала) самостоятельность. Но как нежно и мило, даже трогательно проявляется в ней эта черта. Никогда Пашута не войдет к нему в комнату. Но если он сам постучит к ней, как радостно вскакивает она навстречу!
– Папка! Посмотри, что у меня! – И протянет непременно нечто такое, что могло бы заинтересовать его: книжку ли, альбом ли репродукций, а то изображение какого-нибудь зверька из Брема… Трогательная в своей наивности попытка завоевать! И вдруг он понял: а ведь она читает то, что я читал, пытается глядеть моими глазами, любить моей любовью… Тянется ко мне, не позволяя себе открытости. И, может, это уже давно. Да как же она, должно быть, одинока!
И вспомнил отца. И свое притяжение к нему.
– Пашута! Ты дружишь с кем-нибудь?
– Конечно.
– А почему никогда не пригласишь своих друзей домой?
Она молча пожала плечами. Такая тощенькая, не по годам вытянувшаяся. А куда же ей пригласить – ведь у нее и дома-то нет! В доме – холод. Лида, правда, занималась ею, но самолюбиво, без доброты – не к Пашуте, к дому. Без доброты к тому гнезду, из которого, едва вылупившись, выпала эта слабая птица. Незаметно для всех выпала, без писка и шума. А может, ушиблась?
Но ведь Лида готовила с ней уроки, верно?
Да. Чтобы показать Виталию, что не зависит от него и ничего и никого ему не навяжет.
Но ведь Лида возила девочку с собой по командировкам.
Да. Но все с той же, с той же мстительной недобротой. И как же она могла, привязав к себе дочку, отлучив ее от отца, взять да и уехать, бросить… Только его, Виталия, имела в виду, только во имя их недоброй любви совершала поступки. Зачем ему столько любви за счет этой вот девочки, которой всегда, всегда будет недоставать тепла?
– Пашута, ты… не скучаешь?..
Она сразу поняла, покраснела, опустила голову. (Такая нежная линия шеи, хрупкие светлые завитки там, где волосы не попали в косички… Может, лучше расплести косички по плечам?) И вдруг глянула. Глянула ясно и прямо.
– Я, пап… – И замолчала.
– Ну-ну? Чего ж ты молчишь?!
В глазах ее снова метнулось смущение.
– Ну? Рассказывай.
– Мне не хочется, – ответила наконец Пашута все так же мягко.
Раздумала, стало быть. И Виталий понял, что это – довод и что против этого «не хочется» ему нечего возразить. Разве они близки душевно? Разве обязана девочка доверять ему? Но он ведь должен знать, насколько Пашута осведомлена об их отношениях с Лидой. Должен? А зачем, собственно? Ведь есть уйма других слагаемых ее жизни, о которых он знает еще меньше! Девочке тринадцать лет. Ей, наверное, уже хочется нравиться. А было в ее жизни такое? И очень ли страдает она от пятна? И что думает она о своем будущем? И чем, кроме этих вот книг и репродукции, интересуется?
– Пашута, – сказал Виталий, притягивая девочку и ощущая ее слабые косточки. (Господи, до чего хрупка! И как была бы хороша. Разве нельзя вывести это пятно? Да быть того не может!) – Пашута, а что, если ты поехала бы со мной на съемки?
Она втянула в себя воздух и удивленно, счастливо поглядела на него:
– Ты возьмешь?
– Конечно.
– А школа?
– Но ведь вы ездили с мамой.
Девочка опустила голову:
– Мы там занимались. По всем предметам. И потом – мама договаривалась с директором.
– И я договорюсь.
Пашута задумалась, хотела про что-то спросить и не решилась.
– Ну, чего? – Виталий старался заглянуть ей в глаза. – Ну, что не так?
– И не знаю. – Она ответила искренне, она действительно не знала.
– Но что-то не так?
– Угу.
– Подумай, ладно? И потом, если сможешь, скажешь мне.
Девочка кивнула.
На другой день – прямо из института – Виталий отправился в Пашутину французскую школу. Еще хорошо, что бывал там раза три (всего три за столько лет!), хоть спрашивать у девочки адрес не пришлось.
Школа была как школа, но директор уже ушел, а одна из учительниц – румяная, полная, любознательная, – услыхав, что он отец Савиной, тщательно разглядела его и потом сказала, что она занимается с Пашутой французским, что девочка чрезвычайно музыкальна, но что вряд ли ее отпустят в самом конце года – начинаются контрольные, опросы…
И вдруг:
– Лидия Сергеевна не передала мне книгу? Нет? Забыла, наверное!
– Что за книга?
– А, пустяк… Я очень люблю вашу супругу. Мы вчера долго разговаривали по телефону. Исключительно образованный человек!
Виталий шел по городу, и странное ощущение присутствия Лиды не покидало его. Он даже оглянулся несколько раз, растревоженный чьими-то случайными взглядами. Так, может, ощущает себя зверь в окружении красных флажков. Он теперь точно понимал, что не хочет быть пойманным. Не хочет обратно в вольер. Прошло время. Прошла растерянность, ослабли нити, связывавшие бытом, каждодневным общением, привычкой, что ты знаешь все о человеке и он о тебе… Похоже, правда, «с любимыми не расставайтесь». Как могла она решиться на такое – вздорное, слабое, отчаянное?! Ни капли здесь не было расчета. Одна боль. Только любящая женщина могла так. Любящая и гордая.
Виталию впервые не было жаль потерять эту любовь.








