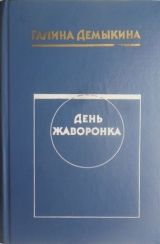
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Окно было опущено, и особого железнодорожного запаха ветер гулял по купе. Почему-то трех остальных пассажиров не было (так и не сели), и Юрий не завалился спать и не включил настольную лампу. Глядел на рвущиеся вместе с ветром облака и ветки сосен, и его пробирала дрожь (надо бы задвинуть окно!), а может, взвинтились нервы, потому что было весело до лихости! И была ясность в голове, – вот с такой бы башкой работать! Не совсем вовремя отправился он в Крапивенку, а – нужно. Хотелось перед съемками надышаться деревней, привольем, отрешиться от суеты. И картинки свои хотел взять. Для съемки тоже. За делом еду, говорил себе, за делом.
Потом все же заснул, так что утром проводнице пришлось расталкивать.
Увидел свой вокзал, тот, где встречал когда-то маму; увидел старуху в платке, надетом на старинную шапочку – борушку; площадь и светлую пыль ее, и обшарпанные автобусы, и дома потемневшего дерева, с кружевами наличников в раннем утреннем свете – и вдруг обрадовался, заволновался. А уж когда услышал забытый говор и сам легко заговорил так же, стал искать попутку. Скорее, скорее!
Городок свой увидел издали: все такой же! Только у реки выросло несколько двухэтажных блочных домов – со всеми удобствами, как сообщил сосед по кузову.
Но школа стояла по-прежнему на отдалении, только сад разросся. Приглушенная временем боль. Лида. Лида Счастьева. А вот дом ее. Пустует. Не глядит, завешены окна. Лида. Как странно: болит. Еще болит! Человек уже не имеет власти над тобой, а память… Так и не обратила на меня взора. Жизнь прошла – не обратила.
У начала Крапивенки спрыгнул с машины, расплатился и, пока шел, видел впереди себя мельканье белого платьишка из-под накинутого пальто – бежала девчонка лет восьми, бежала к их дому.
А когда подошел, девчонки уж не было, а в дверях стояла бабушка.
Она не бросилась к нему, не закричала от радости. Но каждая морщинка в лице ее вздрагивала, и глаза были счастливые и немного жалкие от такого нескрытого счастья, и мутноватые слезы стояли в них.
– Бабушка!
Хрупкая, одни косточки.
Она не хотела выдавать своей слабости, не хотела ни огорчать, ни жалобить… Но вдруг стало понятно: пока он работал и боролся, пил, радовался, огорчался – она ждала. И уже не чаяла дождаться. Сухонькая, совсем старая. Зачем-то вез ей платок. Потом, потом отдам.
– Иди, милок, в избу, – говорила бабушка. – А я уж думаю: обозналась Зинка – девчонку-то прислала. Не ждали тебя.
И вела его за руку по темным сеням, будто он мог заплутаться.
– А где мама?
– Дома, где ж ей быть.
Но в комнате матери не было, а вышла она из-за переборки (построили уже без Юрия на не скупо посылаемые им деньги – и переборку, и крылечко – заметил – новое). Мама одергивала помятое нарядное платье, на шее была косынка с ковбоями и лошадями (глупая сыновняя придумка – зачем ей ковбои?!). Волосы тоже были наскоро приглажены, и возле негустого пучка торчали не попавшие в гребешок прядки.
За пять-шесть лет, что он не был здесь (еще в разгар удач имени Слонова заезжал), мама мало постарела. И держалась независимо. Юрий разлетелся было обхватить ее, но сдержался и только поцеловал в щеку.
– Здравствуйте, мама. Принимайте блудного сына.
Она улыбнулась, покивала головой.
– А уж мы с бабушкой думаем: дождемся ли? Шесть лет не шесть дней.
Она отвернулась, прерывая разговор, начала расставлять на столе чашки, перетирать их вынутым из комода новым полотенцем: гость приехал. Любимый, жданный, а – гость.
Но бабушка хотела, чтобы все ладно. Это было видно по тому, как она, спеша, вздувала самовар, как торопилась ввести в курс деревенских дел: кто помер, кто у кого родился, что у них еще пчелы живут, а уж коровушка хороша – молока дает мало, но такого по всей Крапивенке не сыщешь!
Его поили этим молоком; его уложили отдыхать, постелив лучшие простыни. А он впервые (никогда, никогда такого не было!) ощущал все вполовину. Его тянуло в Москву. Тянуло к фильму: точно ребенка без присмотра оставил! – и не мог вжиться в здешние дола, растворить в них свои заботы. Была какая-то несвобода.
– Заскучал Юрок, – вздохнула бабушка. Она ведь всегда его слышала. И от ее ласковости, вышедшей в старости наружу, и от маминых печальных глаз было ему так, будто он предавал их. (За делом, за делом ехал! А они-то жили им, любили, вели с ним свои особые, беспомощные и скорбные счеты… «За делом»…)
– Сниму фильм и надолго домой закачусь, – пообещал он. И старался верить себе. А саднящее чувство не проходило до самой Москвы: ишь ты, причаститься ехал! Как все просто, а? А нет вот, нет! И чувство потери не оставляло.
Только поднимаясь в лифте, вспомнил о картинках – тех своих, давних. И не то вспомнил, как бабушка достала их из сундука – аккуратно завернутые, ни пылинки! – а про то, как подойдут они странной девочке Алене с ее отрешенным взглядом и неловкой речью.
Позвонил. Не отворили. Где это Она? Открыл дверь ключом. В квартире было не убрано и пусто.
* * *
Людской поток исчерпался – время прошло. Люди и время – они спешили и вот прошли. Только легкое завихрение у входа в метро. До эскалатора еще надо пробежать по лесенке. Здесь тоже затор возле правой стены. Виталий взглянул мельком: прижавшись к перилам, вытянув узкое тело по стене, стоят девочка в короткой юбке на опенковых ногах. Тело распластано, а голова упала, и волосы да еще какой-то серый платок закрыли лицо.
Она не мешает движению. Просто притягивает взгляды. И разговоры:
– Чего она?
– Ей плохо, что ли?
– Пьяна, по-моему.
– Девушка, вам помочь?
Нагнула голову ниже. Виталий уже не видел её, осталась перед глазами неловкая поза, распластанность по стене. Лесенка потащила вниз людей с повернутыми назад головами: что-то им было интересно в ней. И лишь когда съехал, ощутил: в ушах застряло звучание разбиваемых фарфоровых чашек. Только черные галки, летящие на ночлег, так разбивают тишину.
Он не мог ошибиться: память этого звука – осколок об осколок в вечерней тишине – рождал в нем лишь одни человек: Она.
Оглянулся. Нет. Нет, конечно. Но покой не приходил. И вдруг похолодел, перебежал внизу на поднимающуюся лесенку эскалатора, заспешил, шагая через ступеньки и промахиваясь. Вдруг поздно уже?! Вдруг увели? Или ушла?
Не хватило дыхания. Сбросил шарф.
На лесенке между входом в метро и эскалатором еще было завихрение. Был уже тесный круг. Был уже строгий разговор:
– Чего ей тут стоять?
– Да ее не пустят вниз – пьяна.
– И нечего стоять.
– А вам что, жалко?
– Неприлично. Тут иностранцы ходят.
– Вы и уйдите.
– Это еще почему?
– Потому что иностранцы. Неприлично вас показывать.
– Вот я сейчас милицию…
И правда – какой-то старичок не пожалел сил, потопал по лесенке вверх очень решительно: где у вас тут милиция?
– Пойдем-ка, ты, дурочка. – Парень в замшевой куртке потянулся к ней узкой, мальчишечьей рукой с перстнем на пальце.
– И не дурочка. Не пойду.
И выдернула руку.
Волосы теперь отросли, а глаза из-под челки были то же, и голос с хрипотцой, и эта острая, угловатая мордочка.
Как же он сразу-то не угадал?
– Отойдите все, – почти шепотом попросил он.
Расступились. Он обнял ее за плечи.
– Пойдем, Она. Я за тобой пришел.
Она завела руку ему за спину, вероятно чтобы не шататься, и они легко одолели несколько ступенек и эту адову машину, которая бьет каждого, у которого нет пятака. Но у них были пятаки. У них было вдоволь пятаков и желания бросить их в автомат. Когда поехали вниз, Она спрятала лицо под ворот его пальто и заплакала. Он укрыл ее растрепанную голову шарфом. Она была очень некрасивая, в худшем своем виде, вовсе не была пьяна. Что-то сломалось в ней, какая-то пружинка не держала.
– Что с тобой, Она, милая?
Мотала головой.
– Почему ты не у Юрия?
Не ответила.
Виталий помог ей войти в вагон, усадил рядом с собой. Теперь она плакала, пригнув голову к коленкам. И опять все смотрели на них, полагая, что девушка пьяна.
Вот Юрке было бы безразличие – смотрят, не смотрят. А у Виталия была слабинка: обычно его это смущало. Но тут – даже сам удивился – полное «наплевать на вас», а еще – тревога за нее, нежность, жалость. И вдруг сквозь все это – благодарность судьбе. Будто она сулила ему радостные перемены.
– Мы приехали, Она. Что для тебя сделать? Напоить чаем?
– Да, да, да, – захлебывалась она. – Не бросайте меня здесь. – И добавила как довод, будто Виталий правда хотел бросить ее на улице: – Мне стало плохо там, в метро.
Когда Виталий отпер дверь, навстречу ему метнулась узенькая тень – Пашута. Впервые открыто. И тут же, как на запущенной назад киноленте, втянулась обратно в комнату.
И эта крохотная сценка (эпизод, наверно, если по-киношному) будто вырвала из рук подарок. Надо было (уже надо! – простой долг!) – утешить Ону, надоуспокоить Пашуту, снять подозрение.
Выплыла благожелательная Прасковья Андреевна.
– Оночка, ты? Что случилось, девочка? Расскажешь?
И увлекла ее на кухню. И уже сама поила чаем (ах, как Виталий нежно представил себе на миг его и Онино чаепитие!), ей, а не Виталию, сбиваясь и всхлипывая, Она рассказывала что-то.
А Пашута, когда Виталий вошел к ней, не встала ему навстречу. Он погладил девочку по волосам. Она чуть нагнула голову, не отвергая, но и не принимая ласки.
– Павлик, голубчик, у Оны что-то случилось, я ее встретил в метро вот в таком виде.
Пашута не ответила.
– Ты считаешь, я не должен был помочь ей? Пашута опустила голову еще ниже.
– Ну, чего ты?
– Сказать? – Девочка подняла глаза. Они глядели открыто и жестко. – Сказать, да?
– Конечно.
– Я не люблю ее. Я всегда ее не люблю.
– Как это может быть? С чего?
– Она хитрая.
– О господи! Какое заблуждение!
Но Пашута с покрасневшим лицом и влажными, почерневшими глазами уже не хотела остановиться:
– Она хитрая. Она не хочет сама. А все чтобы ей, ей! Чтобы другие!
Виталий удивился. Задумался. Да, пожалуй, конечно… У Оны была взывающая к чужой энергии беспомощность. Но это характер. Не хитрость.
– Но, Пашута, это характер. Так она устроена.
– Такого характера не бывает. – И вдруг улыбнулась примирительно. – Не сердись, папка, я не смогу ее полюбить.
Вот тебе и Лидин металл. Только звенит нежнее.
Виталий обнял Пашуту. Его тронула ее детская ревность, ее прекрасное чувство меры: ведь в любом разговоре хорошо остановиться вовремя.
– Павлушка, можешь не любить. Мы только утешим ее вместе с бабушкой, да? И ты нам поможешь. Ведь не станет человек так плакать зазря. Верно?
– Ага, – ответила Пашута. – И поскорее отправим ее к дяде Юре.
Виталий ушел к себе, сел возле стола, обхватил голову руками. А когда поднял глаза и они случайно остановились на торшере, заметил: на оттопыренном пальчике амура не было кольца с бирюзинкой (еще утром видел).
Там висело другое, очень знакомое – светлый топаз, оправленный в золото. Подарок Виталия к десятилетию совместной жизни. Лида никогда не снимала его. Значит… Значит, была? И что это – знак разрыва? Или знак ревности (заметила, мол)?
И снова ощущение волка среди красных флажков: обложен. Кругом обложен.
Оне предложили остаться на ночь, и она согласилась. Сразу же.
Прасковья Андреевна постелила ей на кухне, куда прежде, во время своих бунтов, уходила Лида.
– Позвонить Юрию? – спросил Виталий.
– О, нет, нет, он еще там. – и она далеко махнула рукой.
Он, стало быть, еще не вернулся из Крапивенки, а ей тут плохо.
– Вы мне оставить валидол? – спросила она.
Валидола в доме не было, Виталий побежал в аптеку. В дальнюю (ближнюю уже закрыли). Да он бы – в любую! Как легко она спросила. И в доме осталась легко. (И уйдет, вероятно, тоже.) Без реверансов, всяких там «спасибо», «ах, я вас стесню»… Натянула Пашутин халатик, поданный Прасковьей Андреевной. «Еще один ребенок! – ликовал Виталий. – Я призван быть многодетным отцом. Не ученым или еще кем, – нет, многодетным отцом!»
Вернулся с сияющими глазами (это был малый, но все же подвиг: он не бегал за покупками), подал Оне стеклянную трубочку с лекарством, Она молча кивнула, деловито растерзала упаковку, положила таблетку под язык. И тогда улыбнулась своей прямой узкой улыбкой, уходящей в уголки рта.
– Спокойной ночи, Она.
– И вам так.
И не смог заснуть. Совсем. Ни на секунду. Это не имело прямого отношения к Оне, по косвенное: свежий ветер, попутный всему, о чем думалось.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет… —
зеленые стебли, пробивающие землю; вот так, очень похоже, было, когда отец поднимал на узкой, сухой ладони божью коровку:
Полети на небо,
Принеси нам хлеба, —
и другой жизни, во многом более реальной, чем все, что стало после; или когда уже в юности Виталий вскапывал приречный участок под картошку, а немой деревянный божок с глубоко сидящими глазами и прямо прорезанным узким ртом смотрел на него из щели пня.
Виталий, не зажигая света, пошарил в ящике стола, где лежал отцов дар. Божка не было. Ясно, забился в угол, но встать не было сил. Забился… А не оживают ли божки? Или мы сами вдыхаем душу в кусок дерева и делаем из него фетиш?.. Но нам зачем-то это нужно? Может, это– не меньше, чем предлагаемые нам скорости, расщепленные атомы, блага цивилизации – все, все удобства на стремительно падающем самолете?
Так думал он в ночной тревожный час: вглядитесь в человека (даже если его душа и не бессмертна!), в эту вот сосну, которая, вероятно, тоже не бессмертна (очень может быть!), – разве это не чудо, что растения, как предполагают ученые, имеют болевые клетки и эндокринную систему; что «колдуны» Марокко и Австралии умеют делать полостные операции без крови; что черви, земляные черви, генетически передают потомкам память о вспышках света, при которых их кормили, – и вот уже детки при первой же вспышке, образно выражаясь, разевают рты. И почему, сочиняя рассказ по картинке теста, человек вдруг будто срывается с цепи и вызывает из жизни своей души то, что никогда не проникало в сознание? А сны? А предчувствия? А любовь?
В окис посветлело. «Я, кажется, засыпаю», – думал Виталий, ощущая, как путаются мысли. Но в комнате у Пашуты зазвонил будильник, стало слышно, как, зевая и охая, поднимается Прасковья Андреевна.
День вставал трезвый и пасмурный. И начался телефонным звонком.
– Слушай, Талька, у меня главная исполнительница того…
– О господи, Юрка! Ты же, говорят, в Крапивенке?
– Был. Слушай, Онка пропала.
– Да здесь она. Спит на кухне.
Юрий выругался. Повесил трубку. Так: а) волнуется, б) берет ее на роль.
Ничего, девочка, у тебя неплохо складываются дела.
А Она спала, свернувшись под легким одеялом (вдруг замерзла?), не проснулась от топотанья Прасковьи Андреевны, от их с Пашутой чаепития.
– Папка, чао! – подбежала Пашута и, прощаясь, чмокнула Виталия в щеку.
– Ты что-то озорная стала, Пашка!
Засмеялась: я, мол, такая. А ведь она привыкла за это время! Притянулась к нему!
– Виталь, – позвала Прасковья Андреевна шепотом. Поманила в комнату. – Слушай, Виталь, вчера Лидушка приходила. – И вдруг всхлипнула. – Как же так, а? Стара я, что ли, стала, не пойму вас!
Виталий вспомнил: мама тоже тщилась понять.
– Как хочет, Прасковья Андреевна, – сухо ответил он. – Ее душе было так угодно.
Старуха покачала головой:
– Ребенок ведь растет! – Утерла фартуком пролившиеся слезы. – А эта, – кивнула на кухню, – тоже в бегах?
– Да вроде того. Что с ней? Она сказала?
Прасковья Андреевна сердито махнула рукой:
– Говорить не велено.
* * *
Когда Виталий Николаич смотрит на меня и когда говорит – не как все – «Она», – я чувствую, что я что-то значу.
Почему, когда живешь вместе, – все хуже? Ведь Юрий тоже смотрел хорошо. А теперь не так. Теперь говорит: «Ты баба или ты растение? Есть, говорит, такой цветочек – повилика, который обвивается». Я знаю этот цветок. Он красивый. Он тянет соки от другого растения. Зачем он так сказал? Мне ничего не надо. А он думает: надо. Зачем он мне рассказал про своих женщин? Когда он говорил (ночью, было темно), мне так сдавило горло – вдохнуть воздух не могу. Хорошо, что он не видел. Он сердится, почему я нездоровая. Он хвалил Катю. Он любил Катю, а может, и теперь тоже… С ней он испугался сам себя. Катя была сильней, чем он. Она за ним смотрела, как за своим ребенком. Он хочет, чтобы я ему стирала. А ещё одну женщину – он не назвал ее – он не любил. Она была недавно. Она знает меня. Она сказала про меня, что я актриса и что у меня нет площади и прописки. Почему он мне пересказал это? Почему он мне не верит? Я не просила роли. И койку снимала в Измайлове. Если бы Виталий Николаич меня полюбил, я была бы счастливая. Он бы не говорил так никогда. Он красивый. У него желтого цвета глаза, и кожа желтоватая, и длинное лицо, и узкие руки. Он тоже пожилой, но худощавый, как мальчик. Он бывает рад, когда я прихожу. У него очень некрасивая дочка с пятном. И добрая мама жены. Его жену любил Юрий. Мне хочется сделать Юрию больно, чтобы он и меня любил.
Если меня заставить стирать, я не буду любить. Мне не нравится, как пахнет его кожа. Я боюсь играть эту сумасшедшую девушку, которую они придумали. Она мне не нравится. И все это глупости, глупости, потому что я скоро умру. Доктор сказал: «Месяц у вас в запасе до операции. Но за это время надо сделать анализ на посев. Какая ещё она, эта опухоль?» Вот этого я не скажу никому. Ни-ко-му. И мне безразлично, будет он плакать или нет. И пусть не приходит в больницу. Почему он разошелся с Катей, если она ему так нравится?
* * *
– Стоп! – закричал Буров. – Стоп, стоп! Еще раз. – И подошел к сосне. Юрий почти не глядел на Ону, сидевшую на качелях, полуотвернулся, чтобы не выдать раздражения.
– Вспомни, о чем мы говорили, Она. Вспомни, о чем фильм!
Она глядела прямо в глаза, качала головой: да, мол, да. И была пуста.
– Ты не просто радуешься забаве, понимаешь? Это твое прозрение. Ты узнаешь в себе то, о чем не подозревала: полет! Не надо мне открытой улыбки. Вдумайся, вслушайся в свое… – Юрка глянул и увидел отсутствующие глаза. – В чем дело? Ты работаешь. И работай, будь добра, хорошо. Мы ждем тебя.
Со всеми он был спокоен, но Она, самая, как оказалось, одаренная, раздражала его безмерно. Ведь это её птичье лопотанье перешло в иноязычье Аленки; хрупкость и легкие косточки дали Аленке полет (физическую его возможность, что ли); ее вроде бы неподвижное, но переменчивое лицо диктовало крупные планы в режиссерском сценарии. И вот она не может выполнить простейшей задачи. Какой ей взлет? Клуша, курица!
– Внимание! Тишина на площадке! Начали.
Володя Заев, разумеется, прекрасно снимет смену света и тени (тени от еловых лап), рождающую ощущение душевного непокоя, тревоги. Он подсветит Онино лицо, слегка деформировав его, сделав странным. Но взгляд, но суть происходящего – в ней.
– Фонограмма! Мотор!
Поскрипывают качели. Вот она взлетела… Застывшие в восторге глаза… И у кого она переняла эту шутовскую гримасу?! А улыбка! Да с такими зубами лучше вообще рта не раскрывать! Идиотка!
– Ты видишь, Талька, что она идиотка?! Какая это к черту актриса?! У нее, наверное, и аттестат-то поддельный!
– Ну-ну, не кипи. Вспомни, как на пробах…
– Помню!
Еще бы! Юрий отлично помнил. На пробах игралась та же сцепа – качели. И она была естественна. Было в ней свое, затаенное, чего не было у остальных. А может, Володя Заев подсветил ее лучше других?.. И все равно она не понравилась. Худсовет не утвердил ее на роль. Ни один не проголосовал «за». Так что Бурову пришлось остаться при своем мнении, заявить, что берет это на себя. Да если он теперь завалит фильм… ему другого как своих ушей не видать. А она тут!.. Связался с бездарью.
– Не то делаешь, Она. Одна радость мне не нужна. Можешь идти с ней на танцы.
– Я понимаю, – беззвучно шепчет Она, и лицо ее вдруг опадает, делается не просто худым, а костлявым.
Нет, она положительно решила сорвать съемочный день. Видно, придется потетёшкаться с ней, «козу» ей сделать, в ладушки поиграть. А, черт, черт, бестолочь! Сколько ведь с ней возился!
Юрий шагает по площадке, натыкаясь на короткие рельсы, проложенные для тележки с камерой.
Нет, она, конечно, не виновата. Что-то я ей не подкинул такое, главное…
– Ну, хватит, Она. Послушай. У тебя когда-нибудь было так? Принесли на день рождения подарок. Завернутый. Ты думаешь – кукла, разворачиваешь, а там – живое, котенок или щенок! Ты кого больше любишь?
– Котенка.
– Ну вот. И рада, и тревожно – ведь живой, шевелится, а? Надо беречь его… Вот тебе котенок. Вот. Шапка моя – котенок. Ну? Попробуй… Нет, нет, меньше внешней радости, вдумайся, уходи в себя. Но радостно уйди… Так, ну… Нет, не то! Давай лучше стихи. Какие тебе стихи? Танечка, поправьте ей грим.
Старая гримерша Танечка снимает тампоном пот со лба.
А Юрий, чуть успокоившись, ждет.
– Ну, какие?
– Про плачущий сад. Помнишь, ты дома читал. Ладно?
– Умница.
И Юрка читает на память из Пастернака, стараясь влить в Ону потаенность, попытку осознать себя и не слишком выявить:
Ужасный! Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете.
Мнет ветку и окне, как кружевце,
Или есть свидетель?
Она слушает. Хотя кажется, что не слышит, думает о своем.
К губам поднесу и прислушаюсь:
Все я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель…
Она совсем замкнулась. Странная девчонка! Другая бы счастлива была, ходила бы как по облакам: первая роль, и сразу – главная. Да если получится у нее, от новых предложений отбоя не будет. Такая особенная внешность. Опять же Володька не пожалел сил (он вообще, кажется, влюбился в эту дурочку!): когда надо, худобу ее выставил, слабость, хрупкость и как-то духовность высветил – блики в глазах, свечение, как бы идущее от волос, – возле неё все темноватые, с грубинкой в лицах. А в сцене гулянки – такой зовущий Онин взгляд поймал, так отлично нашел ракурс вполоборота и свет, убиравший Онкину тяжелую нижнюю часть лица!.. И он, Буров, все отработал с ней, окружил чудовищным вниманием, как все равно великую кинозвезду. А она чего-то мается, вздыхает. Ей всегда мало. Ничего вроде не просит, а что даешь – мало.
Вот, слава всевышнему, приобрела с помощью гримерши человеческий облик. Задумалась. Правда, грустно задумалась, но хоть не этот идиотский оскал!
– Так, Онка, то есть Аленка! Ты же особенная – готовая навзрыд при случае, готовая полететь… поднести к губам, прислушайся… Ну, ну… Володя! Заев! Пошли! Сперва вот эти сцены снимем: остановилась, удивленная, после качанья. Так… И сразу Аленкину песню.
Володя снял Онино застывшее, оторвавшееся от происходящего лицо, недоуменный взгляд. И все. Теперь она застыла в этом слушании себя. Нужен переход в радость, потом – прилив сил от чувства полета и чтоб это все перешло в песню. А Она будто заснула.
– Стоп! Стоп! Остановить качели!
О господи! Наработала одно состояние, а перескочить в другое не может. Разве это артистка? Надо было не снимать ее, не брать. Она же сама говорила: отпусти, больна, жду анализа. Э, какого такого анализа? Что-то Юрий не очень понял и не спросил. Ну да, десять дней… Да ведь она не сказала ему, вот что! Он плохо спросил, а она не сказала. Замкнулась. Может, волнуется о себе? Ведь это серьезное. Он примерно представляет себе, что это за десять дней, что за посев. Может, ей не до роли, а? Как же так. – идет съемка, а ей не до роли? Ждет анализа. Но ведь, дьявол вас погладь по макушке, мы должны снять сцену?!
Юрий подошел к Заеву:
– Получился кусок после качанья?
– Порядок.
И, пугаясь своей выдумки, подозвал Ону:
– Молодец. Спасибо. Не устала?
Она была довольна, но – как-то не так. Не было полной радости, что получилось, и не было состояния, когда человек еще не вышел из роли. Не вся она тут, не вся!
Юрий помедлил и все же решился:
– Да, Она, совсем забыл: я звонил в лабораторию – у тебя все в порядке.
Она трепыхнулась навстречу, боясь верить:
– Но это немножко-немножко рано сказать. Только через десять дней.
– Уже кое-что видно. А через десять дней – наверняка.
В глазах у нее показалась искорка живого. Да, да, вот такая и нужна!
– Онка, если не устала… Не устала?
– Нет, что ты.
– Иди на качели и повтори-ка переход – от этого «к губам поднесу и прислушаюсь» к новой попытке полета и к песне. А то Володя запорол там что-то.
Нет, снова уйти в себя ей толком не удается. Ну, да пустяки, это уже есть, склеим. А перейти из затаенности в радость открытия – да, да! Вот оно! Оттолкнулась ногами от земли, сперва тихонько – недоуменный и счастливый взгляд и выкрик – странный, хрипловатый. Отпустила верейки, разбросала руки:
– Лари-а, ари-ла!
(Какая уж тут песня! Онка птица не певчая!)
– Идет! Хорош! Дубль давай!
Позже Володя, взгромоздясь на качели, снимет другие кадры, с точки зрения Алены, – взлет: ветки деревьев, облака – и вниз: стремительно набегающая земля, корень, трава, вытоптанная возле сосны площадка.
…Шли последние съемки.
* * *
Давно уже стаял снег – тот, по которому топал старый солдат Чириков; побурела прежде белая, чистая поляна, с нее начинался фильм – поляна в лесу, последний снег, теплое солнце, мягкие, уже весенние тени и черная точка в небо – первый жаворонок. Потом перестрелка – напавший на горстку наших солдат остаток разбитой немецкой части. И среди них – житель ближнего поселка. Может, «вервольф», а может, просто эсэсовцы сунули ему в руки винтовку: сражайся за Германию. Он в штатском, в башмаках, промокших от снега. Поселок сгорел, и вместо со «штатским солдатом» бредет его жена, прижимая к себе пятилетнюю дочку. Никто не рассчитывал встретить врагов – ни они, ни наши.
Эту поляну снимали много раз. И для начала, и для середины. Очень торопились: нужно было непременно со снегом.
(Вот тут-то и показал первые зубки Тищенко. Ну, да дело прошлое.)
Белый фон, снежные наносы на кочках, темные ели. Это для титров. Когда титры уходят (вернее, будут уходить), над поляной – жаворонок. И яркий-яркий свет весны.
Поскольку поляну потом предстояло вытоптать (перестрелка, перебежки, короткий бой), делали много дублей.
Потом снимали бой. И дальше в зыбком, неровном свете (о, сколько Заев и осветители возились с этим!) – в нереальной дымке памяти Аленкиного сна – та же поляна, но со сближенными елками (навтыкали), с птицами над копешкой сена, с торчащим из снега колоском.
Внезапный бой оглушил, ослепил девочку, ей на миг люди, елки, колосок – все показалось белым на черном фоне. Грянули выстрелы, и она прижалась к копешке, а женщина, которая до того всю дорогу несла ее на руках и которая ей, ребенку, казалась сильной и могущей защитить от всего, – вдруг пропала куда-то. И совсем рядом, возле копны, лежал «штатский солдат» – отец. Но она не поняла этого, а видела качающийся колос возле башмака. Она не решалась глянуть дальше.
Это видение посещает Аленку часто, она в разных ракурсах видит поляну и молча, испуганно прижимается к колючей шинели солдата Чирикова.
Перед девочкой всплывает лицо женщины. Женщина ранена, ее несут на носилках, она кричит что-то. Немецкие санитары оглядываются, ища кого-то, но кровью набухает пальтецо женщины, а перестрелка все разгорается. Это лицо мерещится девочке и в той случайной избе, куда внес ее солдат.
Изба эта далеко от поляны, они оба устали. В деревне темно. Чириков стучит, ему открывает старая, костлявая, почерневшая от войны женщина. Она испуганно отступает. Озираясь на окна, вздувает самовар. А потом вдруг, что-то поняв и оценив, достает из печки хлебец – смешной такой хлебец-уродец из ржаной муки, перемешанной с травой. У него продолговатое хлебное туловище, над которым выступает хлебная голова, а два свекольных глаза глядят прямо на девочку.
– Кушай, дочка, – говорит женщина, – бог с тобой. Для ребят выпекла, порадовать – праздник ведь.
– Какой праздник-то? – удивляется солдат. Он обводит взглядом избу.
– День жаворонка, двадцать второе марта.
Ребят нет. Живы ли они? Солдат горько и благодарно смотрит на женщину. У него тоже дом пустой.
Ржаной жаворонок – первый толчок доброты, коснувшийся Аленкиного сердца. После той беды, того боя. Она греет руки о шершавые его бока, разглядывает, что-то шепчет ему…
– Кушай, дочка.
Нет, она его не съест. Возьмет с собой. На память. И на радость. Он усохнет и растрескается, но девочка будет хранить его – сначала как игрушку, а потом, подросши, – как зарок великодушия.
Маленькую девочку, очень похожую на Ону, нашел Вася Стеклов – второй режиссер, мастер по части неповторимых лиц. Девочка была, как говорится, «с улицы», ничья из кинематографистов не дочка. Но уловила все быстро, и искренность ее была безгранична.
Она хорошо перехватила у девочки Аленку в ее тринадцатилетней подростковости. (Было трудно, но получилось.) Она почти не говорит. Слышит, понимает и молчит. И долгим вопрошающим взглядом глядит на старого Чирикова.
В этой замкнутости, в угловатости, в дикой какой-то нелюдимости Она была не меньше естественна, чем девочка. Буров с Володей Заевым безжалостно обнажили ее острые локти, тонкие ноги, которых Она стеснялась до слез. Володя светом чуть округлил лицо, сделав его моложе. Девочка получилась странная и болезненно заползавшая в сердце.
– Скажи: «Папаня!» – учил ее Чириков. – Покликай меня: «Папаня, пойдем по грибы».
Она тянула к ному зверушечью мордочку, лоб ее морщился – вот-вот заплачет.
– Ну-ну, – говорил старик, – полно. Бери-ка лукошечко. Пойдем.
Девочка успокаивалась, притаскивала корзинку, и они шли в лес. Чириков молча показывал ей гриб. (Все было заранее посажено для съемок, что очень огорчало Виталия, – ведь лес и так был полон грибов! Нет, какие-то киношные особенности не давали спать вот тот, живой гриб, а только этот, сорванный, почти муляжный!) Чириков отводил ветку, и Алена застывала перед дивной, полной тайны картиной: птица в гнезде. Потом птица слетала, а там оставались яички – крохотные, бережные и уже живые.
И девочка вдруг прижималась к старику – всего секунда, – но он успевал провести шершавой рукой по мяконьким ее волосам.
Аленка рисует. Рисует странно и тайно от подруг (только Чирикову дозволено видеть). Вот огромная оса, сидящая, как на крыльце своего дома, на ветке сухой сосны. Оса велика несоразмерно иглам, веткам и самому дереву. Она хозяйка здесь и глядит осмысленным, нечеловечьим взглядом.
…Глаза Чирикова – только глаза, но их достаточно для портрета. А еще – лицо незнакомой женщины. Молодое лицо, искаженное страхом.
– Кто это? – спрашивает Чириков.
Аленка пожимает плечами. Это лицо из ее снов и видений, где эта женщина укладывает ее спать, играет с ней в саду, ведет к какому-то дому – городскому, серого камня, вытянутому вверх, с окнами, похожими на бойницы…
– Кто это, Аленушка?
– Не знаю.
Буров и Виталий уже смотрели однажды снятые куски.
– Видишь, а? – азартно спрашивал Юрий. – Здесь живой нерв есть. Должно сложиться. Если, конечно, монтаж не запорю. Да что ты! Я башку об этот монтажный стол расшибу, а сделаю!








