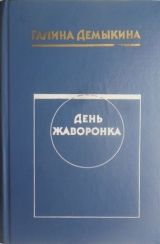
Текст книги "День жаворонка"
Автор книги: Галина Демыкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Нет, я зря сказала, что старик ничего не изрекал. Он любил это. Только тогда мне было не попять. А вот теперь, недавно, я выбрасывала старью бумаги – школьные дневники, давние заметки. И нашла старинного издания оперу Гуно «Фауст» с вензелями, травами, цветами на шмуцтитуле. И там же его четким почерком с нажимом, какого уже не бывает в наше нервное время, выведено: Vita brevis, ars longa, что значит в неточном переводе: жизнь коротка, искусство вечно («longa» – это не «вечно», а «продолжительно», оно и по смыслу точней, но так не говорят). И я вспомнила: ведь он учил меня петь! (Недаром он работал в театре. Наверное, он всё на свете умел.) Но это много позже, я уже была большая. А голоса у меня не было никогда. Только разве слух. Он говорил:
– Кто имеет разговорный голос, тот имеет и певческий. Можно развить. Поняла?
Я спросила:
– Так же, как память?
– Вот-вот. Неужели и этого не забыла?
Безусловно, старик был редкой толковости: он понимал то, чего знать еще не мог. Ведь он не знал, что будут люди, которые соревнования ради пробегут столько-то километров за столько-то минут (очень много км за очень мало минут), или съедят на пари легковой автомобиль, или уменьшатся до размеров крота, привыкнут к стронцию, смоделируют сами себя – да мало ли что еще! Все смогут. «Человек с собой может сделать почти все…» Но я отвлеклась.
Вот так мы сидели у старика в тот далекий день моего детства и пили чай с лимонной кислотой. Вдруг постучали. Тихо, но как-то очень слышно. Старик поставил мою чашку на свою, а моё блюдце под эту горку, все накрыл газетой – и сахар, и лимонную кислоту, а мне велел зайти за шкаф. Он не сказал «спрячься», а – «зайди за шкаф». И я дальним чутьем догадалась, что он меня бережёт, И испугалась: бережет – значит, есть от чего.
Он открыл дверь. Я выглянула из-за шкафа, на всякий случай прикрыв глаза рукой с чуть разведенными пальцами – поза, в которой я застыла потом на много лет, – и увидела высокого человека в светло-сером костюме. Он был пересечен моими пальцами. Голос у него, как и стук в дверь, был тихий, но очень слышный:
– Вы – товарищ Сарматов?
– Да, я, – ответил мой старик. О, какие у него были узкие плечи и торчащие лопатки!
– Я по поводу маски.
– Н… не понимаю…
– Посмотрите на меня.
Я могла бы видеть его лицо, в которое всматривался мастер, но палец – тоненький детский палец у самых глаз – это лицо заслонил.
А старик повел человека к окошку. И топтался около, и приговаривал:
– Да, да, вижу. Понятно. Это уж слишком явно, правда?
– Не будем вдаваться. Нужна маска.
– Да, разумеется, – робея спорить, ответил мой старик. – Подойдемте к шкафу.
Они долго выбирали. Я помнила эти лица без глаз. Человек взял одно из них, а глаза оставил свои. Старик посадил его на стул, и теперь мне было видно, что он старательно, как очень узкий чулок или перчатку, натягивал человеку это новое лицо. Я не могла разглядеть, что получилось, – видела только над светло-серым воротником чужой вспотевший затылок с прилипшими волосами и часть чужого бледного лба, на котором старик расправлял складки.
– Ну вот, ну вот, – приговаривал он. – Волосы горячей водой не мойте. И лицо, разумеется. И старайтесь не опускать глаз.
– Это ещё почему? – отозвался гость недовольно. Но потом усмехнулся: – Впрочем, надеюсь, не понадобится.
– Даже если понадобится, – строго сказал мастер. Он теперь, в работе, стал храбрее. – Дело в том, что веки остались ваши. Это может быть замечено.
– Понял, понял. Дайте зеркало.
Человек, как я поняла, долго смотрел, потому что молчал. Потом спросил:
– Сколько я должен?
– Нет, нет. Я денег не беру.
– Ну все же.
– Нет, прошу вас.
Человек в светло-сером, вероятно, оглядел комнату, потом сказал вдруг:
– У вас довольно большая площадь.
– Да вот… – замялся бутафор. И вдруг – тревожно: – Что это? Что вы пишете?
– Ордер.
– А?
– Ордер на сохранение жилплощади.
– Да? Спасибо. Спасибо! А то, знаете, привык уже…
– До свидания, товарищ Сарматов.
Человек давно ушел, а старик стоял и молчал и не помнил обо мне. А когда я вышла, на лице его было такое выражение, будто произошло что-то стыдное.
– Беги домой, – сказал он. Взял мою руку своей холодной рукой и молча вывел в городской переулочный мир. И мы, не прощаясь и не глядя друг на друга, разошлись.
Глава II
Радость сближения серого с темно-лиловым.
И река, что, прихрамывая
И не отставая,
Долго идет за поездом.
Я, уже взрослая, возвращаюсь из Эстонии. Поездку отделяют от предыдущего многие годы, и единственная реальная связь с ним – я сама. А те люди, что рядом в купе, так же вот связывают этот лиловый послезакат с другим прошлым, память о котором, впитавшись в их сущность, делает их непохожими друг на друга.
Радость сближения серого
с темно-лиловым.
И река, что, прихрамывая
И не отставая,
Долго идет за поездом.
Плоды на яблонях —
жутковатые, будто в детстве.
В такое время
(это странно, но правда)
Может обрадовать лицо,
обыкновенное,
И название станции —
Йыхви.
Только надо настроиться
на эту волну, —
Не шуметь,
не разговаривать.
Тихо, тихо…
И тогда из черного леса
Прилетит птица
И склюнет буквы
с твоего стиха.
Мне совершенно нечего было делать в Эстонии. Но я знала и раньше, что буду там. Хотя бы в намять о Яне. Ведь в Таллине точно так же, с нажимом на каждый слог, смягчают «л» до «ль» и делают твердым «н» («нэльофко!»). И кажется, что народ, который даже на чужом языке, богатом согласными, так по-птичьи беспомощен в речи, – не способен на ало. И потом оттуда, из Таллина, я получила стихи, которыми дорожу. Они – о любви. Во мне не только радость адресата. Там еще есть строки, симпатичные мне, по сути, не касающиеся любви:
…Но суров закон костела,
Неприветливы эстонцы.
Видно, бог у них угрюмый,
Что же, каждому свое.
Поистине каждый человек – это каждый человек! Прекрасно, что у нас разное прошлое и что наши глаза и уши разное видят и слышат. Я счастлива, что не ходила в детский сад, и жалею, что не избежала школы. А Таллин – город своего прошлого. И здесь я ощущаю некую общность с ним: новое разрастается, не затрагивая основы и, однако, не отрицая ее.
Наше детство тяготеет над нами —
Городок за семью стенами.
Не войти в него,
не достучаться,
До любимых в нем
не докричаться.
А зачем туда возвращаться?
Нам пора бы с ним распрощаться.
Там, где камни травой прорастали,
Мы ловили тоненьких ящериц.
К ночи делали птичьи стаи
Воздух розовым и звенящим.
Снег лежал за окном завьюженным.
Старый тополь
стучался в раму…
Какими разными все мы, обитатели родного двора, видели эти стены, камни, снег. Я дорожу этим. А еще – сны…
Этот сон повторялся множество раз: белая, по-утреннему туманная поляна, и я стою на ней, заранее волнуясь. Потом я поднимаю руки, с силой опускаю до половины, ударяя ими по воздуху, снова поднимаю – и тогда лечу.
Лечу!
Я очень летала в детстве. Может, поэтому мне так тяжело было первый раз в самолете: ощущение простора я ведь знала, а ощущение железной замкнутости при полете – нет. Но к нему как раз и надо было привыкать.
Но однажды сон окрасил мой полет новой радостью. Она исходила от маленькой фигурки, махавшей руками на другом конце поляны. Это было далеко, я не видела кто, но знала отлично. И оттого что онне взлетел (кажется, не взлетел!), мне было еще счастливей.
Но и жаль было, что мы не вместе. И наяву уже я спросила его:
– Ян, ты умеешь летать во сне?
– Конечно, – ответил он с превосходством. И – мягче: – Но ты тоже научишься.
Так он подарил горькое тогда для меня знание, что люди, даже такие, как мы – Ян и Яна, видят не одинаковые сны…
И еще.
Однажды странная эта женщина – Светлана Викторовна, бывшая владелица наших домов, – надела бархатную курточку с белым мехом (господи, кто носил тогда этакое!) и сказала:
– Дети, поедемте-ка за город. Поглядим на весну.
Дети были мы с Яном, Надька и ее старший брат красавец Юрочка. Надька сразу нашлась:
– Чего глядеть-то?
– Я отшень рад, – отозвался Ян.
– Только отпроситесь у родных.
И вот мы двинулись. Все на нас глядели – из-за нелепой этой женщины, наверное.
В трамвае Надька кинулась занимать места. Юрочка не так поспешно, но тоже. И Светлану Викторовну Надька втиснула:
– Уступите место старой.
Уступили.
Мы с Яном остались на площадке. Он взял себе и мне билеты, как взрослый. Он встал так, чтоб меня не толкали. У него было бледноватое длинное лицо и светлые глаза с широкими зрачками. И много – шапка целая – прямых белых волос.
– Ты почему смотришь? – спросил он, открыто глядя на меня. – Ты меня узнала? Да? Я тебя сразу узнал, как увидел.
– Как это?
– Ну, не умею сказать. Узнал вот.
– У тебя красивые глаза.
Он покраснел, отмахнулся:
– Что ты! Как у девчонки. Мне бы хотелось быть похожим на Юрочку.
– Ян, не надо на Юрочку.
– Но ведь он красивый. Лучше меня.
– Много ты понимаешь!
– Эй, жених и невеста! Пора слезать! – закричала на весь вагон Надька. Я смутилась и не подходила больше к Яну. И видела, что это его удивляет и огорчает. Он был другой какой-то мальчик: старше и младше сразу.
А однажды, когда я, заметив, что он вышел во двор, быстро сбежала по ступеням – я всегда теперь сообразовывала свои действия с его присутствием или отсутствием, – он подозвал меня и, как всегда, прямо глядя, сказал:
– Пойдем, я подарю тебе кольцо. Оно мамино.
– Настино?
– Нет, мамино. Мама умерла. – И вдруг горько: – Она нас с папой любила.
Я не хотела кольца. Но как об этом сказать – не знала. Ведь оно – не просто так. А Ян уже вел меня в угол двора, заросшего жилистой городской травой.
Там, между сараем и забором, он щепочкой раскопал землю.
– Я спрятал. Это моя кладовая.
– Вот ведь придумал! – удивилась я.
– Это Надя придумала. Я сказал ей, что это для тебя.
Сердце мое тукнуло глухо: тук, и еще раз недобро: тук.
Он долго копал щепочкой. Потом поменял место и там снова копал. И снова поменял. Он мог копать так до завтра.
Но я молчала.
– Здесь была коробочка с бархатной подушечкой, – сказал он.
Я молчала.
– Ты не думай, я найду.
Я пожала плечами.
– Ведь никто же не видел, – утешал он себя. – Только Надя. Это мамино кольцо. Она мне его подарила. Она сказала, что я могу его отдать, когда… Ну, в общем…
Но отдавать было нечего. Он выпрямился. Губы у него тряслись. Шапка белых, у самых бровей остриженных волос развалилась. Со щек, с губ, далее с глаз сходила окраска. Я раньше не видела, чтобы человек так заметно выцветал. И мне стало стыдно, что я пожимала плечами и радовалась – ну да, радовалась, что моя догадка оправдалась.
– Ян! Ян, мы найдем. Я сейчас побегу к ней.
– Может, и не она. А потом – как же она отдаст?
– Я ее заставлю! Это она, она, она!
Я сама не заметила, что плачу. И Ян тогда положил руку на перекладину забора и уткнулся в нее лицом.
Что можно утешить человека словами, мне и в голову не приходило. И я двинулась к Надькиной двери.
Я добежала до второго этажа, когда во двор вышла красавица Настя. Не глядя по сторонам, она прямехонько направилась в тотугол двора.
В пыльное лестничное оконце мне было видно, как она схватила Яна за ворот рубахи, будто щенка за шиворот, и поволокла домой.
Теперь я не знала, что делать, и стояла у Надькиной двери. Но вдруг дверь эта толкнула меня, и из квартиры вывалилась Надька, а за ней Юрочка.
– Бить повела! – радостно заголосила Надька. – Ух, она его колотит! А он только «мамочка, мамочка!». Пошли смотреть!
– Она не имеет права его бить! – закричала я. – Она ему не мама. – Меня так потрясло, что чужая женщина может бить чужого мальчика, что я на время забыла о Надькиной подлости. – Пошли, скажем ей! Побежали!
Длинноногий старший Юрочка опередил нас. Он прилепился к кухонному окну Настиного первого этажа, и ласковая тонкая улыбка осветила его лицо.
– Ну что? – кричала на бегу Надька.
– Бьет, – в упоении ответил Юрочка и переступил с ноги на ногу.
Настя била Яна холеной своей рукой по шее, по голове, по лицу, а он горбился и молчал, и в ней от этой покорности что-то срывалось с причала, и тело ее наливалось свежей силой. И когда он присел, защищая лицо, она саданула его ногой в бок. Он упал.
Я забарабанила по стеклу. Стекло зазвенело и выпало, разбилось у наших ног. Я испугалась.
Настя выскочила тотчас же.
– Подглядывать, да? Окна бить? Интеллигенция! Вот я к матери-то приду, как ты тут фулюганничаешь. Ну эти– ладно, побирушки, а уж профессорской-то дочке!..
Это был удар ниже пояса. В нашем дворе почему-то звания стыднее «интеллигента» не существовало. Она уничтожила меня, сразила, прибила белыми своими, толстыми ногами к земле.
Меня.
Но Надька оставалась вне удара.
– А ты ему кто, колотить-то, а? Ты еще ответишь! Ты какое право имеешь чужого колотить?
– Да я и тебя сейчас… – шагнула со ступеньки Настя. Но мы отбежали к своему подъезду, и оттуда Надька заорала еще вольней:
– Мало тебя мой дядька-то колотил? И еще прибьет!.. – И, первая увидав вошедшего во двор Яниного отца, закончила ликующе: – К тебе мужуки ходят! И что это порядочный на тебе женился?! Он ещё не знает, как ты его сына ногами-то бьешь! Он еще тебе всыплет!
Настя бросилась к нашему подъезду, но по дороге налетела на мужа и, рыдая, припала к его плечу:
– Виновата, виновата перед тобой! Ян продал кольцо твоей жены. Я не стерпела…
– Продал?
Статный, не по-нашему одетый человек обнял растрепанную, в разорванном халате Настю и, защищая от чужих взглядов из окон и хмурясь, увел домой.
Я посмотрела на Надьку. Она выдержала мой взгляд.
– Отдашь кольцо?
– А я брала? Докажи!
Юрочка стоял рядом. Длинные его опушенные ресницы касались бледных щек, на губах змеилась ласковая тонкая улыбка. Если бы не он, я бы поверила Надьке.
Вечером Надька вызвала меня на лестницу. Она почему-то боялась моей матери.
– Что было! – зашептала она возбужденно. – Настенька на Яна отцу наговорила, он его ремнем вздул. А потом об степу оперся и заплакал: «Что ты, – говорит, – со мной сделала! Что сделала! Я его ещё пальцем не трогал никогда!»
– Из-за тебя, – сказала я.
– Ну да, из-за меня! Она его каждый день валтузит. Ты вот сидишь у деда вонючего, не знаешь ничего. А она его прямо на измор берет. Он ей сперва руки целовал: «Мамочка, мамочка», а теперь молчит. – И засмеялась: – «Мамочка».
Ночью я долго не могла заснуть. Было жалко Яна. Было страшно, что не будет моей мамы. И терзала обида на отца: женится на такой вот… Пусть только тронет, пусть тронет! А Ян сперва говорил: «Мамочка красивая».
Счастливое чувство к нему переплавилось. Теперь хотелось защищать его, кричать Насте злые и обидные слова (сколько я их придумала за ночь!), а бродить по парку и слушать, как он говорит, что у него есть красивый роллер, но кататься здесь на нем «нэльофко», или смотреть вместе с ним на ветки дерева – нет, теперь не хотелось. Ведь я видела это. И он видел, что я видела.
На другой день в наш двор въехала легковая машина, это было событием, и жильцы не выдержали: вышли все. Даже Сидоров-младший. Он стоял поодаль, заложив руки за спину, и два пальца левой руки – средний и указательный – держал правой пятерней.
Шофер открыл багажник и стал перетаскивать туда из Настиной квартиры желтые новенькие чемоданы: один, другой, третий…
– А это вместе нажили, не тронь, не тронь! – звучало из квартиры. И после паузы: – Пащенка свово не забудь!
Под эти крики вышли и молча сели в машину отец и сын. Ян задержался на секунду, качнул в сторону Насти головой:
– До свидания.
– Скатертью дорожка! – отозвалась Настя.
Она, рваная и трепаная, была красивей обычного.
Я не сразу поняла, что произошло. Машина подалась назад, развернулась, сминая песок на крокетной площадке, и медленно выплыла за ворота. Я увидела в последний раз белый затылок Яна.
Ян не обернулся, не помахал мне рукой, даже искоса не поглядел на меня.
О, если бы я знала, если бы знала, что он так горд и что его так унизят, если бы предвидела, какой короткий срок будет отпущен нам! И отчего я не дорожила этими днями, транжирила их, сорила ими, точно бумажками от конфет? И как могли мы не сговориться, где увидим друг друга в жизни?
Ян! Ян! Ян!
«Перед глазами травы и дерева…»
– Анька! – окликнул меня Юрочка и, не поднимая ресниц, разжал вытянутую руку. – Хочешь, купи. За десятку.
В ладони лежало хрупкое колечко с тонким ободком и большим лилово-зеленым камнем.
– Он цвет меняет, – набивая цену, добавил Юрочка.
Я бросилась на Юрочку, повалила его, долговязого, и так это было неожиданно и так неистово от боли моей и ярости, что он даже не успел оборониться. Я долго стукала его головой об землю, пока его не отняли и не унесли.
А кольцо я нашла вечером, на месте драки, затоптанным в песок.
Я храню это кольцо. На свете есть много украшений с камешком александритом. Но здесь этот камень поддерживается тоненьким серебряным лепестком, на котором чуть заметно нацарапано слабой женской рукой латинское «J».
Она любила Яна. И умерла.
Я ни разу не надевала это кольцо. Просто храню. И дорожу своей хоть малой причастностью к тому, что с ним связано доброго.
До сей поры.
…Наше детство тяготеет над нами,
Городок за семью стенами…
Моя взрослая поездка в Эстонию не имеет отношения к предыдущему. Но она выросла из него. Оттуда, из тех корней пошли зеленые побеги. Я знала, что буду в Таллине, хотя бы в память о Яне.
Таллин! Таллин! Почти нереальный город башенок, вышек, черепичных крыш и каменных степ. Город, сохранивший здоровенные деревянные, обитые железом ворота, некогда отделявшие Вышгород, где жили аристократы, от купеческого Нижгорода. Таллин, который ни разу не был взят штурмом: тройной обвод стен – ярус над ярусом, с каждого из которых можно видеть красные, голубые, зеленые крыши. И над ними фигурку Старого Томаса, окруженную легендами. Целый ореол разнообразных, очень патриотических и ласковых легенд. Там есть улочка шириной в метр сорок (как раз, чтобы мог проехать всадник с копьем наперевес). На ее булыжной мостовой в давние времена, как говорят, не смогли разойтись две дамы в кринолинах. О, разумеется, тут же нашелся длинноногий светлоглазый красавец угро-финн, который крикнул, смеясь:
– Пусть младшая уступит той, что старше!
И обе женщины прижались к стенам, пропуская друг друга.
Милые, лукавые вымыслы!
Таллин – город, возвращающий в детство, потому что во книжках сказочные королевства изображаются именно такие башенки, вышки, деревянные ворота в каменной стене…
А меня, пока я бродила по Таллину, не покидало ощущение, что можно. Можно перепрыгнуть через время в ту далекую пору, где все освещено солнцем; потереть желтое бутылочное стеклышко и увидеть жизнь, как тогда – однозначной. Прекрасной. И вечной. И готовой к чуду.
Главное – не пропустить. Я выходила из гостиницы на площадь и шла, как ходят герои кино под музыку (только она звучала во мне). Музыка рождает у зрителя чувство значительности и близких перемен. Должно случиться что-то. Все не просто так: ты идешь, а звук трубы вырывается из оркестра. Нет, нет, неспроста. Сейчас… Вот за этим углом… Я ускоряла шаг. Поспешно заглядывала в окошко автобуса. Может, там? Но автобус трогался. Мимо. Значит, вот здесь, за углом. За углом была сберкасса. И ни души. Можно получить по аккредитиву. Я получала, лихорадочно разглядывая через окно проходящих людей (не пропустить бы!). Небрежно совала в сумку деньги. И снова в волнении выбегала на улицу. А вдруг за это время… Есть такой оборот – «эффект присутствия». Он для меня переосмысливался по-своему. Я ощущала в городе присутствие человека– одного-единственного человека, которого мне холимо было увидеть. И это не только определяло цвет города (как сквозь желтое солнечное стеклышко), но и звук моего голоса (неожиданно звенящий) и темп пульсации крови. И это странное, ничем вроде бы не спровоцированное волнение называлось ожидание. Почему?
Городок за семью стенами. Детство. А я уже взрослая. Разве к этим берегам не прибивало других кораблей? Сколько угодно. Но под чужими флагами. Нет, я ничего плохого не хочу сказать, порой были прекрасные корабли и флаги вполне симпатичные. Но ни на одном не было написано: «Перед глазами травы и дерева…»
И я шла по городу, вертя головой: сейчас… в том переулке… за тем поворотом… И все боялась: а вдруг не узнаю?.. Но вот однажды…
Однажды, когда я поднималась по длинной улице, вымощенной узкими каменными плитами, из деревянных ворот, из древнего аристократического Вышгорода резко, нервно и даже будто прихрамывая почти выбежал навстречу мне человек. Он так явно спешил ко мне, что и я ускорила шаг. Вот. Вот оно! Человек был высок и узколиц, на лоб падала шапка светлых, чуть потемневших за это время волос, и только глаза с яркими, как прежде, зрачками глядели – что это? – не удивленно, не радостно, а замкнуто и озабоченно. Эти глаза очень торопились, они скользнули по мне издали, а когда мы поравнялись, их уже не было здесь. Как же? Что же это? Мое чудо проходило мимо! Можно, оказывается, не только не узнать, но и не быть узнанной!
И все-таки я позвала очень тихо, почти шепотом:
– Я-ан!
Он приостановился. Знакомо, доверчиво и беспомощно наклонил голову, кивнул, подтверждая что-то:
– Яльг. Пиик Яльг, – ответил он вежливо и развел руками, будто охватывая стены и мостовую.
– Что?
– О, по-русски… Эта улица… (Какой знакомый акцент! «О» и «А», которые для нас сливаются в один звук, здесь выделяются отчетливо.) Улица Пиик Яльг. Это значит «Большая нога». – И улыбнулся рассеянно. Он очень спешил. Ему было «нельофко», что он так спешит. Но…
Мое чудо и в самом деле проходило мимо. Вот еще секунда – и скроется за уличным поворотом. Я бежала, спотыкаясь о торца мостовой, улица плыла. Я не вытирала слез и потому спотыкалась еще больше; я кричала и тянула руки: «Ян! Ян! Узнай! Это же я – Яна!»
Да нет, никуда я не бежала. И кажется, даже не плакала. Сжимала в кармане курточки кольцо – то самое, с камешком александритом и тонко нацарапанной на серебре буквой «J». Зачем я только таскала его с собой! Конечно же, не как вещественное доказательство. Просто думала: склонимся над ним вместе – оно ведь дорого нам – ему и мне. «Просто». Будто что-нибудь бывает просто. Да разве проходило бы тогда мимо нас неповторимое? Мы бы просторазличали его, выделяли из многих похожих явлений, отшелушивали от него пустое, суетное, повседневное. Мы бы простодорожили им. Разве мы не умеем дорожить?
Радость сближения серого с темно-лиловым…
Мой поезд бежит, бежит мимо садов и яблок, мимо станции со странным названием Йыхви…
Горький привкус подарка судьбы, который мне позабыли вручить! Но подарок этот есть, отложен. Он будет, непременно будет!
…Только надо настроиться
На эту волну, —
Не шуметь, не разговаривать,
Тихо, тихо…
И тогда из черного леса
Прилетит птица
И склюнет буквы
с твоего стиха.








