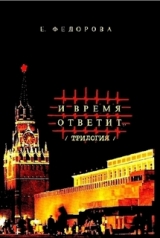
Текст книги "И время ответит…"
Автор книги: Евгения Федорова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
«…Это беспрецедентный случай… Чтобы молодой, талантливый, многообещающий врач – наложил на себя руки! Это – беспрецедентно! Врач, поставленный во главе большой районной больницы!.. К сожалению, мы не учли – какой больницы? Больницы, коллектив которой на восемьдесят процентов состоит из ссыльных!.. В этом наша ошибка, и мы горько раскаиваемся! Врач, – молодая женщина полная надежд и энтузиазма, жаждавшая отдать все свои силы и знания на службу нашему народу – оказалась в стае волков! Её бойкотировали, ее травили, ей вредили справа и слева… Она не выдержала – ведь она была так молода и так неопытна! Она не знала, с кем имела дело! Ее довели, – беспрецедентно! – до самоубийства!!!»
Мы слушали разинув рты, и глаза у нас, должно быть, повылезали из орбит. Мы! Это мы довели Клавдию Васильевну до самоубийства! Мы ее бойкотировали и третировали! Мы?..
Нашу Клавочку, которой все симпатизировали, которая никому не мешала! С которой ни у кого не было ни одного конфликта за всё время её работы в больнице!.. Что он несет? Что он городит, этот Крайздравник??
Невольно все взгляды обратились к Андрею Андреевичу. Он сидел в первом ряду, почти прямо против трибуны, за кинув ногу на ногу, в позе меланхолической и томной, поглаживая свою шелковистую бородку.
Вот сейчас он встанет, остановит оратора и скажет, что всё это недоразумение, что товарищи из Крайздрава недостаточно информированы, что никто не «третировал» Клавдию Васильевну и все, что произошло – несчастный случай, – плод его, Андрея Андреевича, легкомысленного поведения, в котором он, конечно, раскаивается, так как не хотел и не думал причинить Клавдии Васильевне вреда, а уж тем более – её смерти… Все ждали, затаив дыхание.
Но он не встал, не остановил оратора. Он сидел, всё так же осторожно поглаживая бородку. Он не шевельнулся и тогда, когда «товарища» из Крайздрава сменил «товарищ» из НКВД.
Тот слово в слово повторил речь первого, несколько расширив рамки информации. Оказалось, что мы – «проклятые» контрики, которых не перевоспитал ни лагерь, ни ссылка, которые прячут свое истинное лицо под личиной лояльности и «хорошей работы». Мы исподволь разваливаем работу и не останавливаемся ни перед чем, даже перед прямым убийством!.. Кто же, как не мы довели эту молодую цветущую женщину, – талантливого врача! До самоубийства? Кто посмеет сказать, что это не так?
Мы все знали, что это не так. Но сказать об этом осмелился только один. Это был доктор Бендик. Он встал и, характерным жестом сдернув очки, словно они ему мешали, принялся тщательно протирать их носовым платком.
– Я думаю… Я полагаю, что тут имеет место недоразумение, – медленно начал он. – Мы все очень любили и уважали Клавдию Васильевну. Работать с ней было легко и приятно… Корень случившегося, я полагаю, надо искать совсем в другом – в неудачно сложившейся личной жизни Клавдии Васильевны…
– А вы не полагаете, Бендик, – прервал его энкавэдист, опустив даже привычное «доктор», что особенно полоснуло по ушам, (вот тебе и ссылка, «не лагерь»!) вы не полагаете, что мы располагаем большим материалом, что мы располагаем исчерпывающим!материалом?.. Вы не полагаете, что Клавдия Васильевна не нуждается в ваших адвокатских услугах? Я советовал бы вам придержать язык за зубами!
Разумеется, это был дельный совет. А покойная Клавдия Васильевна, уже не нуждалась ни в чьих услугах. Мы со страхом смотрели на д-ра Бендика – дошло ли до него это?
Постояв минуту – ужасная, жуткая пауза, – он сел, не сказав больше ни единого слова. Мы вздохнули с облегчением.
«Собрание» закончилось «наказом» не забывать этого «беспрецедентного» дела и держать свои мнения при себе.
Из наших врачей пострадало двое: доктор Качан, бывший дежурным в тот несчастный день и дольше всех возившийся с Клавочкой, – сделавший все, что возможно было сделать в наших условиях, чтобы реанимировать её, и доктор Грузиевский – старичок фтизиатр, (единственный на всю больницу), – заведующий туберкулёзным отделением, сладко отсыпавшийся дома после ночного дежурства и узнавший о происшедшем последним.
Обоих «изъяли» из больницы и перевели в низовья Енисея, в крохотные деревушки, где и больниц-то никаких не было. К счастью, к д-ру Грузиевскому приехала жена – такая же старушка, – и он благополучно скончался у нее на руках тем же летом. Было хотя бы кому похоронить.
Доктора Бендика не тронули, (вероятно не велели наверху) – дескать может понадобиться еще. О судьбе д-ра Качана я ничего не слышала… Андрей Андреевич продолжал возглавлять больницу до самого нашего отъезда из Енисейска в конце 1953 года.
В Енисейске была у меня и работа, и квартира, и мама, и старые ярцевские и новые енисейские друзья. И там, в Енисейске, прошли три последние года моей «бессрочной» ссылки, которые я считаю самыми благополучными и лёгкими. И новую собачку для мамы завели, хотя о Рыжике и Жучке она очень жалела и вспоминала их всегда.
Но и с этой собачкой маме, к сожалению, пришлось распроститься так как вскоре после смерти Сталина, нам, – ссыльным выдали наконец настоящие паспорта, хотя и с ограничением в приближении к большим городам и многим районам в 101 километр. Но это нас не пугало. Мы решили возвращаться в центральную Россию поближе, насколько удастся, к Москве, к культуре и, конечно, к моим детям. Даже место наметили на карте – Рязанская область. А там на месте найдём через Облздрав какую-нибудь деревеньку с больничкой и будем дожидаться амнистии, которая теперь уже точно не за горами.
Мужа моего – Макаши, к тому времени, уже давно не было в живых. Он умер вскоре после приезда младшего сына Вячеслава в Москву, весной 1949-года от разрыва аневризма аорты, развившегося у него вследствие фронтовой контузии. Так, по крайней мере, говорили врачи. Умер он прямо на операционном столе, будучи уверен что всё кончится благополучно, полный надежд и планов на будущее… Увы! Не суждено было…
С первыми признаками осени я ушла из больницы, тепло распрощавшись со всеми сёстрами и врачами. Снова распродав всё что удалось, из нашего нехитрого имущества, мы со слезами простились с нашими милыми хозяевами – стариками Щегловыми, которым оставили мамину собачку, погрузились на пароход идущий до Красноярска, и отбыли в полную неизвестность, но полные радужных надежд на будущее…
Глава VМой старый одинокий друг
…Прекрасной бабочкой была моя мечта.
Но я до крылышек её дотронулся неосторожно,
И дивной бабочки исчезла красота.
И возвратить её – уж невозможно…
Т. Щепкина – Куперник МОСКВА, ГОД 1965
Итак, с моего ареста в 1935-м прожито уже тридцать лет. Карелия… Урал… Сибирь… Верховья Камы и низовья Енисея… разлапистый кедрач и непроходимые болота… Пешие переходы с конвоем и дозорными псами. Этапы на колесах и этапы на баржах по воде… Годы жизни в сибирской ссылке, три года в рязанских деревнях за 101-м километром…
Полно, да было ли всё это?.. Или это только старый, всеми забытый фильм, не обо мне снятый?..
Уже почти десять лет, как я реабилитирована. Как и все, дожившие до «волюнтаристского акта» незадачливого Никиты – «кукурузника». Теперь мало кто помнит этот «акт» – больше помнят, как он в Нью-Йорке в ООН «туфлей по кафедре стучал». И из миллионов людей, которых он своим «актом» от голодной смерти спас, в живых теперь уж осталось немного. Они-то помнят!..
Круг моей тюремно-лагерной эпопеи замкнулся.
Я вернулась в Москву («по месту жительства»), даже комнату дали на Кутузовском, правда в трёхкомнатной квартире с двумя соседями, и теперь, в шестидесятых, живу обычной «нормальной» жизнью. Конечно, советской, поскольку пока живу в Советском Союзе. Пишу детские книжки. Ничего, понемногу печатают. Занимаюсь журналистикой. Тоже ничего, много разъезжаю. Всё нормально и… буднично. А когда-то, так мечталось об этом!.. И прошлое теперь вспоминается, как страшные нереальные сны…
Мама дожила со мной почти до 84 лет, и однажды тихо уснула навсегда сидя на своем любимом кресле…
Сыновья мои давно выросли, и живут своей жизнью, хотя и наведываются ко мне довольно часто. Оба они к этому времени давно разочаровались в советской действительности, ещё после того, как одного из них, в 50-х, выставили из Физико-технического института, докопавшись до моей «зачумлённой» биографии, а затем закрыли ему загранвизу вскоре после окончания им Одесской Высшей Мореходки, а другому не дали поступить ни в аспирантуру, ни на работу в академический институт, после очень успешного окончания Физфака МГУ, всё по той же «серьёзной» причине. В связи с этим он вынужден был перебиваться случайной работой, от переводов технических текстов и научных статей с английского – до работы строительным рабочим в бригадах «шабашников».
Оба они не желали мириться с такими жизненными перспективами и понимали что с их специальностями других может и не быть. Они уже в то время мечтали выбраться за рубеж и начать жизнь сначала. Особенно стремился к этому младший – Вячеслав. Он даже говорил брату по секрету от меня, что больше не хочет так прозябать, и если не удастся вырваться из ненавистного «режима» в течении ближайших двух – трёх лет, то он, скорее всего, покончит с собой…
У меня, в своё время, выдержки было больше…
В конечном итоге, – нам всем троим удалось уехать в Америку. Но произошло это не через три, а через девять лет.
Если успею, расскажу и об этом в отдельной книжке.
А пока хочу рассказать об одном интересном знакомстве, начавшемся ещё в лагерях – в 1935-ом, перешедшем в дружбу, после моего возвращения в Москву и продолжающемся до сих пор, хотя к сожалению, только в письмах.
Итак, Москва, 1965 год.
Сижу однажды перед телевизором, – в своей комнате на Кутузовском. На экране что-то рассказывает Георгий Гулия, – один из постоянных авторов «Литературной газеты» и член её редколлегии.
«Железный занавес» в те годы начинает чуть колебаться. «Избранные» и «надёжные» изредка могут получить и загранкомандировку. Вот и Гулия только что вернулся из Египта. Он вещает с экрана о том, что будет писать книгу о Древнем Египте. Из эпохи фараона Эхнатона (18-я династия).
Гулия показывает фотографии: вот он сам на развалинах Ахетатона, города, воздвигнутого фараоном-реформатором – Эхнатоном.
Правда, самих развалин не видно. Стоит Гулия на каком-то совершенно пустынном и голом месте.
– Это то место, – поясняет он, – где Эхнатон, покинув старую столицу Египта – «Стовратные Фивы», основал свою, гордо назвав её «Городом солнца»…
А вот и сам фараон! – Портрет во весь экран величиной возникает на экране. Какое прекрасное и вдохновенное лицо… Почем уже я вздрагиваю, почему?.. Или?..
– А это – его жена, красавица Нефертити – продолжает Гулия, – несомненно, всем вам знакомая! – Теперь поверхность экрана занимает головка действительно «всем знакомой» Нефертити. Но какая очаровательная, реальная, прямо живая, из плоти и крови – хотя несомненно «египетская»… У меня захватывает дух… А Гулия продолжает свой репортаж: – Это работы художника Михаила Михайловича Потапова, который живет в Закарпатье, в городе Хусте.
Ну конечно же я узнала! Боже мой!.. Лагпункт Пиндуши. Египетские головки на обрывках картона… Галчиха… Ну конечно же – Мишенька Потапов!
Я хватаю лист бумаги, пишу не видя строчек, как слепая. На конверте я пишу:
«Закарпатье, Город Хуст. Художнику М. М. Потапову».
Вероятно, городок небольшой, и не так уж много в нем художников. А верней всего – только один. И я тут же бегу отправлять письмо.
…Он тогда, как и я, работал в КБ Пиндушской Судоверфи. Никаких «общих работ» не знал, и, к большому его счастью, так и не узнал за весь свой «срок». В КБ он работал в отделе внутреннего оформления судов. Его эскизы всем нравились, его хвалили, но похвалы эти мало трогали Мишеньку. Они как бы плыли стороной, как и вся жизнь вокруг него. Если к нему обращались, он отвечал вежливо и даже охотно, но сам ни с кем никогда не заговаривал даже во время «перекуров» (сам он не курил ни тогда, ни в молодости, ни потом). Он не искал ничьего общества, но о себе рассказывал свободно и легко. И историю его жизни вскоре узнали многие.
Это началось давно, очень давно, – когда Мишенька был ещё ребёнком. Вот что он рассказал мне о своей первой встрече с Древним Египтом, когда ему, девятилетнему мальчику, ученику первого класса мужской гимназии, впервые попал в руки учебник по истории Древнего Востока: «…Увидев иллюстрации по Древнему Египту, я был потрясен, всецело захвачен ими: Великий Сфинкс, пирамиды Гизеха, пилоны древнеегипетского храма, мумия в саркофаге, Богиня Баст с головою кошки – всё это показалось мне близким и родным мне; когда-то и где-то виденным мною, но не на картинках, а в жизни. Когда же?.. И где?.. Я испугался – не схожу ли я с ума?»..
Перепугалась и мать мальчика, – никогда никаких книг о Египте до этого он не читал, и никто ему о нём ничего не рассказывал…
Свой арест и лагерь Мишенька считал, как и все ключевые события жизни, – судьбой, «кармой». И он давно понял что сопротивление бесполезно и бессмысленно. Понял не на Лубянке, и не в лагере, а гораздо раньше ещё тогда, когда подростком бродил в окрестностях Севастополя и по развалинам, любимого Херсонеса. Когда впервые познакомился с учением теософов, и понял ПРИЧИНУ своей страстной любви к Древнему Египту…
Мишенька удивлялся, когда его расспрашивали о его «деле», о допросах. Ему казалось это совсем не важным, его не волновало, за что его взяли, почему?.. Лубянка, лагерь – это всего лишь звенья в ожерелье судьбы.
Арест и лагерь он остро переживал только в двух аспектах: у него отняли двух единственно близких и дорогих ему людей – обожаемую им мать, и… невесту (быть может, еще более обожаемую?). Они остались «там». Он переживал их потерю, как окончательную, на всю жизнь. Что касается невесты – его предчувствие не обмануло. С матерью ему еще довелось встретиться и ещё пожить вместе какое-то время.
Всякое воспоминание о них вызывало горькие слёзы, а не вспоминать он не мог.
Второй аспект – тоже не менее горестный. Это крушение навсегда, как он тогда считал, мечты, лелеемой всю жизнь, – увидеть свою Прародину, любимый свой Египет. Если до лагеря из робких его попыток ничего не получилось, то о чем же говорить теперь?!..
Мишенька Потапов был глубоко убежден, что в своей прежней, давно прошедшей жизни, тысячелетия назад, душа его жила, воплощенная в египтянине эпохи фараона Эхнатона, египтянине, близком ко двору Эхнатона, так же обожавшем этого фараона-реформатора, как и теперь, спустя тысячелетия, обожает его в теперешнем своем воплощении Мишенька Потапов. Он считал Эхнатона не только «реформатором», борцом с языческими жрецами, но и мессией, провозгласившим веру в Единого Бога, – предшественником Христа, первым основоположником монотеистической религии, проповедующей любовь ко всему живому и к Создателю самой жизни.
Мишенька помнил свою прародину неясно и расплывчато, но ЗНАЛ, – что это – именно ОНА. Помнил так, как мы помним родной город, дом в котором выросли, дни своего детства – счастливые или печальные – и лелеем эти воспоминания в душе до самой глубокой старости, до самой смерти…
Когда Мишенька говорил о возлюбленной своей прародине, он становился живым человеком. Щеки его розовели, глаза начинали блестеть. Скорбное выражение исчезало с его лица. В остальное время он был похож на человека, действующего автоматически, в состоянии летаргического сна, хотя все действия его были разумны и логичны.
Историю «перевоплощения» Мишеньки знали не только его ближайшие друзья, но – в общих чертах – и всё население лагпункта, не только интеллигенция, но и рабочие, и даже урки. И – удивительно! – все относились к нему с большой симпатией (даже, воспитанные коммунистической системой, безбожники!). «Наш египтянин» – никогда не звучало насмешкой, или «прозвищем» – ну, может быть, как фамилия.
«– Вы не видали Мишеньку-египтянина? Куда же он подевался?»
Единственным утешением Мишеньки Потапова оставалась возможность и тут, в Пиндушах, рисовать. Товарищи по КБ усердно собирали для него кусочки картона; через расконвоированных бытовиков доставали кисточки и краски.
Когда Мишенька, отыскав укромное местечко за бараком, или уединенную полянку на островке, присев на пенек или просто на зеленую кочку, начинал рисовать, он совершенно отключался от окружающего мира; он словно переносился в ту далёкую давно прожитую жизнь; он видел её, – эти дикие равнины, выжженную солнцем землю, каменные сооружения, которые он сразу «узнавал»… Удивительные города, роскошные дворцы и храмы, людей в небывалых стильных одеждах… Он ВИДЕЛ, – и рисовал то, что ВИДЕЛ.
Вот почему пейзажи и пирамиды древнего Египта на его рисунках утрачивали стиль «интерпретации» или «воскрешения», но воспринимались, как реальные, земные пейзажи. Те, кто видел эти картины, чувствовали себя современниками; – видели их, как видели их современники, как видел их Миша Потапов. Это чувство необыкновенной реальности его живописи, в будущем, не раз отмечали крупные специалисты, видевшие работы Потапова, но об этом я расскажу потом.
Лица со странными, «не нашими'» чертами, оживали под его кистью, словно бы он рисовал их с натуры. На самом же деле, он, обладая феноменальной памятью, использовал своё внутреннее зрение и воспоминания о древних – дошедших до нас остатках скульптур, о посмертных масках, о росписях фризов и фресок – о том, что сейчас хранится в богатейших коллекциях музеев мира. Он помнил фотографии из музейных каталогов, помнил уникальные фотографии, воспроизведенные в трудах крупных ученых-египтологов. Беря их за основу он оживлял их силой своего таланта и помещал в перспективу природы и культуры того древнего Египта, память о котором жила в его душе.
Уже тогда, к 30 своим годам Миша Потапов и сам был серьезным, знающим египтологом, имевшим обширную переписку с египтологами-профессионалами. К тому времени уже был заложен и фундамент его собственной египтологической библиотеки, в которой имелись фолианты с дарственными надписями авторов. Всё это было конфисковано при обыске; так и сгинуло в подвалах НКВД. Но многое осталось в его памяти.
Рисунки его имели большое сходство со всем этим историческим материалом, и в то же время, повторяю, – были настолько живы, естественны и натуральны, что невольно казалось, – вот сейчас шевельнется эта головка и живые глаза встретятся с твоими…
Несмотря на «укромность местечек», Мишеньку всегда находили, и постепенно вокруг него образовывалось кольцо «зрителей». Правда, они мало мешали художнику поскольку затаив дыхание следили за его работой. Да и Мишенька вряд ли замечал их… И я, уже зная его «историю» так же замирала в кругу восхищённых зрителей, боясь хоть единым словом нарушить магию творчества.
Вот из под кисти художника появляются нежные очертания женского тела, чуть прикрытые струями прозрачной материи; тонкий профиль горделиво откинутой головки, – такой нездешней, и такой «живой»!..
Конечно, любимейшие портреты Мишеньки – это божественный Эхнатон и жена его – красавица Нефертити. И рисует он их чаще всего другого. Множество фотографий с разных древних оригиналов видел он в музеях, много фотографий хранил дома – ничего этого у него сейчас нет. Но память его не подводит. Он ВИДИТ все эти фотографии, так же, как ВИДИТ их, – своих бывших современников – в их жизненном воплощении… И «зрители» безошибочно узнают в далеко еще не законченном наброске: «Нефертити» – чуть слышно шелестит в воздухе…
Вот так впервые встретилась я с творчеством Михаила Михайловича Потапова.
Почти у всех его товарищей по работе и бараку были бережно хранимые кусочки картона с египетскими головками, или пирамидами. Да и не только у них. Мишенька увлечённо рисует, но так же охотно дарит «на память» свои рисунки, кто бы ни попросил.
Разные люди населяют лагерь. Многие никогда и не слышали ни о каких Эхнатонах с Нефертити, да и вообще о Древнем Египте. (А картинки нравятся всем!). Интеллигенция в КБ, конечно, знает. Есть люди склонные верить в «доисторическую» память Миши Потапова. Большинство же относится скептически, считая, что всё это плод необычной фантазии художника. Но никто над ним не смеется – он пользуется всеобщей симпатией, всеобщим сочувствием. И если Мишенька бредет на остров без обычного ящичка с красками, никто не следует за ним – пусть погрустит и поплачет в одиночестве…
…В Пиндушах, как и во всех лагпунктах был клуб. Как бы ни был плох и захудал самый бедный лесоповальный лагпункт, пусть даже населенный одними «доходягами», уже не способными выработать пайку себе на жизнь, но и в нем обязательно имелся КВЧ (Культурно Воспитательная Часть) и, – хоть крохотный клуб. А как же иначе?.. Или вы забыли, что лагеря – это вовсе не наказание преступника, а его «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»! (Если забыли – прочтите книгу «Беломорканал» под редакцией М. Горького, изд. 1933 г.). А чем же и перевоспитывать, как не приобщением к культуре? Так как же без КВЧ и клуба? За «клубную работу» и начальник лагеря и КВЧ получали премии. Вот почему начальство лагпункта не мешало лагерной интеллигенции «заниматься» клубом, несмотря на любые страшные антисоветские статьи в формулярах, – цена которым была хорошо известна всем НКВДэшникам!
На первый взгляд – парадоксально. Уродливо, извращенное издевательство! Люди с голоду умирают, им бы лишние 200 гр. хлеба, необходимые чтобы выжить, а им – концертик, – песенки под гитару, лихая чечёточка!.. Но это только на первый взгляд.
На самом деле клуб, конечно, никого не «перевоспитывал», но всё же вносил в жизнь лагеря хоть крошечную струйку нормальной жизни, чуточку воздуха, напоминал, что ты, – несмотря ни на что, – еще человек. И это не только для интеллигенции, которая «занималась» клубом, но и для всех зрителей; как для самых безнадежных доходяг, так и для самых отпетых уркаганов, так как какие-то искры человечности сохранялись и у них, хотя «законы» их жизни – были зверски и бесчеловечны…
Итак, в Пиндушах был клуб. Так как лагерь был богатый, это был отдельный большой барак, в котором имелся зрительный зал и весьма приличная сцена. «Клубных волонтёров» и любителей всякого рода сценического искусства было так же достаточно, – благодаря наличию КБ. Ведь инженерно-технический персонал составлял едва ли не треть населения лагпункта.
Воспоминания о Пиндушском клубе и его деятельности тоже связано у меня с Мишенькой Потаповым, каким помню Его в те фантастически далекие времена, когда я встретилась с ним впервые.
В Пиндушеском клубе постоянно устраивались концерты; – среди заключённых нашлись неплохие солисты. Игра одного из талантливых зэков на баяне восполняла отсутствие рояля; были также и гитара, и скрипка, И даже ставились маленькие пьески, типа чеховского «Предложения», если удавалось достать текст, а то и вспомнить по памяти. Зрительный зал, оснащенный деревянными скамьями, был всегда полон, а зрители весьма отзывчивы, включая урок и «отпетых» малолеток, которых всей «колонной» приводили в клуб.
Когда я появилась в Пиндушах, конечно, я примкнула к волонтёрам клуба, тем более, – что к любительской сцене я была причастна ещё до всяких лагерей…
И вот, нам пришла безумная идея – поставить – ни много, ни мало! – «Без вины виноватые»! Островского. Как потом оказалось, идея вовсе не была безумной, и «Без вины виноватые» были поставлены, да еще, с каким успехом! И были повторены ещё три или четыре раза! Я уже упоминала об этой постановке во второй книге моих воспоминаний.
Для ролей, как всегда, не хватало женщин. Кручинину должна была играть я, но Коринкину; как мы ни уговаривали попробовать Раечку Тэн, – она стеснялась и ни за что не соглашалась. Пришлось на роль Коринкиной пригласить нашу дневальную, – бывшую баронессу (настоящую!) довольно-таки преклонного возраста, слегка волочившую одну ногу, но с великолепным «прононсом» и аристократическим «ястребиным профилем». Сыграла Коринкину она весьма неплохо, хотя волновалась ужасно: – Ну как я выгляжу?.. – спрашивала она всех, накладывая грим на свои морщины. – Не стара?.. Правда?!
Мужские роли разошлись отлично – нашелся и Дудукин, и Шмага, а молоденький Коля Ф. (сидевший за гомосексуализм, который в Союзе карался уголовно; – как сейчас, не знаю), оказался очень чутким и трогательным Незнамовым… Не хватало – увы! – Галчихи. Никто не хотел играть Галчиху, да и женщин-то в Пиндушах было – раз, два – и обчёлся. Вопрос о Галчихе оставался открытым. А репетиции уже шли!
Мы не раз звали Мишеньку Потапова прийти к нам в клуб, надеясь отвлечь его от грустных мыслей. Он улыбался, благодарил, но не шёл… Поэтому я очень обрадовалась, когда на одной из репетиций увидела его одинокую фигурку в пустом зрительном зале. И вдруг эта, фигурка, поднялась и спросила тихим и неуверенным голосом: – Может быть, я сумел бы сыграть Галчиху? Может быть, попробовать?
Сначала мы были озадачены. Но… миловидное, похожее на девичье лицо. Высокий, с небольшой хрипотцой голос… А когда под подбородком завязали старушечий платок, из под которого выбивались седые лохмы самодельного парика – все так и ахнули. Грим, который сам себе наложил Мишенька превратил его лицо в старческое… Сыграл он Галчиху, надо сказать, превосходно!
«…Да? Да… Как же. Помню… Гришенька, маленький такой…»
Сцена Кручининой с Галчихой неизменно вызывала бурные аплодисменты, а немногие женщины-зрительницы и малолетки из «колонны» плакали навзрыд. Слезы застилали и мои глаза, что было, конечно, совершенно не по – театральному… Но надо учитывать еще и то, насколько эта чудесная пьеса была близка нашим сердцам в тогдашней нашей ситуации.
На этом кончаются мои лагерные воспоминания о тех давних встречах с удивительным художником – египтологом М. М. Потаповым.
Я не ошиблась. Ответ из Хуста пришел быстро. Взволнованный, как и я, далёкими воспоминаниями Мишенька Потапов (да нет, какой уж теперь «Мишенька» – под шестьдесят, или ЗА шестьдесят – вероятно!), т. е. Михаил Михайлович Потапов приглашает приехать повидаться. Соблазняет красотами Карпат: «…Вы не представляете, до чего здесь красиво! Широкая Тисса, от города отделенная цветущим сейчас душистым лугом. Травы – по пояс! Кусты шиповника, как розовые облака! А на другом берегу – крутые скалы и высокие темные карпатские ели над ними И всё это отражается в воде. Тут, в широкой долине, Тисса течет спокойно…
Приезжайте, скорей приезжайте!»








