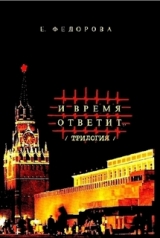
Текст книги "И время ответит…"
Автор книги: Евгения Федорова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
В общем, всё было как на воле, только зарплата не выдавалась, а в бараке дневальная выдавала «пайку» и талоны на завтрак, обед и ужин. Наша «придурковская» пайка была неизменна – 500 грамм чёрного хлеба, а обед состоял из двух блюд – супа и второго (обычно, трески); на завтрак и ужин бывали каши, всегда размазни – пшённая или овсяная.
Конечно, это был голодноватый рацион, в особенности для мужчин. Но в это время посылки можно было получать неограниченно, и мы все их получали. Получали и деньги, хотя их много на руки не давали, но в ларьке всегда можно было купить и сахар, и конфеты, и мыло.
В общем, никто не голодал, и эта сторона жизни особых неприятностей не доставляла.
Для меня же и для таких, как я, кто только что пришёл из тюрьмы и пересылки, после убийственного безделья Бутырок, когда так бешено хотелось деятельности, всё равно какой, лишь бы деятельности! – жизнь в таком лагере, как Пиндуши, казалась чуть ли не верхом счастья, тем «раем», по которому так истосковались там, в тюремных камерах.
И «дело», которое, казалось, на всю жизнь останется самым «главным», всё затмившим в жизни эмоциональной, навсегда занявшим мозг и душу, – и оно – с удивлением начала я замечать, стало бледнеть, стушёвываться, превращаться в какой-то болезненный туман, оседавший постепенно на дно души…
Вечера у нас были свободны до одиннадцати, до «отбоя», и мы могли бродить по лагерю, найти какой-нибудь укромный уголок и разговаривать, сколько душе угодно. Вечера были тёплые и совсем светлые – наступало Карельское лето.
Сначала я могла говорить только о своём «деле». Моя история продолжала мне казаться необыкновенной и всё ещё вызывала изумление у меня самой.
Впрочем, все лагерные знакомства начинались неизбежно с расспросов и рассказов о «деле». И я не только рассказывала, но и выслушивала. Выслушивала истории не менее фантастические, чем моя.
На работе же было приятно погрузиться в совсем другой, деловой мир, совершенно забыть о том, что ты – «зэк», и что вольнонаёмного начальника нужно называть – «гражданином начальником».
Впрочем, довольно скоро и «свободное время» у меня заполнилось делами и интересами, ничего общего с моим «делом» не имеющими.
У нас на лагпункте был клуб, и в клубе своя лагерная самодеятельность. Когда я появилась в Пиндушах, человек 5–6 составляли костяк этой артистической самодеятельности.
Бухгалтер нашего КБ недурно пел баритоном. Дневальная нашего барака, бывшая баронесса с какой-то двойной аристократической фамилией, которую я уже не помню, несмотря на свой преклонный возраст и горбинку в плечах, имела гордый орлиный профиль, а в голосе ее проскакивали кокетливые нотки…
Так как дневальство много времени не занимало, а за «пайку» всегда можно было нанять охотника подтереть за неё полы, баронесса объединяла в своем лице заведующую клубом, режиссера, автора частушек на «злободневные» темы, а также артистку на любую роль.
Был в этой «труппе» совсем молоденький мальчик – художник Мишенька Потапов, египтолог, влюблённый до самозабвения в свою, как он считал, «прародину» – Египет.
Историю его жизни, трагическую и необыкновенную, я узнала спустя много лет, но к этому я вернусь позже, если успею…
Ещё в ней были наши чертёжники – неразлучные Коля и Дима, о которых было известно, что они сидели за гомосексуализм, хотя они нехотя и отрицали это.
У Коли было какое-то театральное прошлое, связанное с Мариинским театром, где он когда-то был статистом, Дима же просто от природы был талантлив и быстро входил в любую роль.
Среди «урок» было немало любителей попеть под гитару и отбить неплохую чечётку.
В общем, был хоть и маленький, но полный энтузиазма артистический коллектив, в который, конечно же, включилась и я…
Урки с завидной лихостью исполняли концертные номера, но репетировать в пьесах им быстро надоедало, они начинали и бросали. И все же мы одолели «Без вины виноватые» Н. Островского – спектакль, который потом сыграл такую значительную роль в моей лагерной судьбе.
Но это было уже осенью, в конце моего пребывания в Пиндушах. А пока что однажды меня вызвал начальник лагпункта и объявил, что меня назначают заведовать ИТРовской столовой!
Для инженерно-технических работников – ИТР – была особая столовая, в отличие от другой – общей. Хотя питание и тут и там было примерно одинаковым, но здесь было почище, и не было мата.
Сначала я наотрез отказалась. Никогда я не занималась никаким хозяйством, ничего в этом не понимаю, и не смыслю.
Начальник посмотрел на меня с подозрением и удивлением:
– В лагере профессий себе не выбирают – сказал он.
– Да, поймите же, товарищ начальник…
– Я вам не товарищ. Можете идти.
Я вышла ошеломлённая, как с допроса. Ночью меня вызвали в третью часть.
– Вы что, от работы отказываться? В КУР захотели? (КУР – колонна усиленного режима). Общий режим не нравится? Или на лесоповальчик располагаете?.
Короче говоря, я стала заведовать столовой. В то время я ещё не предполагала, сколько профессий я освою в лагере!
Обычно, такие хозяйственные должности, да ещё «хлебные», как столовая, ларёк, хлеборезка – раздавались «соцблизким» – бытовикам, сидевшим не по 58-ой статье, а за расхищение, растрату и тому подобное, но все же не прямым воришкам из уголовников.
«Социально близкими» были у нас и «воспитатели»: в лагерях имелись культурно-воспитательные части – КВЧ.
Помню, в Пиндушах мой первый воспитатель сидел за убийство жены из ревности. Был он довольно симпатичный инертный мужчина, ни во что особенно не вмешивался и не стремился нас «воспитывать», предоставляя нам полную свободу в клубно-артистической деятельности. Он вполне довольствовался привилегиями своего начальнического местечка, дававшего ему отдельную кабиночку при КВЧ, которая позволяла ему иметь лагерную «жену», и пользоваться прочими преимуществами лагерного начальства.
Вероятно, в Пиндушах не хватало «соцблизких», а может быть, они проворовывались без конца – в общем, почему-то придумали назначить в «завы» столовой меня.
При столовой была крохотная комнатушка, в которой мне полагалось жить, она же была и кладовой получаемых на день продуктов. Считалось, что я живя там, в кладовке, охраняю от расхищения эти продукты.
В первую же ночь напившийся вдребезги повар – армянин, тоже какой-то «соцблизкий» – ломился ко мне в окно, просовывая сквозь ставни свой мясницкий нож:
– Все равно зарэжу… Жива нэ будэшь… – хрипел он за окном, а я дрожала на железной коечке, запихав под неё подальше самое ценное – куль с солёным мясом…
Впрочем, все обошлось благополучно, и армянин – повар протрезвел к утру, меня не зарезал, и вскоре мы нашли с ним нечто вроде «общего языка», и он оставил меня в покое в обмен на моё невмешательство в его махинации с продуктами.
Я не думаю, что при мне он воровал меньше, чем до меня, но кое-как мы концы с концами сводили и людей кормили. А так как я старательно стирала салфетки и на столы ставила в банках букеты ромашек, собранных на острове, все находили, что я отличная «завша» и вполне справляюсь со своими обязанностями.
Ах, эта комнатка-кладовушка в моей столовой!.. За весь лагерный срок это была моя единственная индивидуальная «кабинка», как называли в лагере такие закутки.
В то время я ещё не была способна оценить это наивысшее в лагере счастье – иметь свой собственный угол. Я ещё не знала и не понимала, что такое лагерь. А после, мне уже никогда не довелось обладать таким углом.
Правда, много лет спустя, когда я жила и работала в больнице Усоль-Лага, мы с моей дорогой подругой Катей Оболенской устроили себе кабинку на чердаке терапевтического корпуса, но нас очень скоро оттуда «вытурили», не дав насладиться и отдохнуть от общего барака…
…Иногда на верфи бывали настоящие праздники, которые и мы искренне воспринимали как «праздник». Это было, когда спускали на воду лихтера или другие суда, построенные на верфи. Правда, мы не разбивали бутылки шампанского вслед соскальзывающему в воду судну, но всё равно, всё происходило очень торжественно.
Всё население лагеря высыпало на берег, приезжало обычно из Медвежки какое-нибудь начальство, и бывала даже музыка – самодеятельный оркестр из нескольких музыкантов.
Распорядитель спуска отдавал команду: – Руби ряжи!
И жёлтая, сверкающая новизной и солнечным блеском, огромная деревянная посудина начинала боком тихонько скользить со стапелей. Потом скорей, скорей по смазанным жиром слегам, и вот лихтер ухает в воду, подняв крыло искрящихся брызг.
– Урра! – гремит на берегу – все радостно взволнованы, все горды – ведь это наше судно! Наше! (…Я вычерчивала его шпангоуты!.. А я рассчитывал его осадку!.. А я строгал килевую балку!..)
Как будто мы не были кучкой несчастных людей, незнамо – неведомо почему, по каким законам, оторванных от своих близких, от своих других дел, которые мы и знали, и умели, и любили, и делали «там», на воле?!
Нет, об этом не думалось в ту минуту, когда красавец-лихтер – плод нашего «здешнего» труда – плавно покачивался в поднятой им же самим волне…
Но однажды судьба решила напомнить нам, кто мы такие со своей «производственной» гордостью.
Был вот такой торжественный спуск лихтера. Было синее небо и солнце. Было начальство и музыка, и оркестр заиграл туш, когда лихтер, плавно скользящий по косым слегам, – вдруг – стал на полдороге. Стал – и всё тут!
Может быть, смазочное масло оказалось плохим; может быть, что-нибудь недорассчитали. Одним словом, лихтер стал и не двигался.
Нестройно, не в лад замолк смущённый оркестр. Забегало наше лагерное начальство, забегали инженеры КБ.
На главного инженера (судостроителя с «именем») жалко было смотреть. Он краснел и бледнел, руки у него тряслись, как вероятно, тряслись бы на допросе.
Ведь тут были «сами» из Медвежки, из Управления!
…Пронеси, господи, что-то будет?!.
Господь не пронёс. Пробовали двинуть лихтер «плечом», но посудина сидела прочно и не двигалась.
Заново смазали слеги – никакого эффекта. Тогда подвезли толстенные тросы, закрепили начали тянуть – ничего.
Высокое начальство, недовольно пожевав губами, уселось в машины и уехало в Медвежку. Наше начальство почувствовало себя вольготней, и яростно оскорбляя наших родительниц, понукало нас к действию.
Тросы перекинули на островок (лихтер спускали в протоку между берегом и островком), завели за сосну и стали тянуть. Сосна жалобно крякнула и нехотя стала выворачиваться из земли…
Солнце зашло, и яркая северная заря окрасила залив и лихтер в розовые тона.
Даже и без понуканий и окриков начальства никто не думал расходиться. Каждый что-то советовал, ждал, тащил тросы.
Наконец, на островке соорудили первобытный ворот, и на его рогатки налегло сразу человек по пять. Ворот заскрипел, трос натянулся. Казалось, вот-вот дрогнет и тронется судно.
– Ещё-о-о-о!.. Взяли!.. Вместе!..
Люди грудью навалились на рогатки:
– Ещё-о-о-о!.. Взяли!..
З-з-з-з-з-ыг! – свистнуло в воздухе, и лопнувший трос серебряной змеёй прыгнул в небо, а затем захлестнул вокруг ворота…
Двоих убило на месте. Нескольким поломало ноги и руки…
Пострадавших увезли в лазарет. Работы по спуску лихтера продолжались. Завели новые тросы, поставили новых людей. В конце концов, лихтер стащили.
Погибших сактировали, и скоро о происшествии перестали и вспоминать. Такие случаи в лагерях случались нередко, и это никого особенно не волновало.
…Когда были готовы наши гидрографические суда – их было четыре, совершенно одинаковых – к нам прибыл сдаточный капитан. Он ходил в белоснежном кителе и с белоснежным чехлом на морской фуражке. Длинное лицо его было аристократично, а пальцы рук – тонкие и холёные. Ботинки всегда блестели, как зеркало.
– Вольнонаёмный?.. Заключённый? – всполошились наши девушки.
Капитан оказался заключённым и поселился в ИТР-овском бараке. Он должен был испытывать на ходу и сдавать гидрографические суда.
Это был бывший капитан первого ранга военно-морского флота, внук контрадмирала из потомственной морской семьи.
– Мы, гардемарины, – говорил он слегка грассируя, но в меру, чуть заметно – обожали государыню-императрицу. Это было традицией на флоте…
Вскоре Евгений Андреевич – так звали капитана – начал искать встреч со мной. И когда мы вечерами бродили по берегу Онежского озера, он много и интересно рассказывал о жизни военного флота, – царского и советского.
– Я никогда не занимался политикой, дорогая моя, – говорил он – но ведь мы присягали Государю-Императору… А присяга – обязывает!..
Советских морских специалистов ещё почти не было; он же, будучи командиром высокого класса, любил матросов, был всегда справедлив к ним, и матросы его тоже любили. Вот почему он удержался и остался капитаном и при Советской власти.
Море он любил до страсти. – Эта любовь, – говорил он – впиталась в меня с молоком матери…
Он не понимал, за что его «взяли», что он «им» сделал?
– Политика – это не моя сфера, дорогая!..
В лагере до сих пор он жил неплохо. Из дома получал великолепные посылки, на общих работах никогда не был.
Дома у него остались старики-родители и жена, перед которой он преклонялся и называл ее «моя маленькая маркиза»…
Он курил какие-то особые длинные и тонкие душистые сигареты, тоже из посылок, конечно, изящно доставая их кончиками пальцев с отполированными ногтями из золотого портсигара, на котором были выгравированы все ноты октавы, кроме «ми».
Это, как он говорил, был «шикарный морской ребус, солёный, как само море»… Но далее не объяснял.
После всего, что со мной случилось, после того невероятного разъединения с человеком, который был мне дорог и близок, после странных маминых слов там, в Бутырках, с ещё неясными страхами и смутными, гонимыми из души подозрениями, мне казалось, что сердце моё – как сплошная кровавая рана, до которой как ни дотронься – больно. И я старалась не дотрагиваться… Захлопнула дверь в эту странную, смутную, зыбкую неясность. Не думала и не вспоминала…
И вот, вдруг я заметила, что Евгений Андреевич мне нравится… Что я жду этих тихих вечеров с полуночными зорями… Что сердце бьется быстрее, когда он входит в столовую – элегантный, сверкающий – и издали поднимает руку в знак приветствия мне…
– Сегодня я ухожу в залив, дорогая… Слушайте мой прощальный привет – три длинных и один короткий… Специально для Вас… И когда из-за острова, из лона голубого марева доносились низкие басовитые гудки – три длинных и один короткий – они невольно ласкали мой слух и заставляли вздрагивать сердце…
Оказывается, оно не было такой уж сплошной кровавой раной, моё сердце…
А когда он возвращался, гудки звучали особенно громко и радостно – они приветствовали меня…
И всё же, когда в уединённом уголке острова он взял меня за руки и, глядя затуманенным взглядом, чуть притянул к себе и едва слышно произнёс: – Ну же, не терзай меня до бесконечности, дорогая… Ты же видишь, что ты со мной делаешь… Я оттолкнула его в ужасе.
– Как здесь?.. В лагере?.. Вот так, прямо в кустах?.. Боже мой, что вы выдумываете…
Он на секунду прикрыл глаза и открыл их снова… Тихо, очень грустно, но совсем спокойно, он сказал: – Дорогая, но ведь это же наша жизнь теперь...
Да, тогда я не хотела понимать ещё, что это не «эпизод» – это моя жизнь теперь.
Так и не был перейдён рубикон. Так и остались эти светлые вечера с рассказами о море, о далёких плаваниях, о традициях гардемаринов, и стихи о влюблённой королеве, которая где-то далеко у моря «в башне замка играла Шопена»…
От него в первый раз я услышала Гумилёвских «капитанов» и запомнила их на всю жизнь:
…На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Средь базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…
Ах, капитан, капитан!.. Если бы знать, что это лето – последнее, когда вы носите свой белоснежный китель и ослепительную фуражку, когда ваша элегантная рука касается кольца тифона и вы бросаете небрежно-властным тоном: «Самый малый вперёд» – что это последние трапы, по которым взбираются ваши безукоризненно начищенные ботинки. Ах, если бы…
Я встретилась с Евгением Андреевичем ещё раз, вернее, я встретилась с тенью его, даже не узнав в первое мгновение. Встретилась на «водоразделе» ровно через год, в 1937-м, перед самой его смертью.
В этот раз он был без кителя, без капитанской фуражки, в коротких не по росту лагерных опорках, в безобразных бутсах на одну ногу (в лагере их называли «шанхаями») – такие уж ему достались в каптёрке… В тот момент я не могла приблизиться к нему, чтобы спросить что с ним, потому что его вели под конвоем в лазарет, и это был уже 37-й!..
Сердце у меня болезненно сжалось от страха за него и от нахлынувших воспоминаний о недавнем прошлом…
Но надо было стараться жить дальше…
Позже мы опять оказались с ним в общей компании, пока его не отправили в госпиталь в другой лагпункт, где он и умер…
…Коля и Дима были «возлюбленная пара», как «поэтически» выражались наши урки. Они действительно были «парой», и что самое удивительное, этой «парой» они были и на воле, там, в Ленинграде, где их арестовали и осудили за гомосексуализм. Осудили и… отправили в один и тот же лагерь!..
Коля получил 5 лет, как «совратитель», а Дима – только три, как «жертва»… Я попала в Пиндуши в момент для Коли самый трагический, в кульминационный момент трагедии.
Димин срок кончался, и он уезжал, но для Коли это была действительно трагедия – он Диму любил, обожал, боготворил.
Редко даже на долю женщины выпадает такая полная, беззаветная, рабская, готовая на любой подвиг, на любое унижение – любовь… А ведь если и выпадает, то её обычно не ценят, а часто и тяготятся ею…
Для Димы Коля готов был воровать (и воровал, за что не раз бывал избит!), готов был исполнить любое его желание, любую прихоть, часто глупую, издевательского характера, пускался на любые авантюры, лишь бы достать для своего «божества» какую-нибудь вещь или лакомство. Он готов был целовать его ботинки, и всё время с выражением вины и обожания ловил его взгляд.
Не знаю, продолжались ли их сексуальные отношения в лагере… Дима, во всяком случае, говорил, что их нет, да скорее всего и не было, но не мог устоять, чтобы не похвастаться своей «властью» над Колей. Он третировал его постоянно, зло высмеивая, требуя вещей самых невероятных и несуразных, и принимал раболепное преклонение, как должное…
Когда Дима наконец уехал, Коля несколько дней, небритый и немытый, неподвижно сидел в углу барака, не выходил на работу и чуть не угодил в КУР. Мы, как могли, покрывали его отсутствие в чертёжной.
…Но время лечит. Постепенно он снова втянулся в однообразную лагерную жизнь. Помню, как получив первое и единственное письмо от Димы, он смеялся от радости, сиял, весь исходил лучами счастья…
Во всём остальном, кроме этой «роковой» любви к Диме, он был вполне нормальным человеком – хорошим чертёжником и художником – оформителем интерьеров наших гидрографических судов, любил поэзию, был неплохим чтецом и актёром. Коля в роли Незнамова трогал меня больше, чем Незнамовы, которых мне случалось видеть на сценах профессиональных театров… Был он хорошим и честным товарищем, если только не ущемлялись интересы его обожаемого Димы.
Итак, после долгих репетиций, в конце концов, нам удалось поставить, почти по-настоящему, знаменитую пьесу Островского «Без вины виноватые».
Спектакль наш произвёл сенсацию. Мы повторяли его несколько раз, и каждый раз он проходил с неизменным успехом. Кроме наших стараний, надо ещё учитывать тему, такую трагично – близкую нам в наших условиях – ведь у многих из нас остались где-то «там» малыши, которые протягивали к нам ручонки и лепетали – «Мама!.. Мама!.».
Неизменные рыдания сопровождали знаменитый монолог Кручининой, и сама я, игравшая Кручинину – всегда кончала настоящими, не театральными слезами…
Вероятно, «сценически» это было не очень-то профессионально, но чувство до зрителя доносило.
Коля играл Незнамова. Старая баронесса, хотя и ходила чуточку сгорбясь и скособочившись, как-то плечом вперёд, играла кокетливую Коринкину.
Она всякий раз безумно волновалась, по два часа накладывала грим, и без конца спрашивала:
– Ну как, я не выгляжу старой?.
Более молодой Коринкиной мы просто не смогли найти.
…Зато у нас был великолепный Дудукин – истинный аристократ, снисходительный меценат и тонкий ценитель истинного искусства (к сожалению, не помню имени актёра).
Шмага, да и все остальные, к сожалению, оставались незначительными и бледными. Однако, в целом, спектакль производил впечатление…
О спектакле прослышали в Медвежке, где помещалось Управление группы северных лагерей, и был известный «крепостной» театр, где играли профессиональные актёры, так или иначе попавшие в заключение, и из этого Медвежьегорского театра к нам командировали режиссёра на просмотр.
В результате, на двоих из «труппы» – на меня и на «Дудукина» пришли «наряды» – нас забирали в театр!
Сначала это были неясные слухи – лагерная «параша», затем достоверные заверения нашего нарядчика из учётно-распределительной части, и наконец, – о Боже!! – реальность, живая реальность!
Нам завидовал весь лагпункт. Ещё бы, Медвежка! – Центр! Столица. Между Пиндушами и Медвежкой была разница не меньшая, чем скажем, между какими-нибудь Спас-Клепиками и Москвой.
А самое главное – театр… Театр, о котором в Пиндушах ходили невероятные, фантастические рассказы. Профессиональный театр, который ставил «Платона Кречета» и «Славу», пьесы Арбузова и «Шкварки», на сцене которого шли Островский и Шиллер. Театр, который ставил не только драму, но и оперу: – «Евгений Онегин», «Кармен», «Пиковая дама» – входили в его репертуар.
И я еду работать в этот театр!.. Голова шла кругом, такого счастья я не испытывала, наверное, за всю свою двадцативосьмилетнюю жизнь на воле…
Ну, вот! А ещё лагерями пугали! Может быть, тут, в лагере, суждено мне найти свою судьбу. То, что не удалось в жизни, о чём мечталось, как о самом высоком счастье, то, что было нелепо упущено в жизни из-за выпавших на самое трудное время юношеских лет – театральная карьера, театральная работа, театр – любовь моя! – вот оно, само идёт мне в руки, и где?! В лагере!..
И видно, не такой уж меня страшной контрреволюционеркой и преступницей считают, если забирают в лагерную столицу, где, как рассказывают, жизнь и вовсе вольготная!
А там, конечно, не за горами и пересмотр моего дела, и нелепые, чудовищные обвинения отпадут, как шелуха, и я буду опять – я. Но театра уже не брошу никогда в жизни…
А Лубянка, Бутырки, Военный Трибунал на Арбате… Всё это останется далеким призрачным кошмаром, случайным эпизодом, о котором когда-нибудь я буду рассказывать своим внукам…
Так размечталась я, собираясь ехать работать в театр. В настоящий, профессиональный театр!.
Я раздарила свои ненужные мне теперь вещи, которыми заботливо снабдила меня в этап мама: лыжный костюм из «чёртовой кожи» – на случай работы на лесоповале, – так ни разу мной и не использованный, я подарила Раечке Тэн – у нее не было ничего тёплого, мало ли куда могла забросить ееё судьба? Кожаное пальто – зачем оно мне в городе? – я оставила чертёжнику Борьке. Старой баронессе я подарила свои тёплые шерстяные чулки и меховые рукавицы…
К чему мне всё это теперь? Я еду в Медвежку для работы в театре – ведь это почти что «на волю»! Я прощаюсь с лагерем навсегда!
Прощайте, мои малолетки, почитатели «Руслана!». Прощай, моя столовая! В последний раз я украшаю тебя букетами из осенних листьев… Прощайте, Евгений Андреевич! А может быть, только до свидания?. Быть может, мы ещё увидимся в Медвежке? Ведь Вы бываете в Управлении по Вашим капитанским делам?.. Ведь Вы зайдете к нам в театр? До свидания!..








