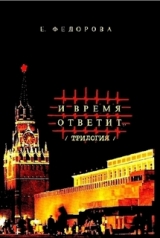
Текст книги "И время ответит…"
Автор книги: Евгения Федорова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
…К вечеру нас все же в тюрьму впустили и, конечно, в баню. Только она была уже холодная к нашему огорчению, и вода чуть тепленькая. Ужина и пайки нам так и не дали. Как объяснил нам корпусной, мы еще не значились в списочном составе тюрьмы, и паек на нас выписан не был. Но это нас уже особенно и не огорчило – есть как-то перехотелось, и мы жаждали одного – растянуться на сухих досках, пусть без подушки и матраса – в пересылках не положено, – только растянуться на подсушенной в вошебойке одежде и заснуть благодатным мертвым сном без сновидений.
Здесь – в Красноярской пересылке – нам предстояло ждать, пока вскроется Енисей, пойдут пароходы, и нас отправят куда-то далеко на север, осваивать сибирскую тайгу.
…Благословенная Красноярская пересылка! Не идущая ни в какое сравнение ни с одной другой. В ней мы здорово отдохнули и пришли в себя. Мы провели там почти два месяца…
Что и говорить, жилось нам там относительно неплохо. Во-первых, мы не голодали. Мы получали свою «этапную» полновесную четырехсотграммовую пайку. Это достаточный фундамент для существования, особенно, когда можно ничего не делать и день-деньской валяться на нарах. В Красноярской пересылке это не возбранялось. Если же нас и выводили на работу – это было просто приятным развлечением. Нас вели в овощехранилище, где предстояло делать несложную и давно знакомую работу – выбирать гниющую картошку, которую отправят на кухню для лагерников. Хорошую надо оставлять на месте до тех времен, когда она, в свою очередь, не начнет гнить, и когда её снова начнут перебирать. Таков цикл хранения картошки во всех лагерных овощехранилищах, где только мне ни пришлось побывать. Конечно, часть хорошей картошки идет на кухню начальства и ВОХРовцев, но не всю же они её поедают? Но на долю «зе-ка» всегда остается только гнилье.
Переборка картошки – «блатная работёнка», и попасть на неё далеко не всегда можно. Работа неутомительная, всегда можно пристроиться своей компанией, поболтать, помечтать. Это не пни корчевать. Хоть и сыровато, и гнилью тянет, но ведь ко всему можно притерпеться и не обращать внимания. В Красноярской же пересылке это был просто «рай». Если «ВОХРовцы» попадались симпатичные, еще не окончательно озверевшие на своей идиотской работе и понимающие, что с берегов Енисея не побежишь, так что особо охранять нечего, они разрешали развести небольшой костёрик у входа в овощехранилище и напечь картошки на всю компанию, включая и их самих. В общем – «житуха!», как выражались урки.
Не плохо было и в камере. Огромная камера, с широкими сплошными нарами, но всего в один невысокий этаж, почти пуста. Уркачек немного, и всех их быстро забирают, рассовывая по Красноярским лагпунктам. Они же не ссыльные, а просто этапники, «зе-ка». И держатся они отдельной кучкой, к нам, – «фашистам» не лезут. Взять у нас нечего. Если они идут на картошку, то вовсе не для того, чтобы её перебирать. Полеживают себе на крыше овощехранилища, нежась на весеннем солнышке, изредка лениво перебрасываясь похабными шутками с конвоирами. Те с крыши их не гонят – никаких «норм» с пересыльных не спрашивают. Это мы по, привычке и по глупости, ковыряемся понемножку в затхлом овощехранилище… Они и костёрчик себе отдельный сооружают. И в камере лежат на отшибе, но ведут себя относительно прилично.
В камере тихо и просторно – такая благодать! Окна большие, и никаких щитов; солнце так и хлещет в камеру, только пока – увы, еще не греет. В камере прохладно, это единственное неудобство. Ночью мы, три подруги – я, Бетти Глен и Маруся Ненайшвили – тесно жмемся друг к другу, натягивая на себя ледащие стиранные-перестиранные одеялишки. Зато воздуха, чистого воздуха – сколько хочешь, дыши – не надышишься!..
А сколько рассказов!.. Чего только не нашептано в уши этими, долгими красноярскими ночами…
Маруся Ненайшвили!.. До чего же хороша! Красавица грузинская. Глаза – газельи. Профиль – точеный. Кожа – бело-матовая, замшевая… И ни одной морщиночки – всё еще пронзительно молода, хотя ей, как и мне уже за сорок, и десятки этапов за спиной… Красавица. Кто она?.. Княжна грузинская?.. Нет, оказалось совсем наоборот, она – из семьи потомственных грузинских революционеров…
Шшшш… Тише!.. сподвижники самого «Кобы»!
…Одно из детских воспоминаний Маруси Ненайшвили: Семья убегает от белых в каком-то правительственном поезде, но всё же только в товарном вагоне, в теплушке. Маруся, уже большая девочка, раскапризничалась:
«– Мне не мягко, – хныкала она, – мне не мягко!»
И мать, выведенная из терпения, вся охваченная страхом – что будет дальше? – первый раз в жизни отшлёпала строптивую дочку прямо по «мягким частям», хотя дочка давно переросла возраст, когда детей шлёпают.
«– Ах, тебе не мягко!! – приговаривала мать. – Не мягко!.. Не мягко!»… – Так и осталось в семье предание об этом Марусином «не мягко!» в теплушке поезда, обстреливаемого белогвардейцами… «Не мягко?!»
Сейчас, на наших нарах, тоже не было особенно «мягко», но мы привыкли и не жаловались.
…Грузинская красавица – Маруся Ненайшвили – околдовала тогда еще совсем молоденького секретаря ЦК комсомола – Сашу Косарева – и вскоре стала его женой.
Боже, какие балы задавались в Кремле!.. Какие костюмы!!.. И сам Сталин усмехался в усы, любуясь Марусей Косаревой… И все умирали от зависти!
– Деньги?.. Нет, мы не знали, что такое деньги. Вряд ли я когда-нибудь даже держала их в руках… В магазины, даже свои распределители, никогда не ходила. Не знаю, может быть, мама и ходила, но я не ходила… Портнихи приезжали на дом. Ну, а всё остальное покупалось там, – в командировках… В Париже… В Вене…
– Нет, денег и там не платили, всё записывалось на какие-то счета… Да об этом и не думал никто из нашего круга…
Ну, а потом пошло всё своей, давно уже ставшей известной дорогой. Приближался «тридцать седьмой»…
Первой ласточкой стало какое-то торжество в Кремле. То ли чьё-то тезоименитство – уж не «САМОГО» ли, даже?.. За ужином я сидела рядом с Сашей. Он, как и все, пошел чокаться с «НИМ». Такова была традиция. Подходить, чокаться и получать поцелуй… Саша пришел на своё место с лицом совершенно серым… За весь вечер я не могла добиться от него ни одного слова. Только поздно ночью, в спальне я узнала, что «ОН» сказал на ухо Саше вместо поцелуя: «Изменишь, – убью!.». И Саша понял, что он – уже убит…
Марусе повезло. Её вместе с братом и другими родственниками «изменника Родины» закатали в Норильск, который тогда только-только начал отстраиваться. Её брат, к счастью, был инженер-строитель, и мало-помалу семья устроилась неплохо. Жили в одном из управленческих домов, в «управленческой зоне». Питались в ИТРовской столовой вместе с вольными начальниками; обеды были вполне приличные – рыбы, мяса было вволю. Никаких «паек» не выдавали – хлеб черный и белый горками лежал на подносах. Самолеты летали исправно и доставляли апельсины и бананы на третье… По вечерам ходили в клуб, выстроенный «в ударном порядке» чуть ли не раньше домов для вольнонаемных служащих, начальников из НКВД и специалистов, необходимых для строительства. В эту «управленческую зону» по блату, и по необходимости попадали и специалисты – «зе-ка».
Клуб по габаритам не уступал хорошему провинциальному театру, а по оборудованию, отделке и убранству – намного превосходил. Там не только «крутили» кино, но шли там и спектакли, поставленные профессиональными режиссерами с профессиональными актёрами, – вольнонаемными и заключенными вперемешку. Там же, иногда, задавались и балы по соответствующему случаю…
«– Конечно, добираться до клуба было нелегко. Такие бураны, – вообразить невозможно! Тьма-тьмущая, ветер с ног валит. Изо всех сил надо держаться за протянутый вдоль дороги канат. Упустишь – беда!..
– Зато… Ах, девочки, зато – какие люди! – рассказывала Маруся. – Образованные, культурные, интеллигентные!.. Строители, инженеры, геологи, художники, музыканты…
– Романы? – Ну что за вопрос! Конечно же и романы, хотя женщин было очень мало (сколько трагических историй!)… „Жемчужиной Кавказа“ меня прозвали… Ведь я была тогда в расцвете молодости!»
– Не скромничай, ты и сейчас в форме, – вставляла Бетти, и это было правдой.
«…Строительные работы велись зимой под яркими лучами прожекторов, и снег вокруг искрился бриллиантами… И это было очень красиво». Впрочем стройку Маруся видела только издали, а в рабочей зоне и вообще никогда не бывала. Там, где в наскоро сколоченных бараках, а бывало и в землянках, заваленных снегом, если бараки не вмещали пришедший разом большой этап, размещались на первое время работяги. Об этом Маруся только слышала, и то немного.
О «производственных» делах брат рассказывал мало и неохотно. Да и Маруся не слишком интересовалась. Была она способной, – быстро освоила пишущую машинку и работала секретаршей в каком-то отделе; работой перегружена не была, и теперь гораздо больше вспоминала о своих романах, чем о работе…
Время летело и летело, в общем довольно незаметно. Норильск рос и хорошел, и первые никелевые рудники вокруг него начали вступать в строй. Норильск становился «звездой ГУЛАГа», хотя в прессе продолжал скромно именоваться «Комсомольско-молодёжной стройкой». Норильск показывали иностранцам – город, конечно, а не «рабочие зоны».
…Когда, отсидевшие свою «десятку», ветераны «тридцать седьмого» в 47-м году начали освобождаться, брат уговаривал Марусю не покидать Норильск. Освободившись в должности главного архитектора – строителя города, он имел не только квартиру – люкс и всё прочее, но и любого родственника мог устроить на любое место. Снабжение было отличное. Почти вся интеллигенция оставалась.
– Нет, нет и нет!.. Замолчи!.. Всем сердцем, всей душой – только в Грузию… В ГРУЗИЮ!.. И мать завещала – или ты забыл??!
…Теперь, в 49-м Маруся возвращалась… в Красноярск?? А вдруг?..
– Господи… сделай, чтобы это был Норильск! Смилуйся, Господи!
И Господь смилостивился. Однажды дверь в камеру отворилась и вошел начальник пересылки: – В Норильск отправляется самолет. Троих желающих могу отправить.
– Боже мой, Норильск! Тотчас же к Марусе присоединилась Бетти Глен, и подбежали три-четыре женщины не из нашей компании: «И я!» «И я!»
До чего же мне хотелось с ними!.. Смертельно!.. Как я не крикнула «И я!» – Всё во мне остановилось, застыло… Но всё-таки я не крикнула. Я не могла. Ведь маму в Норильск не привезешь! Оставить же – негде и не с кем. С неё и так уже довольно мук! Слава Богу, я промолчала.
…Несколько слов о Бетти Глен. В Москве она была… директором парка им. Горького. Вхожая в Кремль. Резковатая, энергичная, «здравомыслящая».
«САМ» бывал на закрытых «вечеринках» в спецзалах парка. Чего только специально для «НЕГО» не устраивали! Какие вакханалии…
Теперь Бетти поражало другое, чего она объяснить не могла даже самой себе: – откуда рядом с преклонением, ЛЮБОВЬЮ (беспредельной!) – этот УЖАС??
Однажды, рассказала Бетти: – Была спец-вечеринка, ждали «ЕГО». Бетти сидела за столиком, лицом к двери. Она увидела входящего Сталина. Её собеседник сидел спиной к двери!.. Но по застрявшему в горле Бетти слову, по лицу её, он понял: – «Входит»… «Вошел!»… Лицо его побелело, и вилка со звоном упала на тарелку… В зале мгновенно наступила мертвая тишина…
– Что же это?.. Колдовство? Наваждение? – А ведь мы готовы были жизнь за него отдать!..
…Итак они – Бетти и Маруся – улетели в Норильск. В камере стало пусто и неуютно… Каждый день мы спрашивали конвоиров: – Ну, как Енисей? Не тронулся?
И наконец, он тронулся.
А ещё через неделю нас вывели на тюремный двор и построили «по-четыре». Впрочем, «нас» – женщин оказалось всего три, – остальные – мужчины.
Откуда-то принесли наши мешки и тощие сундучки. Тут же начался «шмон», – как будто мы могли что-то запрятать в мешки, находившиеся в каких-то кладовках или каптёрках!
Потом, правда «слегка», для проформы, обыскали нас самих, и конечно, отобрали тюремные миски и ложки, которые мы прихватили из камеры, хотя и сами понимали, что в этом этапе они нам вряд ли понадобятся.
Несколько раз нас пересчитали – по головам, по формулярам, и, наконец, повели на пароход. Этап наш был совсем маленький – всего сорок человек.
Итак, мы плывём по Енисею на север…
Мы миновали Казачинские пороги, где вода бешенными бурунами неслась мимо камней и рассылалась фонтанами брызг, наскочив на скалу, а пароходик наш тянули канатами. Проплыли Енисейск. Миновали Маклаково с его грандиозной лесобиржей. А мы плывем, да плывем. Мы держимся у левого высокого обрывистого берега. Правый, вдали, за серебристой гладью реки, отступает всё дальше и дальше, чуть намечаясь еще только начинающей зеленеть тайгой. Енисей разливается всё шире и шире…
Слава Богу, солнышко пригревает, и с палубы не гонят. До чего же приятно!
Куда нас везут, и где мы пристанем? Возможно, наши «конвоиры» – молодые парнишки – и сами не знают. Обходятся они с нами дружелюбно, но на вопрос – «куда?» – только пожимают плечами. Не их это дело, а начальства… Но, наконец, на утро третьего, такого же солнечного дня, мы пристали к высокому обрывистому берегу. Здесь, внизу под обрывом была устроена маленькая пристань. Вверху, вдоль обрыва, по самой кромке его тянулась деревня. Избы стояли впритык одна к другой, с высокими, но довольно пологими крышами. Бревенчатые стены тепло озолотились поднимающимся из-за тайги солнцем.
Но вот странность, – ни одного окна в этих стенах не было видно. Мы недоумевали. Но потом всё разъяснилось. На Енисей выходили только задние стены каждого крестьянского двора, крытого под одну крышу с избой-жильём. Фасад же изб с окнами в резных наличниках, с высокими «навесными» крыльцами, выходил в противоположную сторону – на широкую деревенскую улицу.
Нас высадили из пароходика, построили, как обычно, «по четыре», и под конвоем повели по этой улице, не совсем просохшей еще от весенней распутицы. Нас привели во двор местной милиции. И тут наши конвоиры с нами распростились: – Обождите тут, – сказали они и пошли в милицию сдать наши формуляры.
Во дворе были сложены какие-то брёвна и доски, на них мы и расположились. В помещение вызывали по одному.
Какой-то милицейский «чин» выдавал бумажку размером в четвертинку машинописного листа, расчерченную на четыре клетки, и объяснял: – Каждые две недели должны являться на регистрацию, – и в первой клетке бумажки ставил большую жирную печать. – Понятно? Больше, чем на 3 километра, от деревни не удаляться, понятно?
– А деньги? – спрашивали мы.
– Какие деньги?
– Ну, на жизнь?
– Насчет денег никаких распоряжений не имею.
– А у меня свои, заработанные в тюрьме, есть, на счету?
– Те ещё не пришли. Придут – получите. (Я свою десятку получила через полгода!)
– А где же жить?
– Это не в нашей компетенции. Сельсовет позаботиться.
– Но сейчас, – куда же нам идти??
– Это дело не наше. Можете посидеть во дворе, мы не гоним.
Озадаченные и голодные (дорожные пайки были давно съедены) мы сидим на бревнышках. К счастью, небо не хмурилось, и солнце, поднимаясь повыше, начало пригревать.
Напрасно мы старались гадать, – что же дальше?..
Еще начиная с Пермской тюрьмы, мы наслушались всяческих «прогнозов» о ссылке, трудоустройстве и ссыльной жизни:
– На первое время дают ссуду – горячо уверяли одни, – до тысячи рублей, да, да!
– А квартиры приехавшим – в первую очередь! – Подхватывали другие. Но вот, пока что, на это было не похоже.
К счастью, «дальше» не заставило себя долго ждать. Во дворе милиции открылся… «невольничий рынок».
– Здорово ребята! Сапожники есть? – Спросил первый «покупатель».
– Есть, есть! – тут же откликнулись двое.
– Ну, айда-те со мной! – и он увел двух счастливчиков.
Вторым забрали портного, Аркадия Аркадиевича Кравцова.
Чудный был человек, – еще в дороге мы сдружились. Он первый вернулся на наш «невольничий рынок» и притащил буханку черного хлеба!
Третья была я: – Есть ли кто-нибудь из медработников?
– Вот я, медсестра!.. Врачей не оказалось ни одного, но и медсестру (настоящую, с дипломом!) тоже забрали с радостью.
Сейчас же в бухгалтерии больницы мне выписали аванс и я тут же побежала в Сельпо за хлебом. Прихватила и махорки – мужчины наши мучились без курева.
«Купили» ещё двух бухгалтеров и одного «канцеляриста» на почту. На этом торги кончились. Больше «специалистов» не требовалось. Потом пришел председатель колхоза и сказал, что всех остальных забирает в колхоз. Так в «колхозниках» оказались два юриста, два педагога и поляк – журналист.
Завтра им выделят хату на первое время, а сегодня – переночуете в школе. Занятия к тому времени кончились и школа была свободна…
Так и началась наша ссыльная жизнь на берегу Енисея в деревне Ярцево, неподалёку от Туруханска, где когда-то ссыльный Иосиф Джугашвилли, он же – «Коба» обдумывал свои зловещие планы отмщения неблагодарной России.
Глава IVНа берегах Енисея
Сгорели в памяти дотла Костры сибирской лесосеки.
Но в тайниках её навеки Осталась тёплая зола.
А. Жигулин
На этапе мы ждали, что нас привезут в какую-то глухомань, необжитую, или заброшенную деревню в тайге… Но оказалось совсем не так. Деревня, избы которой вытянулись длинной цепочкой над самым обрывом высокого левого берега Енисея, была большая, благоустроенная и зажиточная. Как оказалось, это был даже «райцентр». С колхозом, конечно.
В деревне была и школа, и больница, (правда маленькая, но всё же настоящая больница), почта и «Сельпо» – лавочка, где всегда был хлеб, махорка, а иногда и чай, и сахар, и даже «подушечки» – ребячье угощение. Были даже пошивочная и сапожная мастерские, правда, «при колхозе».
Все колхозники имели свои собственные избы – большие и ладные пятистенки с двором, крытым под одну кровлю, где размещались и хлев со своей буренкой (а то и двумя), свинарник, курятник, овечий закут, сарай для всяких хозяйственных нужд и инвентаря, с обширным сеновалом на чердаке. Таким обширным дворам не страшны ни пурга, ни бураны, ни пятидесятиградусные морозы.
На колхоз селяне смотрели, как на неизбежное зло: – То ли господское имение, то ли государственное, на котором – хочешь – не – хочешь – надо отработать. То ли за гроши, то ли за трудодни… Но, что поделаешь? – Таков уж крестьянский удел в России.
Но, так как здешний колхоз их особо не притеснял, «своего» хозяйства не трогал и не отбирал, то мужики с колхозом ладили, свои трудодни отрабатывали, и даже кое-что на них получали. Колхоз не был богатым, но справлялся.
Это был небольшой молокообрабатывающий колхоз; он имел свою ферму с сыроварней, которую колхозники почитали «заводом».
А кругом были луга, которые только коси да коси, не ленись, – хватит сенушка и для колхоза, и для своих бурёнок; а рядом – река, богатая рыбой, одни сомы килограммов на десять – чего стоят! Знай, добывай, вари, соли… На лугах и в тайге ягод – черники, морошки, малины – полно! Жить можно.
И колхозники жили, по советским масштабам, – совсем неплохо. Даже слишком зажиточно, и по понятию столичных руководителей, вероятно, их давно бы следовало раскулачить опять. К счастью, столицы были далеко, а местное руководство (областное в Енисейске) смотрело сквозь пальцы, лишь бы колхоз сдавал «положенное». Тем более, что и эти руководители не слишком часто наезжали в район за 500 с лишним километров от Енисейска.
Да было и еще одно обстоятельство, наводившее некий «туман»… Дело в том, что все эти колхозные мужики УЖЕ однажды были раскулачены. Правда, давненько – лет двадцать назад. Но подлежат ли они раскулачиванию ВТОРОЙ раз?.. Да вроде бы уже и не раскулачивают колхозников-то?
Все эти свои пятистенные избы сложили они своими руками, «своё хозяйство» нажили своим горбом, без помощи наёмных батраков или эксплуатации бедняков (впрочем, как и тогда, когда их раскулачивали в первый раз – в 1930-м).
Тогда и привезли их сюда, на Енисей, где в то время, кроме малюсенькой деревушки с развалившимися избами, – пустующей, (люди повымерли или разбежались) – ничего не было. Привезли полуголых и босых, оголодавших в изнурительных этапах, обобранных до нитки мужиков из далёкой России. И бросили на произвол судьбы…
…Теперешняя большая деревня (Райцентр!), так же, как и колхоз при ней, называется «Ярцево». Если кто из читателей помнит, недалеко от Смоленска по дороге в Москву есть станция и городок с ткацко-прядильными фабриками, с сёлами и деревнями вокруг. Станция и городок этот назывались – Ярцево. Как видно, какой-то из этапов почти двадцатилетней давности и был как раз – ярцевским.
Конечно, не все, – ох, как далеко не все, доехали до берегов Енисея… Но те, кто выжил и доехал… Господи, к чему легенда о птице фениксе?! Разве народ, да каждый человек – не тот же «феникс»! Оставьте его чуть живого, чуть мяса на костях, чуть воздуха для дыхания – и он вздохнет, встрепенется, пробьется, как травинка сквозь асфальт, – и начнет жить.
Ведь не прошло и полных двадцати лет! А вот они – новые «кулаки» – живут, трудятся, ребят плодят, радуются… Хотя и щемят сердце воспоминания о своей родной деревне, оставленной где-то за тридевять земель, в какой-то Смоленской области. Да и где она, такая?!..
Но это у стариков, а молодые родину помнят уже смутно, а о недоехавших в этапах – только рассказы слышали… Нет, здесь, в Ярцеве, жить можно, не ленись только. Мужики и не ленились!
Ну, а мы – «новые ссыльные», хоть и не раскулаченные, – отбирать у нас всё равно было нечего – мы тоже лениться не собирались.
…Не всем повезло так, как мне. Как я уже упоминала, из нашего этапа в 40 человек с подходящими специальностями оказалось только шесть человек. Остальным пришлось приспосабливаться к колхозному труду. Но для людей прошедших лагеря это не было таким уж страшным, и в конце концов все как-то приспособились.
Приспособился и старичок-юрист Павел Васильевич, один из попавших в «колхозники». Правда, не сразу. Сначала его посылали в луга за какими-то жердями; хотя он отродясь лошадьми не правил. Но лошадки были смирные, умные, и сами шли нужной дорогой туда, где уже побывали не раз. Павлу Васильевичу оставалось спокойно сидеть на узких «дрогах» и придерживать руками свободно свисающие вожжи, чтобы они не ускользнули под ноги лошадям. Что он успешно и выполнял.
…До чего же симпатичным и жизнерадостным был этот Павел Васильевич, с которым я очень подружилась впоследствии, и на многие годы! Но в начале наше знакомство ознаменовалось происшествием трагикомическим, которое кончилось, к счастью, вполне благополучно, благодаря чему перешло в разряд, так сказать, чисто «комических».
Дело было так: Каждую минуту своего свободного времени, особенно до приезда мамы, я стремилась проводить в лугах, где теперь так дивно пахло травой и прошлогодним сеном, которое осталось кое-где в копешках – «лишнее», где широкая гладь Енисея переливалась бликами на солнце и большие рыбы изредка выпрыгивали из воды и тут же шлёпались обратно, поднимая целый Фонтан брызг.
В траве золотились лютики, клонились на ветру колокольчики и качались огромные ромашки. Всё здесь спешило расти и цвести скорей и пышней, словно знало, как оно коротко, северное таёжное лето…
Дорогу в луга пересекала маленькая речушка, скорей, ручеек, текущий в неглубоком овражке. Через него был перекинут бревенчатый мостик. К нему и спускались дроги с Павлом Васильевичем в качестве кучера.
– Павел Васильевич, – крикнула я, – подвезите меня!
Но в это время дроги скрылись за склоном овражка, а там, где должен был быть мостик, вдруг явственно взметнулись вверх… ноги Павла Васильевича!
– Боже мой, что с вами! – закричала я и бросилась бежать к мостику.
Удивленные лошадки смирно стояли на мостике, косясь на дроги. Два колеса с одной стороны – переднее и заднее – соскочили с моста, но дроги всё-таки не перевернулись, а только сильно накренились, но бедный Павел Васильевич скатапультировался со своего кучерского места прямо в воду и теперь беспомощно барахтался, стараясь выкарабкаться из ручейка.
– Господи, вы не ушиблись?!
– Нет, нет, нисколечко! – уверял Павел Васильевич, – просто небольшое приключение! – и он так весело, по-детски рассмеялся…
Впоследствии, председатель колхоза, вообще то мужик неплохой и хозяйственный, смилостивился и перевел Павла Васильевича в контору колхоза, где он стал учетчиком и счетоводом той самой сыроварни, которую колхозники гордо именовали «заводом».
А позже, следующей весной, когда коровы начали телиться, у него появилось новое увлекательное занятие, в котором вся наша компания приняла самое горячее участие, дружно помогая Павлу Васильевичу.
Новорожденных бычков и тёлочек нужно было «окрестить», то-биш, придумать им имена. И каждый год, чтобы потом не было путаницы, имена новорожденных должны были начинаться с одной и той же буквы.
В тот год это была буква «Г».
– Гомер! – предлагал кто-то.
– Гораций! – тут же продолжал другой.
– Гвидон!.. Гвидон! – перебивал третий.
– Гитлер, Гитлер! – кричал четвёртый.
– Еще чего! Чтобы вырос бешеный бык!
– Погодите, погодите, – тщетно старался унять страсти Павел Васильевич, – бычков довольно, теперь – дамы!
– Ах, дамы – ну, тогда…
Но «дамы» как на ум то не шли…
– Подождите, подождите – Гензель!
– Да ведь это же мальчик! – Ну, и что? Ведь была же и Гретель!
– Гретель годится!
– А леди годива?!
– Ну и загнул! А почему не Гуля? Гуленька – чего лучше?
Так развлекались мы, как малые ребята, и, право, – это шло нам на пользу.
«Мы» – это наша маленькая компания – 6–7 человек, которые сдружились, и которые стали моими постоянными помощниками, без которых мне было бы трудновато. Компания образовалась вокруг меня, мамы, и моего жилища – «Виллы Парадайз», как его окрестили мои друзья, – крохотной баньки на берегу Енисея, где мы собирались вокруг узкого деревянного стола, с казаном (так называли мы большую кастрюлю без ручки) посредине, в котором булькала только что снятая с плитки гороховая или пшённая каша.
Дело в том, что только я одна изо всех «новых ссыльных» имела собственный особняк и собственную маму с котом и с собачкой, впридачу! Но, конечно, всё это было не «вдруг», а образовалось постепенно. Это опять я забежала далеко вперед. Трудно сдержаться, когда нахлынут воспоминания.
Но вернемся к началу нашей ярцевской жизни.
С больницей у меня сразу всё пошло гладко и хорошо, за исключением одной небольшой неприятности, о которой не стоило бы и упоминать, но это было характерно для тех лет…
Больничка была небольшая, хотя оказалось, что она «районная», и крестьяне из «соседних» (километров за 20–30!) сёл приезжали лечиться к нам. В больнице работало трое врачей. Один из них был весьма пожилой хирург. Это был старый меньшевик, который начиная с 20-х годов годов отбывал одну за другой ссылки; – одна другой дольше, и дальше от центральной России. После последней, осел здесь, в Ярцеве; остался добровольно доживать тут свой век. Один он встретил меня неприветливо и недоверчиво. Он не поверил, что я не принадлежу ни к какой партии, и не знаю, почему и за что выслана, да еще «на вечные времена»… Решил, что я попросту скрываю, так же, как и другие «новые ссыльные», с которыми он не хотел иметь ничего общего. На работе был со мной вежлив, но холоден. Хотя вскоре и убедился, что я настоящая и опытная медсестра, но старался обходиться без моей помощи, что меня конечно огорчало.
Зато два другие врача – это была молодая пара, только что окончивших Красноярский Мединститут студентов. С ними сразу сложились не только хорошие, но и весьма дружеские отношения. Оба были терапевтами и были присланы в Ярцево по «распределению» – отрабатывать трехлетний стаж на периферии.
Особенно сблизило нас то обстоятельство, что у них только что родилась дочурка и молодая мама была в отчаянии, не имея ни опыта, ни детского врача под рукой, ни бабушки, которая могла бы помочь и научить. И тут мне так пригодился мой опыт работы в «детской» палате Боровской больницы.
В общем, и тут мне повезло, – везучая! Я помогала растить и выхаживать маленькую Олечку (к сожалению, довольно слабенькую и хилую девочку), а в больнице получила «в полное владение» детскую палату, где, слава Богу, дела шли вполне благополучно.
Но не больница была центром моей жизни в Ярцеве, и не о ней я хочу рассказать. И воспоминания о больнице гораздо туманнее и бледнее, чем о моей, и моих новых друзей «частной» жизни.
Итак, с больницей с самого начала всё обстояло хорошо, и моя первая проблема была – жильё. Крестьяне (у которых я даже за «докторшу» сходила!) относились ко мне очень дружелюбно, и снять «угол» можно было едва ли ни в каждой избе. Но только – «угол». Даже самые большие пятистенки не имели больше двух помещений, – большущей кухни с огромной русской печью, и одной комнаты, где размещалась вся семья, обычно многолюдная и многодетная. Я и сняла угол, – что же было еще делать?
Мой угол в достаточно большой комнате отгородили красивыми полосатыми занавесками, сенник набили самым отборным и душистым сеном, и у кровати, полученной «на подержание» из больницы поставили заново сколоченный столик, чудесно пахнувший сосной… Но, в избе было душно и жарко. Окон не открывали. Ребятишки возились на полу, прыгали и скакали вместе с маленькими «собственными» ягнятами, орали, кричали ссорились и ревели попеременно; лезли за мою занавеску, не признавая абсолютно никакой «частной территории»!
Мухи жужжали густо, как пчелы; тараканы деловито ползали по углам, точно так же, как и в деревушке под Смоленском, где прошло моё отрочество в голодные годы «военного коммунизма». (Мы вынуждены были уехать в деревню, чтоб не умереть с голоду в Смоленске). Клопы атаковали меня особо свирепо, – как «новичка», очевидно.
Тем не менее, всё же это не был лагерный барак с его вонью, матом, сплошными нарами, где спали «впритык», а зимой замерзали от холода. И я вполне могла бы приспособиться к своему избяному углу. К тому же, ведь я почти и дома не бывала – дежурила в больнице в очередь и не в очередь, ходила «по патронажу».
Но, ко мне должна была приехать мама. Что же будет, когда приедет мама??.. Сердце у меня падало от одной мысли об этом… Но и тут мне снова повезло!
У моих хозяев была чудесная большая баня, которая топилась каждую субботу. И хотя топилась она «по-чёрному», но тепло в ней сохранялось до самого воскресенья! И после того, как всё семейство отпарится и отхлещется вениками в горячих облаках пара, нам, отворив дверь в предбанник, – так чудесно было мыться, обливаясь из громадных бадеек не очень горячей водицей (её всегда оставалось достаточно).
В больнице у нас была настоящая «ванная» и даже с душем, в бак которого наливалась теплая вода, но «свою» баню я старалась не пропускать никогда, и использовать при малейшей возможности. Наслаждение, получаемое от неё, ярко помнится до сих пор. Помнила его и моя мама до самой своей смерти, когда, уже после моей реабилитации, мы снова жили в Москве…








