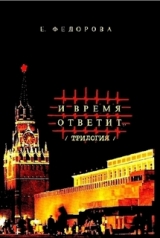
Текст книги "И время ответит…"
Автор книги: Евгения Федорова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
Я видела однажды, как неопытные повальщики спилили ствол чуть не до самого заруба, и дерево вдруг стоймя соскочило со своего пня и комлем расплющило стопу одного из повальщиков. Он побледнел, как мел, и даже не закричал – так сильна была боль. А дерево, покачавшись как маятник, под страшные крики: – Берегись!.. Берегись! – легло поперёк делянки…
Но у нас пока – тьфу, тьфу! – не сглазить бы, всё шло благополучно, и бригада была поражена: никчемная, ничего не умеющая делать интеллигенция оказалась «на высоте», и валила столько же, сколько и они – опытные настоящие работяги!..
Так я и проработала «повальщицей» почти до конца зимы 43-го года, когда, казалось бы, пустяковый случай определил новый поворот в моей лагерной судьбе.
Но прежде чем продолжать рассказ о моих новых «приключениях», хочу поделиться воспоминаниями ещё об одной обитательнице этого лагеря, с которой у меня сложились хорошие, тёплые отношения.
Речь идёт о моей соседке по нарам, молоденькой монашке Марусе. Вспоминаю – как трогательно она ухаживала за мной во время куриной слепоты, приносила мне мою миску с баландой и пайку хлеба, водила в баню, стирала бельё. Более кроткого и незлобивого существа я не встречала – маленькая, как серенькая мышка, всегда тихая, всегда приветливая, говорившая вполголоса. Когда в бараке вспыхивали ссоры, она готова была заплакать, затыкала уши ладонями, чтобы, не дай Бог, не услышать слова «чёрт» которого она боялась больше всего на свете. Она считала, что достаточно помянуть «ЕГО», как он уже тащит твою душу прямо в пекло, на вечные муки.
Кроме неё, в бараке было ещё несколько монахинь-богомолок, которые на следствии не называли своих фамилий, и по формулярам числились просто под номерами.
Лагеря они считали земными отделениями преисподней, созданием сатаны, и потому полагали за грех работать здесь, на сатану. В изолятор их не сажали, но жили они всегда на штрафном пайке – на двухстах граммах хлеба. И всё же, они особенно не голодали.
Они охотно брались за всякую работу для людей – только бы не для сатаны. Дневальной они мыли полы и приносили воду, работягам и «придуркам» стирали и гладили; мужчинам чинили брюки и бушлаты. Они никогда не спрашивали платы за свои услуги, но если им давали кусок хлеба или миску баланды, никогда не отказывались, смиренно благодарили и, перекрестясь, принимали подаяние…
Статья у них у всех была «пустяковая» – 58–10, но сроки почему-то у всех были – десять.
Я вспомнила о Марусе, потому что она была единственным человеком на 42-ой командировке, которому действительно было жаль расставаться со мной. Впрочем, и мне тоже…
…Конец моему пребыванию на «42-й» пришёл, как я уже сказала, неожиданно и случайно. Чем-то я наколола большой палец правой руки, даже не заметила чем и как, но палец разболелся, раздуло всю руку. Боль была отчаянная. Хирурга у нас на лагпункте не было; наш лекпом попробовал покопаться в пальце скальпелем – стало ещё хуже, температура поднялась до 40… Лекпом испугался сепсиса и, во избежание ответственности, выписал направление в Центральную больницу Усольлага, до которой было километров 25. Транспорта, конечно, никакого не было. Кроме того, для моей отправки в больницу требовались ещё два условия: наряд из управления и конвоир.
Сначала не было ни того, ни другого… Потом пришёл наряд, но не было конвоира. А время шло, да шло…
Я не умерла от сепсиса – опухоль стала спадать, и боль немного отпустила. Температура тоже спала.
В общем, панариций стал понемножку проходить (окончательно палец зажил только через год и остался на всю жизнь исковерканным), – уже было ясно, что можно отлично обойтись и без Центральной больницы…
Но дело было сделано – наряд лежал в конторе, а недели через три появился и стрелок, чтобы везти меня, в Мошево, где находилась больница.
Кроме меня, туда же, в Центральную больницу, должен был быть отправлен, тоже по наряду, врач К. – опытный терапевт, обрусевший поляк, которого почему-то с пересылки из Соликамска тоже заслали к нам, на «42-ю». И хотя и наш лекпом, и врач К., и я сама – все мы сомневались, нужно ли мне идти в больницу, примут ли меня там с почти зажившим панарицием – сомнения наши оказались ни к чему. Имелся наряд, налицо был конвой – значит, рассуждать нечего. Мне было велено отправляться…
Мы с доктором К. сложили свои нехитрые пожитки, а у меня уже завелся какой-то деревянный чемоданчик к тому времени, и отправились в путь-дорогу. Стрелок – совсем ещё мальчишка, оказался сообразительным и добросердечным. Он раздобыл где-то саночки, положил на них наши чемоданы, и сам тащил их всю дорогу по мокрому, весеннему снегу – у меня рука была все-таки ещё на перевязи, а доктор годился стрелку, скорее всего, в дедушки, и очевидно стрелок это тоже учёл…
День был ясный, мороза уже не было, снег хлюпал под мокрыми валенками…
Мы позавтракали по дороге дружно, угостив парнишку нашей солёной камбалой, выданной нам на дорогу, а он нас – бобами из консервной банки – своего дорожного пайка. Ведь на много километров кругом никого не было. Никто не мог увидеть!
…Расставаться с «42-й» было не жаль – особенно близких друзей там не оставалось – только мои милые соседки по нарам – Маруся-монашенка и Нина с глазами китайчонка… Маруся горько плакала, когда я уходила из барака.
С внучкой Семёнова-Тяньшаньского мы крепко расцеловались, и она пожелала нам на дорогу «ни пуха, ни пера»!
– К чёрту, к чёрту!
Я не могла знать, вернут ли меня на «42-ю», но знала, что в Мошеве, кроме больницы, был и обычный лагерь, куда, вероятнее всего, меня и водворят. Поэтому я прощалась со всеми так, как прощаются, уезжая навсегда…
Прощай, «42-я», прощай ещё одна страница моей лагерной жизни!..
Глава VIМошево
Когда мы к вечеру добрели до Центральной больницы, преодолев 25 километров таёжной, просёлочной дороги, рабочий день уже давно кончился. В тёмной конторе больницы сидел один дежурный за столиком, освещённым коптилкой, сделанной из картофелины с фитилём.
Посмотрев наши бумаги и выслушав мой рассказ о почти уже заживающем пальце, симпатичный дежурный – тоже «зэк», и славный человек – пофыркал, похмыкал носом, поерошил торчащие ёжиком волосы, и, наконец, принял решение:
– В общем-то, конечно, я должен был бы отправить вас в зону, – сказал он. (В отличие от больничной зоны, лагерная, «рабочая», называлась просто «зоной»). – Но знаете, я всё-таки положу вас в малую хирургию. Отдохнёте малость. Сразу же на осмотр не возьмут, всё равно назначат анализы – кровь, моча, то-другое – смотришь, и прокантуетесь денька три-четыре… А в зону всегда успеется…
Это был дежурный фельдшер. Я не помню его фамилию, но позже расскажу о нём немного. Всё получилось так, как он и предсказал.
При обходе на следующий день мне были назначены анализы, а в перевязочную меня вызвали только через три дня.
Но гораздо раньше, в первый же мой Мошевский день, ко мне прибежала Екатерина Михайловна Оболенская. Не помню, как она узнала, что я здесь – может быть, ей сказала Любочка Н. – очень доброе и хлопотливое существо, любившая всем помогать и «устраивать судьбу» совершенно бескорыстно. В то время она работала сестрой в Мошевской больнице в отделении гнойной хирургии.
Так или иначе, обе они с места в карьер начали меня «обрабатывать»: – В больнице острая нехватка медсестёр! Каждый мало-мальски грамотный человек может быть медсестрой. Ты останешься здесь и станешь медсестрой!
– Я – медсестрой??.. Чепуха! Абсурд. В медицине я ничего не понимаю. Никаких банок и даже горчичников ставить не умею. Моим ребятам всё это делает моя мама!.. В жизни я не держала шприца в руках… Не выношу вида человека, которого рвёт!.. И вообще, терпеть не могу медицину, и никогда ею заниматься не собиралась!!
Екатерина Михайловна – убеждала, Любочка Н. вышла из себя и назвала меня «просто дурой».
– Ах, на лесоповале тебе лучше?!.. Ах, жить надоело!.. А дети?.. Мать?.. Да ты просто обязанадожить!.. Просто дура, если упустишь реальный шанс!
В конце концов, я сдалась. Мне притащили два толстых-претолстых тома в чёрных обложках – учебник для медсестёр Ихтеймана – том первый, и том второй. С отвращением и ужасом я начала их листать…
Читать было велено быстро, ибо мои друзья, как и я, тоже думали, что после первой перевязки меня выпишут в зону, а достать меня оттуда будет значительно труднее. Они успели побывать у главного врача больницы, а главное – у его жены.
Это была дама-патронесса, нечто вроде отделения Общества Красного Креста при нашей больнице. Она благоволила к заключённым, охотно выслушивала различные просьбы, и действительно старалась помочь. К ней обращались с разными разностями: с просьбами о переходе в другое отделение, о разрешении свидания, наконец, даже с просьбой принести почитать что-нибудь. Официально никакой должности она не занимала, но все знали, что «вес» в больнице – имела.
Так вот, друзья побывали у Маргариты Львовны – так, кажется, её звали, и наговорили ей что прибыла такая-то, детская писательница!.. Культурнейший человек!! Практически знакома с медициной?!.. Одним словом, ради Бога, только чтобы её не отправили в «зону»!
Кончилось тем, что через неделю я была вызвана в кабинет главврача, куда и отправилась через всю больничную зону в больничном халате без пояса, в тапочках, которые слетали с ноги при каждом шаге.
В кабинете было двое: за большим столом сидел низенький толстый и смешной человечек. – Начальник больницы Неймарк, – догадалась я. Смешной он был только по виду – как потом я узнала, он здорово, когда надо, на всех орал, стучал кулаком по столу и совершенно единолично мог «списать в зону» любого врача и любую медсестру. В общем, его боялись, хотя был он справедлив и спрашивал «по делу». А добросердечной женой его, здесь пользовались, как громоотводом.
В кресле у стола сидел сухопарый и очень высокий старик, который говорил так невнятно, словно со ртом набитым кашей, так что я ничего не понимала, о чем он вообще говорит… Как потом оказалось, это был старый хирург Андриевский – талантливый и опытный хирург – ленинградец, спасший немало жизней и заключённым, и вольным, приезжавшим к нему на операции даже из Москвы и Ленинграда. Он уже досиживал свой срок, но, как потом я слышала, умер, так и не успев досидеть.
Неймарк и Андриевский меня о чем-то спрашивали, но от волнения я ничего не понимала и вряд ли отвечала хоть что-нибудь мало-мальски вразумительное. Одно лишь помню, Андриевский спросил меня: – А если вы не поймёте, что вам сказал врач, что вы сделаете? Я поняла вопрос, очевидно потому, что это не был медицинский вопрос. И потому ответила вполне разумно: – Я спрошу у врача ещё раз.
У Андриевского по губам пробежало что-то вроде улыбки, а Неймарк откровенно крякнул. Этот мой ответ, очевидно, и решил дело. А может быть и просто острая нехватка медсестёр… Экзамен, к счастью, длился недолго, меня отпустили, и я, вся красная и негодующая, набросилась на Екатерину Михайловну и Любочку, подвергшим меня такому позорищу!
Однако, в зону меня всё-таки не выписали, а только перевели в терапевтическое отделение, где я ещё продолжала числиться «больной», но уже поддежуривала по ночам и училась кой-чему у палатных сестёр. К счастью, одна из них была Екатерина Михайловна – Катеринка, как вскоре стала она для меня… Так я прижилась в Мошеве.
«Пимперле, сделаем лицо!»
Д-р Грудзинский.
…Мои первые самостоятельные дежурства начались не в терапии, а в туберкулёзном отделении, куда меня назначили. И то, сначала это были только ночные дежурства. Днём ведь надо было делать обход с врачом, записывать назначения, выполнять процедуры – всевозможные внутривенные вливания, которых я, конечно, делать вовсе не умела. Надо было выписывать лекарства из аптеки и делать ещё множество дел, к которым я была совсем не готова.
Всему этому я постепенно научилась, но до обходов с доктором Грудзинским было ещё очень далеко.
Так мы и работали с Аглаей Михайловной, давнишней сестрой туботделения, она – днем, а я – ночью, пока ей не надоело такое положение вещей. Тогда мне волей-неволей пришлось взяться за круглосуточную смену, хотя и было страшно.
Постепенно я стала привыкать, и покатилась моя мошевская больничная жизнь – сутки через сутки, месяц за месяцем…
Но вот своей первой ночи в туберкулёзном, когда я осталась одна со своими семидесятью туберкулёзниками, мне не забыть никогда. Помню, как гулко, на весь корпус, колотилось моё сердце, когда я стояла посреди тёмного коридора с закрытыми дверьми, за которыми – за каждой(!) – кто-то кашлял, хрипел, стонал, звал сестру…
Я не знала, в какую палату идти, звали из каждой. Коптилка чадила и прыгала в моей дрожащей руке, язычок пламени колебался, какие-то фантастические тени двигались в дальних углах коридора… Как только я со своей коптилкой зашла в палату, со всех коек поднялись чёрные головы – как змеи. Боже помоги! – И отовсюду зашелестели хриплые голоса:
– Сестрица… Сестрица…
В палате никто не спал. Все просили кодеина, или укол. Но ни морфия, ни пантопона у меня не было, а кодеин было велено давать только по назначению. И он был уже роздан вечером. Я быстро раздала весь остальной, за что мне потом крепко досталось, но они всё равно кашляли, и кашляли, до рвоты, до изнеможения… И некуда было укрыться от этого душераздирающего кашля, и в дежурке он был слышен, хоть и немного глуше…
В довершение всего из четвёртой палаты прибежал санитар с известием, что один кончается… Я пошла. На койке лежал большой, мне показалось – огромный, человек, заросший чёрной щетиной, с провалившимися щеками, с тёмной дыркой вместо рта. Глаза были открыты, но заведены вверх, и белки зияли, как у слепого. Он не дышал. Я думала – уже умер.
Но вот, всё тело его вдруг содрогнулось, грудь даже привскочила и с шумом набрала в себя воздух, а потом с хрипом выпустила его, и человек опять затих… Потом я узнала, что это называется «Чайн-Стоксовское дыхание», и что это – агония. Я взялась проверять пульс, но пульса не нащупала.
Аглая Михайловна, передавая мне дежурство, меня напутствовала: – Кузьмин, вероятно, экзитирует сегодня: – это элегантное иностранное слово означало просто – «умрёт».
– На всякий случай, введите ему камфару, может до утра и дотянет…
Я не понимала, да и сейчас не понимаю, почему надо было вводить камфару, чтобы Кузьмин дотянул до утра? Для кого это было «надо»?.. Для Кузьмина, который мучился в агонии?.. Или для кого?
Но таков незыблемый врачебный закон: до последней минуты боротьсяза жизнь – не давать умереть… Это было пятьдесят лет тому назад, но и до сих пор вопрос о «разрешении умереть» – всё ещё стоит на повестке дня современной медицины…
Не морфий или пантопон – но камфара и кофеин. Даже если у человека от обоих легких не осталось ничего. Даже, если раком задушены все внутренности…
В панике я бросилась в дежурку, санитара послала наверх за Екатериной Михайловной. Слава Богу, она дежурила тут же, в терапии – два марша вверх по лестнице, а сама старалась набрать в шприц камфару, но она почему-то не набиралась…
Катерина прибежала сразу. Она очень ловко набрала в шприц камфару и сделала умирающему укол. С соседних коек – со всех сторон – смотрели странные расширенные глаза, в которых отражались язычки пламени моей коптилки.
У этих несчастных уже не было сил даже кашлять. Они лежали молча и неподвижно, только непрерывное клокотание в груди показывало, что они ещё живы, что они ещё не «экзитируют»…
Через несколько минут Кузьмин умер. Его накрыли с головой одеялом, и два санитара положили на носилки и вынесли из палаты. Мы вышли тоже. На прощанье Катерина сказала больным: – Ну что поделаешь?.. Спите спокойно. – И, показалось, больные вздохнули спокойней…
– Катеринка – спросила я в дежурке – а ведь, наверное, надо было послать за Грудзинским?
– Зачем? – грустно ответила она – ведь он и так знал, что Кузьмин умрет сегодня ночью, или завтра… И что же он может сделать, доктор Грудзинский?.. Она смотрела на меня с такой жалостью, как будто это я сама должна была умереть сегодня или завтра…
В больнице, хоть и «Центральной», не было фтизиатра. Как-то так случилось – были и терапевты, и хирурги, и инфекционисты, даже гинекологи, ибо к нам же привозили трудных рожениц, иногда в состоянии комы… Был великолепный офтальмолог и глазной хирург – перс, теперь сказали бы иранец, Алибей Асадулаевич Мурадханов, к которому приезжали делать операции высокопоставленные энкавэдисты с Лубянки.
А вот, фтизиатра – не было. И туберкулёзным отделением заведовал старый поляк – терапевт, доктор Грудзинский. Ему было, вероятно, не больше 60-и, но выглядел он глубоким стариком. Он был красив. С белоснежными густыми волосами, с бородкой клинышком, с удлинённым лицом, почти лишённым морщин, всегда грустным, но слегка надменным, он, казалось, сошёл с портрета какого-то средневекового испанского гранда. Только белого воротника с плюмажем не хватало! Его белоснежный, всегда подкрахмаленный халат, был свеж и безукоризнен.
Первое время я его ужасно боялась, боялась рот раскрыть, уверенная, что ляпну какую-нибудь глупость или задам дурацкий вопрос. Но, оказалось, что «испанского гранда» бояться совершенно нечего. «Высокомерность» его была не более, чем привычная игра, и что «испанский гранд», как и все остальные, также тоскует о своих взрослых дочерях и маленьких внуках, тем более, что боясь им «навредить», просил их писать редко и коротко, как и сам делал – и, пожалуйста, никаких посылок!
Он был из русских поляков, сидел давно, с начала, 30-х, и его семья жила где-то в средней России.
Ко мне он относился снисходительно и чуть насмешливо, как мне казалось – потому, что он знал, что никакая я не медсестра, и в медицине ничего не понимаю. Но в нашем ТБЦ отделении не было профессионалов, да и сам он не был фтизиатром, тем не менее, мы оба старались делать своё дело как могли хорошо…
Увы, нашим туберкулёзникам мы практически ничемпомочь не могли. У нас ничего не было. Ни медикаментов, ни аппаратуры, ничего, кроме шприцов с затупившимися иглами. Был, правда, аппарат для пневмоторокса, но вряд ли и опытному фтизиатру пришлось бы пользоваться им.
Дело в том, что туберкулёзники попадали в Мошево, когда уже оба легких были изъедены кавернами – куда же «поддувать»?!..
У нас почти не было ни героина, ни кодеина, чтоб хоть на время избавить несчастных от непрерывного кашля, раздирающего остатки лёгких. Только «солюция» ипекакуаны, да раствор хлористого кальция – всё, что имелосьв нашей аптечке. Морфий и пантопон были привилегией только одного хирургического отделения. Пенициллин и стрептомицин уже начали входить в медицину, но… конечно, не для лагерных больниц. И хорошо, что больные о них ещё и не знали.
Не было у нас и самого главного – калорийного питания, которое могло бы поддержать силы организма для борьбы с болезнью. Туберкулёзники получали тот же «общий» больничный стол, что и все, кроме больных в первые послеоперационные дни в хирургии. Больничное питание было до того скудно, порции такие микроскопические, что о калорийности смешно было даже говорить. Тем не менее её аккуратно, ежедневно подсчитывал – диетолог по совместительству – наш знаменитый офтальмолог, д-р Мурадханов, и таблицы с подсчитанными калориями ежедневно клались на стол главного врача – директора Центральной больницы – Неймарка – единственного вольнонаёмного врача и хозяина всей больницы.
Может быть, он и читал их – но что он мог сделать??.. Питание?.. Откуда же его было взять?.. Ведь это был концлагерь – да ещё в военные годы…
На грани голода жили все – и больные, и персонал. Единственное, что поддерживало жизнь наших туберкулёзников – это четырехсотграммовая больничная пайка. Пайка чёрного кислого хлеба. Сестра-хозяйка, раздававшая пищу, разрезала эту пайку на три куска, чтобы больные не съедали её сразу с утра. Если случались – не часто – какие-то добавочные порции, их отдавали в хирургию и терапию, где врачи ссорились между собой за «своих больных». и назначали их более «перспективным», которые могли ещё выздороветь.
На долю туберкулёзников не доставалось ничего.
Но все, кроме самих больных, умолявших о добавке, понимали, что это – справедливо, ибо для туберкулёзников добавка ничего не изменит – ведь всеони, всё равно, были обречены…
Конечно, попавшие в Мошево всё же были счастливцами – они лежали (и умирали) на железных койках, на чистых простынях; они лежали в палатах со свежим воздухом, так как форточки никогда не закрывались.
Пока они были ходячими, они пользовались уборной, а на «последние дни» – их переводили в небольшую, на 3–4 человека, палату – палату номер четыре, где было «спокойнее и условия гораздо лучше», как мы их уверяли – «сами убедитесь!» Вряд ли больные нам верили, но что же было делать?..
Но, д-р Грудзинский и в этих условиях пытался что-то «делать». Делал всё, что было в его силах, и больные чувствовали это и обожали его.
…Вспоминаю… Мы отправляемся на обход. Ежедневный утренний обход всех палат. Двери в палаты закрыты. Из-за них доносится то затихающий, то нарастающий почти непрерывный кашель… Длинный коридор…
– Ну-с, Пимперле! Почему-то он окрестил меня этим прозвищем; – что оно означало, вероятно, он и сам не знал, но – очевидно, что-то связанное с молодостью и неопытностью, ибо, хотя мне уже минуло 35, я была самой молодой из мошевских медсестёр.
– Ну-с, Пимперле – говорил доктор Грудзинский, останавливаясь перед дверью палаты, в которую нам следовало войти – «сделаем лицо»!
И лицо его принимало бодрое, энергичное выражение. Даже глаза начинали блестеть. Словно волной смывало усталость, старость, тоску…
– Пошли!
Он широким жестом распахивал дверь, галантно пропуская меня вперед. – Сестра, прошу!..
– Доброе утро, как дела? – весело приветствует своих больных доктор Грудзинский.
– Доброе утро, доктор! – несётся со всех сторон. Начинается обход.
– …Да… Кашель, конечно мучительно… Конечно. Но вы же ведь образованный человек?.. Вы же понимаете, что это – отделение мокроты, это необходимо, и это – единственное, что может спасти… Потерпите, дружок!
– …Ну, как дела, работяга?.. Вид-то у вас сегодня получше!.. Температура?.. Хм… (температурный лист висит в ногах, на спинке кровати). …Да, конечно, температурка держится!.. Но, поверьте, это вовсе не плохо. Значит, организм борется – борется, и это – главное!
Вот так и дальше. Каждому доброе, ободряющее слово, может быть, и не совсем правдивое – но ведь только это может датьсвоим больным в данной ситуации д-р Грудзинский.
И тут, в палате безнадёжно больных, обречённых людей, наступали удивительные минуты… Безобразные железные койки, серые застиранные одежда, измождённые лица – всё уходит куда-то, исчезает из действительности, улетучивается, как печаль и тоска с лица доктора Грудзинского. Всё забывается; верится во всё, пусть самое невероятное, самое несбыточное… Редкие, удивительные минуты. Даже кашель внезапно утихает. Ему верят. На него надеются.
Такие минуты надежды, думаю, испытали многие из лагерников, и помнят о них до конца своей жизни, даже, если и прожили долго, если удалось выжитьи выйти из лагеря…
Между приступами кашля кто-то умоляет о кодеине.
– Кодеин?.. Но ведь его нет в нашей аптеке. Надо подождать новую партию медикаментов… Нет, нет, я постараюсь достать, конечно, пропишу вам… На ночь получите укол, поспите, и кашель полегчает…
В дежурке доктор диктует мне «требование в аптеку» – всё ту же ипекакуану; тот же хлористый кальций – все больные знают, что из него образуются «капсулы» для туберкулёзных «палочек», и свято верят в это; камфару и кофеин; хлорамин… и подумав, доктор говорит: – Всё.
– Как всё?! – Взрываюсь я. – А пантопон? Вы же обещали Куликову!
– Пимперле – говорит доктор Грудзинский грустно, но твёрдо:
– Сделаете ему кубик aqua distillate (дистиллированная вода) – поверьте, действие будет то же самое…
Рот у меня открывается, и вид, должно быть, самый идиотский.
– Доктор – бормочу я – как же… я не понимаю…
– Не понимаете, потому что слишком юны… Ничего, потом поймёте. Ну, пока. Если что понадобится – пошлите за мной.
…На ночь я делаю Куликову инъекцию – кубик aqua distilate. Я шепчу ему прерывающимся голосом: – Ну вот, Володя… Теперь вы хорошо поспите… И Володя Куликов счастливо улыбается: – Спасибо сестра! – он спокойно засыпает и спит два-три часа. А то и больше. И безо всякого пантопона!..
…Всё это было много позже моего первого самостоятельного дежурства – когда я ко многому уже привыкла. К сожалению (или наоборот, к счастью?), человек ко всему привыкает…
Привыкла и я. Привыкла без ужаса прислушиваться к ночному кашлю. Поняла, что ни в одну палату без реальной необходимости заходить не надо, потому что так будет лучше, тише, спокойнее в палате, и кашля меньше. В четвёртой палате всегда сидит санитар, и он позовёт меня, когда надо.
Привыкла я делать камфару и кофеин умирающим, и пользоваться кубиком aqua distilata, если не было ни морфия, ни пантопона… Привыкла писать густым раствором марганца на голени умершего номер его личного дела, перед тем как отправить его в морг. Научилась вводить глюкозу и магнезию, и в вены попадала даже лучше других. В общем, постепенно я становилась профессиональной медицинской сестрой, и доктор Грудзинский был весьма доволен и расхваливал меня «на свою голову», как он выразился, когда вдруг пришёл приказ перевести меня в хирургию, куда переходить я ни за что не хотела.
Я бегала к Маргарите Львовне умолять, чтобы меня оставили в милом, обжитом моём туберкулёзном!
Всё тут было мило: в терапии под боком дежурила Екатерина Михайловна, которую всегда можно было позвать на помощь, а в спокойные ночи, когда никто не умирал, она забегала ко мне просто поболтать, посидеть перед печуркой, которая топилась у меня в дежурке.
А иногда заходил в гости кто-нибудь из врачей – ведь они жили тут же, под боком – и в «свободное время» вовсе не были похожи на недосягаемые медицинские «божества», при которых медсёстры и рот боялись раскрыть… С Аглаей Михайловной мы тоже поладили отлично. В общем, мне нравилось здесь, и совсем не хотелось уходить в новую неизвестность…
…Как я умоляла Маргариту Львовну, чтобы меня оставили в туберкулёзном!.. Но почему-то на этот раз не сработало, и настал день, когда я должна была принять дежурство в хирургическом…








