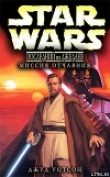Текст книги "Критская Телица"
Автор книги: Эрик Хелм
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Эпей тщательно просмолил борта и покрыл их особым составом, делавшим деревянную поверхность гладкой, точно стекло, и предохранявшим от водорослей и ракушек, склонных липнуть к плывущим кораблям и снижать быстроту хода.
Полностью разделяя мнение (верней, заблуждение) своих подручных, аттический умелец лишь улыбался, воображая, как его приемное детище лихо обставит любую военную галеру – хоть при штормовом ветре, хоть при полнейшем штиле.
О последнем Расенна, отнюдь не презревший жестокого урока, преподанного Эсимидом, позаботился особо. Правильнее, впрочем, было бы сказать, велел позаботиться Эпею. И тот с удовольствием предложил этруску свое последнее изобретение. Уяснив суть дела, архипират заржал от радости:
– Имейся у меня такая штуковина раньше! Где ты блуждал, грек, разрази тебя молния? Ох и голова!
– Вот по этим коридорам блуждал, – добродушно ответствовал Эпей. – А раньше оно, разбойничек мой разлюбезный, и невозможно было. Земляное масло[30]30
Нефть.
[Закрыть] на острове испокон веку водится, однако перегнать его да смешать с кой-какими составами я только полгода как додумался.
Мастер хмыкнул и прибавил:
– В честь мою – греческим огнем[31]31
Древнее зажигательное средство, силой действия, по-видимому, превосходившее напалм.
[Закрыть] именоваться будет!
– Хоть каппадокийским! – отмахнулся Расенна. – Ох и здорово...
У Рефия тоже забот набрался полон рот.
Просто завербовать десять отпетых головорезов – задача нехитрая. Но попробуйте подыскать ораву, достаточно молчаливую, надежную и не задающую вопросов! К тому же, закаленную в мореходных передрягах, ловкую в обращении с парусом, достаточно сообразительную! Не располагай начальник стражи собственной сетью доносчиков, не справиться бы ему с подобным предприятием и за год.

Однако два месяца спустя странный экипаж странного судна подобрали, проверили, испытали.
Испытывал Рефий самолично. Иногда, в разгар беседы с приглашенным во дворец человеком, на того нежданно кидались из боковой двери двое-трое воинов, иногда спускали здоровенного пса; иногда, если Рефию желалось поразвлечься, он предлагал кулачную схватку один на один.
Обетов молчания отвергнутые не давали. Все знали, какого свойства месть ожидает нескромного болтуна.
– Тебя здесь не было. Мы не разговаривали. Понял?
Неудачник отвечал утвердительно, прятал в складках одежды пухлый кошелек и убирался восвояси.
Понятно, что никому и намеком не выдавали истинных причин, вызывающих странное приглашение в царские палаты. Рефий объявлял, будто подыскивает хорошую замену плохому или провинившемуся воину. Кстати, даже впоследствии бравой десятке бойцов, чей состав постепенно менялся благодаря превратностям судьбы, оставалось лишь гадать, куда и зачем отправляются добытые там и сям красотки.
Полную правду знали только двое.
Расенна, капитан корабля.
И доверенное лицо Рефия, смуглокожий Гирр, приставленный наблюдать за этруском.
А задавать лишние – тем паче, дурацкие, вопросы на борту «Левки» не дозволялось.
* * *
После того, как родился Эврибат и миновало несколько месяцев, Арсиноя, согласно хитрому закону женской природы (знавшему немало исключений, но, в целом, весьма распространенному), ощутила прилив новой чувственности.
И сорвалась с цепи Гименея окончательно.
Это приключилось примерно за семь лет до появления на Крите Расенны.
Начальник стражи, давно и безуспешно вожделевший к царице, был с лихвою вознагражден за долготерпение в тихий, пасмурный летний вечер, предвещавший ночную грозу, напитанный духотой и пряным ароматом цветущих лугов, долетавшим До Кидонского дворца от величественно высившейся вдали горной громады.
Получив предложение столь же игривое, сколь и недвусмысленное, Рефий исправно проверил караулы, прошелся дозором по самым доступным, с его точки зрения, залам, коридорам и уголкам, прогулялся по внешней галерее, удостоверился в полном порядке, похвалил полдюжины воинов, стольких же отругал – ни за что ни про что: для вящей острастки и незаметно проскользнул в опочивальню Арсинои.
Повелительница ждала, разметавшись на постели, закинув руки за голову, глядя пристально и неотрывно.
Рефий остановился подле широкого ложа, подбоченился, обозрел чудеса и прелести, явленные безо всякой утайки, без малейшего стеснения.
– Чего ты ждешь, бычок? – шепнула Арсиноя.
– Любуюсь, – лаконически ответствовал Рефий.
Царица шаловливо изогнулась, распахнула глаза, чмокнула воздух вытянутыми в трубочку губами. Глубоко вздохнула, улыбнулась:
– Лучше отведай... Поглядка – не прибыль.
– Как знать, – пробормотал начальник стражи.
И сказал правду.
Хотя невразумительную, невнятную, навряд ли вполне осознанную им самим.
Ибо Рефий, идеальный сторожевой пес, гроза подчиненных, негласный командир островного сыска, непревзойденный боец и несравненный мастер пыточных дел, расплачивался сейчас за наиболее непривлекательную сторону темной и жестокой своей натуры.
Он совершил ошибку, допустил по недомыслию невольный просчет. Хотя и выбирать особенно не доводилось: попробуй, оставь приглашение Арсинои без приличествующего внимания! Можно и должности лишиться ненароком... Но теперь-то, теперь... А?
Садист и палач от рождения, Рефий приходил в любовную готовность лишь примучивая женщин, которыми обладал. Многие шлюхи, многие простые горожанки и некоторые придворные дамы отлично разумели это и старались не противиться, тем паче, что в монетах у начальника стражи недостатка не ощущалось, а уж скаредностью Рефий, надлежало отдать ему должное, не страдал. Впрочем, легко быть щедрым, ежели каждый и всякий кидонский купец или торговец готов немедленно и зачастую безвозвратно ссудить кругленькой суммой... Поелику знакомство со столь выдающейся и важной личностью могло сослужить немалую службу, избавить от множества мелких и крупных затруднений... Короче, к двадцати трем годам Рефий обнаружил, что не испытывает ни самомалейшего возбуждения, коль скоро не вправе или не властен учинить над женщиной вопиющего, обычного или, на худой конец, мелкого надругательства.
Но попробуй, учини подобное с повелительницей Крита!
Рефий стоял столбом.
И отчаянно пытался представить Арсиною поверженной на ложе пыток, беззащитной, отданной на растерзание и позор.
Однако воображение у подобных особей работает нелегко. Бедолага медлил, стараясь вызвать хотя бы незначительное восстание плоти.
Безуспешно.
Единственным итогом его мысленных потуг были жаркая испарина на челе да противный холодок в чреслах.
Многажды испытанный, закаленный в любовных (точнее, сладострастных – любить Рефий не умел) сражениях уд съежился и подобрался, как перед рукопашным боем, когда тело непроизвольно стремится стать наименее уязвимым.
– Ну, иди же ко мне, – проворковала Арсиноя, приоткрывая уста и приспуская веки.
Начальник стражи негромко вздохнул и разоблачился, понятия не имея, как повернется дело, чем завершится эта сумасшедшая затея и куда бежать потом.
Он простерся рядом с Арсиноей, обнял царицу, начал целовать, ласкать, елозить ладонями по белому, роскошному, ослепительному и – увы! – недоступному телу. Смущенный – возможно, впервые в жизни смущенный – Рефий вовсю напрягал отважные, злые, немудрые мозги; представлял сцены чудовищные и неописуемые...
Безуспешно.
А тихая, от самого себя скрываемая паника в подобных случаях лишь усугубляет беспомощность...
* * *
Иного человека можно было бы пожалеть.
Но только не Рефия.
По крайности, я его не жалею. А вам, дорогой читатель, оставляю полную свободу суждений. Ежели вы избыточно добры и милосердны – сострадайте Рефиевой беде на здоровье. Ваше мнение – ваше право.
Но, полагаю, вы со мною согласны.
* * *
– Э-эй! – негромко сказала Арсиноя четверть часа спустя. – Неужто я тебе совсем-совсем не нравлюсь?
Побагровевший начальник стражи смешался и выдавил нечто маловразумительное.
Царица тихонько надавила пальцем на кончик его носа и слегка отстранилась. Приподнялась на локте, посмотрела сверху вниз. Уселась, упершись ладонью в покрывало.
– Значит, слухи справедливы?
Рефий дернулся, будто ужаленный, и тоже привскочил.
– Какие... слухи, госпожа?
– В тронном зале – госпожа. В постели – Сини, – поправила его Арсиноя. – Слухи насчет... э-э... твоих пристрастий.
– Не понимаю...
– Сейчас поймешь, – улыбнулась Арсиноя, упала на живот и заболтала согнутыми в коленях ногами, разглядывая Рефия так близко, что черты лица расплывались, а уста почти прикасались к устам. – Слушай внимательно, бычок. Я немножко осведомлена о любовных возможностях своего главного телохранителя. Сплетней земля полнится! – Она рассмеялась: – Тебя называют кентавром.
– Кто? – машинально спросил Рефий.
– Некто. И еще некто. И еще, и еще... Думаешь, позвала бы на ложе кого попало? Наобум? Нет, милый, у меня имеется собственная маленькая разведка. И я выбрала из лучших лучшего.
– Боюсь, пока что... – пробормотал Рефий.
– Боюсь, придется дослушать, – шепнула Арсиноя и чмокнула его в щеку. – Быть царицей от рассвета до заката – какое счастье! И какая скука – оставаться царицей от заката до рассвета! Хочется объятий мужчины, а чувствуешь прикосновения подданного. Надоело.
– Но царь Идоменей..? – брякнул Рефий.
– Мы переспали трижды. Это оказалось на два раза больше, чем следовало...
– Не может быть!
– Правда! – засмеялась Арсиноя – Сущая, чистая, неподдельная правда. О тебе, дорогой, рассказывают вещи весьма необычные. Странные. Помолчи! – велела она вскинувшемуся было Рефию. – Благодари женщин за тайные и безвредные пересуды. Иначе вовеки не очутился бы здесь, поверь слову... Ты, говоря мягко, не рохля. И не мямля. А я не стеклянная, и не фарфоровая[32]32
Принято считать, что Европа узнала о фарфоре несравненно позднее, однако начисто исключать возможность торговли с Китаем в догомеровскую эпоху нельзя.
[Закрыть], будь уверен.
Арсиноя кокетливо цокнула языком и закончила:
– Изволь тиранить! Я требую...
* * *
Они образовали пару изумительную и донельзя подходившую друг другу. Рефий воспрял немедленно и не смог укротить разбушевавшегося пыла вплоть до зари и даже когда ночная гроза улеглась и пунцовое солнце начало просачиваться в узкий проем окна. Измызганная, изнасилованная всеми способами повелительница крепко и ласково поцеловала Рефия, проводила до двери, велела являться почаще.
Так было положено бурное начало неугасаемой страсти, накрепко связавшей этих двоих. Обоюдная извращенность натур, сознание, что ничего лучшего, более удачного и подходящего повстречать не удастся, дурманящее влечение к полной, невообразимой вседозволенности – вот узы, коими Арсиноя и Рефий были скованы внезапно и нерасторжимо.
И отсутствие ревности было взаимным. Ни царица, ни начальник стражи попросту не умели ревновать. Правда, каждый по-своему. Рефий – потому, что понятие «любовь» напрочь отсутствовало в его мироощущении; Арсиноя – потому, что не смешивала понятий «наслаждение» и «привязанность».
Когда царица впервые попросила постельного дружка прислать ей для забавы трех-четырех стражников покрепче, Рефий даже глазом не моргнул, резонно рассудив: подруги не убудет, а ежели женщина хочет развлечься на еще неизведанный манер – добро пожаловать. Он только испросил дозволения возглавить бравый отряд, каковое и получил немедля, да еще и чарующую улыбку вдобавок.
– Кто сболтнет полслова – погибнет. И незавидной смертью, клянусь, – предупредил Рефий участников предстоящей оргии.
Воины хорошо изучили своего командира, и охотно поверили ему.
Все, кроме одного.
Безрассудный малый осмелился обронить в казарме пикантный намек.
Вечером того же дня все сто двадцать бойцов дворцовой охраны построились во внутреннем дворе. Особого случая ради Рефий даже снял с постов урочную стражу. За часок-другой, рассудил он вполне резонно, едва ли приключится что-либо из ряда вон выходящее. Критяне – тихий народ, любящий своих повелителей, а сунуться в царские чертоги без его, Рефиева, дозволения даже сумасшедший не дерзнет. Охрана уже много веков носила характер чисто символический...
– Приск, четыре шага вперед! – распорядился Рефий.
Воин, побледневший, однако сохранявший внешнее спокойствие, повиновался.
– Кру-угом!
Приск молодцевато развернулся.
И рухнул, пораженный точным ударом сзади.
– Он жив, – мягким голосом сообщил Рефий стражникам. – Но коль скоро я велю держать рот на замке, то шутки в сторону и сомнения побоку. Он жив, и подохнет чуть позже. Неважно, как именно. Скажу одно: лучше быть сожженным заживо или брошенным на растерзание своре собак. Все уяснили?
Ошеломленная стража замешкалась с ответом.
– Все уяснили?! – рявкнул Рефий таким голосом, что эхо докатилось до Зала Дельфинов.
– Так точно! – грянул дружный, слаженный рев.
– То-то, – наставительно буркнул начальник. – Гета, Геликон! Подберите эту сволочь и волоките куда скажу.
Но, прежде нежели скомандовать «разойдись», Рефий обвел притихшее каре пронзительным взглядом.
– Молчание – золото. И в переносном смысле, и в прямом... Караулу – по местам, остальным – отдыхать. Вы, двое, за мной...
Царь Идоменей в это время бросал якоря у песчаного Пил оса, приветствуемый радостными кликами толпы, собравшейся на берегу. Ахейцы были друзьями и союзниками критян.
А Рефий, тщательно отобрав десяток надежных людей (следовало все-таки обеспечить государыне Известное разнообразие), потолковал с каждым наедине, разъяснил грядущие выгоды и преимущества, припугнул для порядка (это смахивало на чистое излишество – участь Приска, исчезнувшего бесследно, служила вполне достаточным назиданием) и подробно изложил пожелание Арсинои.
Равно как и собственные.
Ибо нежданно-негаданно убедился: вид повелительницы, извивающейся и бьющейся под натиском нескольких дюжих молодцов, пьянит и возбуждает сильней наикрепчайшего вина.
Уж таким он уродился, начальник дворцовой стражи Рефий.
Античные боги ему судьи.
* * *
И без того нелегкая задача этруска десятикратно осложнялась дополнительным указанием, недвусмысленным и строгим.
Арсиноя начисто возбраняла без крайней, последней необходимости убивать или увечить кого бы то ни было на берегу, с которого умыкают пленницу. И отнюдь не потому, что государыне претило бессмысленное кровопролитие – хотя и это играло известную роль, – но под стрелу, копье, клинок или кулек могли подвернуться возлюбленный, муж, отец или брат похищаемой.
А ополоумевшие от горя, затаившие лютую злобу, алчущие отомстить за близких либо друзей, наложницы Арсиное вовсе не требовались.
По столь же, если не более, понятной причине запрещалось увозить женщин, успевших обзавестись детьми.
– А вместе с отродьями? – брякнул Расенна.
Арсиноя лишь постучала пальцем по лбу.
Архипират прикусил язык.
– Давай лучше поговорим о насущном и важном, – промолвила царица. – Я, например, посейчас остаюсь в неведении касательно шестидесяти – так? – шестидесяти гребцов. Каким образом намереваешься ты вынудить к молчанию подобную ватагу?
– Проста, госпожа?..
– Десять человек боевого экипажа – понятно. А шестьдесят уст запечатать – совсем иное дело. Можно, разумеется, тайно приобрести в Египте крепких рабов, однако твой же опыт убедительно и неопровержимо доказывает: грести надо не за страх, а за совесть.
Этруск согласно кивнул.
– И..?
– Если не ошибаюсь, госпожа, – медленно сказал этруск, – Та-Кемет переживает сейчас далеко не лучшие времена.
– Совершенно верно. Мой царственный собрат Сенусерт...
– Жизнь, здоровье, сила! – ухмыльнулся Расенна.
Услыхав непременную формулу, изрекаемую подданными фараона всякий раз, когда заходила речь о владыке, чье имя, кстати, строго возбранялось произносить вслух, – услыхав эту формулу из уст северного разбойника, царица сперва недоуменно осеклась, а затем порозовела от гнева.
– Во-первых, – молвила она с расстановкой, – не смей и не дерзай балагурить, говоря о богоравном сыне Ра! Во-вторых, ты перебил меня, Расенна!
Этруск покаянно склонился. И выпрямился отнюдь не сразу. Он и сам понял, что преступил грань дозволенного.
– Мой царственный собрат Сенусерт, – продолжила Арсиноя ровно и дружелюбно, – сообщает о великом и сокрушительном нашествии кочевников из племени хекау-хасут. Мы зовем их гиксосами.
– С твоего дозволения, госпожа!
– Да?
– Чего же нам еще?
– Не понимаю...
– Эти паршивые скотоводы укрепились в Дельте, построили там свою твердыню Хат-Уарит...
– По-нашему, Аварис, – вставила Арсиноя.
– ... и, подобно спруту-губителю, распускают щупальца по всей стране. Та-Кемет страждет, насколько ведаю, неописуемо. Воюет, сопротивляется, платит неимоверную дань. Спит и видит, как бы избавиться от азиатской чумы.
– Правильно.
– Почему бы Криту не придти на помощь фараону?
– Да потому, – недовольно сказала Арсиноя, – что и соединенные усилия будут бесполезны. В морском бою мы, безусловно, разделались бы с любым противником. А на суше гиксосы легко разобьют оба войска. Это ведь не одно племя, это союз многих могучих народов, их рати неисчислимы, закалены, победоносны. И Та-Кемету не пособим, и себя погубим. Стоит ослабеть военной силе острова – и толпы северных варваров хлынут потоком, пройдут лютой ордой, не оставят камня на камне.
– А если бы те же варвары соединенными усилиями обрушились на гиксосов?
Арсиноя недоуменно вскинула брови.
– Презрение жителей Кемт к иным народам общеизвестно, – молвил Расенна, выдержав кратчайшую паузу. – Любой уроженец Египта не колеблясь погубит весь остальной мир, дабы любимая родина цвела и благоденствовала. Кажется, у них – да, именно у них! – рабы-чужеземцы называются живыми мертвецами.
Царицу слегка передернуло.
– Отправь меня тайным посланцем к фараону. Я свободно говорю по-египетски. – Расенна умолк и выждал.
– Зачем? – осведомилась Арсиноя.
– Думается, как раз уложусь в оставшиеся по условию полтора месяца.
– Зачем? – повторила царица.
– Я убежден, что шестьдесят крепких рабов, приговоренных к смерти в каменоломнях, у Сенусерта разыщутся.
– Послушай! – вскипела государыня. – Верховная жрица Элеана имеет столь же мерзкую манеру говорить! Но ты, сделай милость, изъясняйся вразумительно! Довольно с меня и одной особы, не снисходящей до немедленного ответа собеседнику! Понял?
– Да, госпожа. Мы посулим фараону содействие всех обитателей Архипелага, всех береговых царей и царьков. Не сразу, разумеется, а через год-полтора. Для этого потребуется малость: набрать достаточно высокородных заложников. Я представлю дело так, будто царь Идоменей возражает против подобного плана, а ты, госпожа, стремишься помочь и намерена действовать скрытно. Я даже изложу на ухо фараону правду, чистую правду и ничего, кроме правды. Но, разумеется, не всю правду, – прибавил Расенна с улыбкой. – Он поверит. Шестьдесят рабов – не ахти какое богатство по мерке властелина. А я уведомляю, что полагаться на скромность критских гребцов невозможно. Скрытность в подобном деле – залог успеха. И фараон прекрасно поймет. Рискует он крохой, а приобрести может все царство. Собственное, кстати сказать... Отцы, спасающие детей, мужья, выручающие жен, едва ли откажутся выслать по десятку боевых кораблей, дабы сохранить и возвратить близких. А соединенный флот, союзное войско будут огромны.
– И что потом? Ведь затея твоя – ложь, и полнейшая!
– А потом – ничего, – улыбнулся Расенна. – Через год, не позднее, во главе Та-Кемета встанет царь из племени хекау-хасут. Положись на мое слово, госпожа. Фараон уйдет, а благодарные мне гребцы останутся.
– Ну и ну! – только и смогла сказать Арсиноя.
* * *
Скалистый, бесплодный остров на полпути меж Киферой и Критом издавна служил этруску надежным убежищем. Теперь же местоположение и природные особенности безымянного клочка необитаемой суши становились попросту неоценимыми.
Длинный, узкий, похожий на горное ущелье залив заканчивался просторным, далеко углублявшимся в каменную твердь гротом, где миопарона приютилась удобно и неприметно для постороннего глаза.
Там же, в гроте, на обширных надводных выступах, были устроены склады оружия и провианта. Предусмотрительный Расенна велел запечатать все это в наглухо засмоленные бочки, в муравленные свинцом и облитые толстым слоем воска глиняные сосуды.
Ибо пагубное воздействие морской влаги на вещи, подлежащие длительному хранению, знал великолепно.
Подобно сказочному чудовищу, этруск обустроил себе тайное логово в недрах возносившейся над водами горы, готовясь выбраться наружу и взыскивать с островов и побережий пресловутую дань – прекрасных пленниц.
Разноплеменные гребцы, спасенные от медленной и страшной смерти в египетских каменоломнях и рудниках, извлеченные из вонючих шене[33]33
Жилища-тюрьмы, где содержали рабов.
[Закрыть], дышали вольным воздухом Средиземноморья, спали вволю, ели до отвала и взирали на Расенну собачьими глазами.
Десять головорезов, узнавшие, под чьим началом и за какую плату предстоит плавать, предвкушая грядущие приключения, с особым смаком воздавали должное обильному запасу критских вин и повиновались беспрекословно, ибо грозный этруск оказался начальником строгим, но справедливым, требовательным, но заботливым.
Единственной печалью и заботой Расенны стал смуглолицый, широкоплечий Гирр.
Хитрый, однако вовсе не умный, Рефий приставил к архипирату надзирателем самого доверенного своего молодца. Расенна возражал, приводил многочисленные доводы против, но Рефий был неколебим: сказал – как отрезал.
А отмерять семь раз начальник дворцовой стражи попросту не умел.
В итоге, рядом с этруском очутился дерзкий, самоуверенный, наглый человек, едва ли уступавший Расенне физической силой, а посему полагавший священным долгом и неотъемлемым правом своим совать крючковатый нос везде и всюду, – где нужно и где не нужно.
– Я тебе не подчиняюсь, – уведомил он Расенну при первом же удобном случае. – Я за тобою присматриваю, понял?
– Конечно, – улыбнулся разбойник – Поставлен в известность, и отнюдь не возражаю. Сам бы сделал то же самое на месте государыни и Рефия. Однако не возьму в толк: чего ради вздорить людям, идущим на опасное предприятие плечом к плечу?
Гирр презрительно фыркнул и не удостоил этруска ответом.
Расенна лишь плечами пожал.
– И не надейся, – внятно и внушительно произнес критянин, – спины я тебе не подставлю. А сплю – как собака, вполглаза. Понял?
Этруск от души расхохотался:
– Я намерен заслужить обещанную государыней плату. И ради этого принужден беречь тебя, драгоценного, пуще зеницы ока. Не опасайся подлости... Но помни: одно условие, непременное и непреложное, мною поставлено. И царица, и Рефий признали, его разумным.
– Какое еще условие?
– Ежели словом или делом вмешаешься в мои распоряжения на походе либо, того хуже, при захвате – убью на месте. Искрошу. Как червяка дождевого, – спокойно закончил Расенна.
Обозрел вытянувшуюся физиономию Гирра и заботливо полюбопытствовал:
– Понял?..
* * *
От кого и как умудрился получить мнимоубитый этруск первое нужное известие, неизвестно. Полагаю, Расенне удалось-таки наладить скрытое сообщение меж безымянным островком и окружающими землями, но утверждать наверняка не берусь.
Равным образом, не постигаю легкомыслия, с которым юные обитательницы тогдашних побережий – от скромной служанки до царской дочери – бегали плескаться в хризолитовых морских волнах, отбеливать холсты на прокаленном добела мелкозернистом песке, собирать мидий и морские гребешки, служивших лакомым дополнением к ежедневному столу, резвиться, загорать, распевать беззаботные песни.
Тринакрия[34]34
Сицилия.
[Закрыть], уже в те отдаленные времена снискавшая славу средиземноморской житницы, была страною куда более цветущей, богатой, многолюдной, нежели в последующие столетия, за вычетом, пожалуй, нашего – двадцатого.
Колосились необозримые поля пшеницы и ячменя. Шелестели густой листвой неисчислимые оливковые деревья. Зрели по склонам пологих гор виноградные лозы. Тяжкие, налитые соками смоквы тысячами падали наземь, обращаясь перегноем, удобряя почву свежими туками, поскольку недоставало рук, дабы полностью собирать неслыханные урожаи.
А рук на острове было отнюдь не мало: плодородная Тринакрия изобиловала населением. Разгромленный впоследствии, остров опять заселился около восьмого века, но уже не сравнялся в пышности с тем, чем был прежде.
Великое множество народу обитало в благодатном краю – пастухи, виноградари, земледельцы, рыболовы, ремесленники, торговцы, вельможи... Города и городки, поселки и деревеньки, виллы, стоявшие в горделивом одиночестве, лачуги, стыдливо ютившиеся поодаль от более приглядных построек – все жило трудолюбивой, вполне или относительно сытой и счастливой жизнью.
Там, где впоследствии возникли Сиракузы, цвела столица, чье название утрачено для истории. Оттуда повелевал и властвовал Тринакрией царь, имя которого безвозвратно забыто. Но его дочь заслуженно славилась неописуемой своею красотой, и молва о несравненной прелестнице передавалась из уст в уста.
Неэра.
Так нарекли эту очаровательную девушку лет за восемнадцать или девятнадцать до того вечера, когда Расенна пустился в первый набег из числа свершенных по воле царицы Арсинои.
* * *
Тонконогую, сильную лошадь выпрягли из легкой колесницы и отпустили пастись чуть поодаль, где кончались пески, а неширокая полоса цветов и трав постепенно переходила в опушку молодой рощи.
Солнце еще только вставало, но насквозь прогретые прибрежные воды не успевали сколько-нибудь заметно остыть в продолжение короткой летней ночи, и должны были объять купальщиц струями парного молока.
Царевна скинула одежды; явившиеся вослед повозке веселые подруги проделали то же самое, и вся бойкая стайка с визгом, плеском и брызгами ринулась в море. Купаться поутру, плавать, нырять, поднимать самоцветную гальку со дна и состязаться: кому попадется лучше и больше!..
Потом сушить под легким, ласкающим бризом промокшие волосы, наскоро завтракать под негустой сенью тонких деревьев, снова запрягать лошадь и торопиться домой, к привычным ежедневным занятиям.
Это вошло у Неэры в неукоснительный обычай.
О котором знали, на беду, слишком многие.
Побарахтавшись у самого берега, вдоволь посмеявшись, позабавившись, девушки наперегонки ринулись плыть к одиноко торчавшей приблизительно в пятистах локтях расстояния скале. Привычное состязание в проворстве: туда и обратно – кто первый? Точнее, первая?
Лишь панически боявшаяся акул Миртала ни разу не участвовала в этих дружеских соревнованиях и с примерным терпением сносила насмешки, отнюдь не всегда безобидные. Но юную особу, на глазах которой морское чудовище однажды перерезало пополам человека, пытавшегося высвободить застрявший меж камней корабельный якорь, можно было понять.
Миртала страшилась глубины, прозрачной бездны, из которой, того и гляди, могло возникнуть нечто ужасное, хищное, неодолимое. Пусть язвят, ежели угодно!.. У песчаной кромки мелко, зато безопасно... Сами поглядели бы на тучу багровой крови, клубившуюся и распространявшуюся в кристально чистой хляби, сами услышали бы, как булькает и внезапно смолкает отчаянный предсмертный вопль ныряльщика, уже почти достигшего спасительного каната, конца, поспешно выброшенного за борт по команде, отданной капитаном, отцом десятилетней Мирталы!
Семь весен миновало, а девушка до сих пор не решалась входить в морские волны глубже, нежели по пояс, и всячески противилась любым приглашениям совершить прогулку в лодке. Воспоминание оказалось неизгладимым.
Возникший из-за ближайшего мыса низкобортный, длинный корабль под несуразно большим парусом не вызвал у Мирталы ни любопытства, ни беспокойства. Тринакрийские суда сновали вдоль острова от восхода до заката; моряки часто приветствовали купальщиц задорными возгласами, а те отвечали не менее задорно, махали поднятыми над водой руками, смеялись.
Правда, корабль выглядел немного странно: весь голубовато-зеленый, в тон волне; и парус был такого же необычного цвета. Но так уж, видно, заблагорассудилось владельцу.
Хруст песка за спиной заставил девушку проворно обернуться.
Пятеро незнакомцев, появившихся неведомо откуда (Расенна еще накануне вечером велел половине боевого экипажа укрыться в рощице), быстрым шагом близились к ней. Полуголые, бронзовые от загара, атлеты – воины или моряки.
Миргала вскрикнула.
– Молчать! – произнес один из пришельцев столь внушительно и зловеще, что девушка и впрямь умолкла от испуга. – Молчать, козочка!
Ременная петля в мгновение ока стянула руки Мирталы за спиной, другая обвила голени. Глядя на полированный бронзовый клинок, блестевший неподалеку от горла, ошарашенная девушка и не помыслила ослушаться.
– Полежи на песочке, отдохни, – сказал тот же голос. – Подружки вернутся и развяжут. Если заорешь, погибнешь...
Незнакомцы рассыпались редкой, вытянутой цепью и проворно бросились в теплые волны, стремясь вослед царевне и остальным пловчихам, чьи головы уже превратились в едва различимые среди сверкающей хляби темные точки.
* * *
Семилетний Эврибат, получавший образование сообразно своевольным распоряжениям Арсинои, вопреки существовавшим традициям усваивал египетский язык сызмальства. Он примостился в светлом, уютном покое на искусно вырезанной из слоновой кости скамеечке, устроил на коленях навощенную складную дощечку, приготовил стило, но не выводил сложных, замысловатых знаков, а только внимал плавно льющейся речи та-кеметского писца, зачисленного в придворные наставники.
– Обрати же свое сердце к книгам... Смотри, нет ничего выше книг! Если писец имеет должность в столице, то не будет там нищим. О, если бы я мог заставить тебя полюбить книги больше, чем твою мать, если бы я мог показать перед тобой их красоты![35]35
Заимствовано из «Поучений Ахтоя».
[Закрыть]
Восседавшая рядом Арсиноя украдкой подмигнула Эврибату и послала ему незаметный воздушный поцелуй.
– Я не стану любить книги больше, чем люблю Сини! – капризно возвестил царевич. – Я вообще не люблю книг! Они ужасно скучны! А Сини всегда рассказывает интересно!
Арсиноя улыбнулась.
Мудрый Менкаура, обязавшийся учить наследника всяческим и всевозможным премудростям вплоть до совершеннолетия, только вздохнул – мысленно.
За истекшие полгода египтянин успел нажить несомненную и устойчивую неприязнь к взбалмошному, строптивому, ничем на свете неспособному заинтересоваться по-настоящему, Эврибату.
Да и к венценосной матери его тоже.
«Поразительно! Дитя по самой природе своей жаждет познаний! Не школьных, нет, ибо школа налагает узду, вынуждает идти в направлениях скучноватых, утомительных, бесцельных с первого взгляда... Но любой ребенок охотно и неудержимо познает, забавляясь, играя, становясь бурлящей частичкой окружающего мира. Этот же ленив душой и нелюбопытен разумом».
Такие мысли вспорхнули в мозгу Менкауры и унеслись прочь подобно стайке вспугнутых воробьев.
Эврибат и впрямь не увлекался ничем.
Игрушки – драгоценные, блистательные, сотворенные умелыми дворцовыми ювелирами; хитроумные и замысловатые, не столь роскошные, зато самодвижущиеся, изготовленные мастером Эпеем, – занимали ребенка на часок-другой, а затем отправлялись валяться и пылиться по саморазличным уголкам бесчисленных покоев.