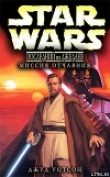Текст книги "Критская Телица"
Автор книги: Эрик Хелм
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
– Успела опоить? – еле слышно спросила верховную жрицу Алькандра.
Элеана скосила глаза и кивнула.
Противоправная случка явно прекратила огорчать придворную. Мелита перекатывала голову по креслу, взвизгивала, вскрикивала, но слез уже не замечалось, а рыдания свидетельствовали вовсе не об ужасе перед вершившимся надругательством.
Алькандра состроила гримаску.
– Тебе виднее... Только мы, кажется, собирались наказывать, а, по сути, поощряем, – сказала она шепотом.
Слегка улыбнувшись, верховная жрица ответила.
Столь же тихо:
– Мелиту принудили отдаться кобелю. Разделенные восторги безусловно удваивают срам. Поняла?
Взор Элеаны упал на Кимбра.
– И, возможно, бесчестье утроится...
* * *
Время близилось к полуночи.
Арсиноя с Идоменеем разжали объятия, потрудившийся уд выскочил из маленького нежного влагалища; царь перекатился на спину.
Его одиннадцатилетняя жена только вздохнула – правда, громко и выразительно.
Лавагет пригубил стоявший в изголовье кубок разбавленного цекубского, протянул девочке.
Сделав глоток более долгий и глубокий, Арсиноя повернулась к мужу, приподнялась на локте, игриво ткнула Идоменея пальцем в бок.
– Э-эй!
– Что? – осведомился государь, созерцая росписи на потолке.
При слабом огне серебряного светильника они производили впечатление довольно блеклое и невыразительное. Впрочем, художества и виршеплетство не слишком-то занимали Идоменея и средь бела дня, а из мелодических изысков он предпочитал, в основном, военные ритмы, и еще походные флейты келевстов, монотонно подвывавшие, дабы гребцы не сбивались и не утрачивали равномерный такт. Этой же цели успешно служили уже упоминавшиеся ранее барабаны, да ведь и самый здоровенный детина отмашет руку до самого плеча, колотя по звонкой овечьей коже несколько часов кряду.
Царю было скучно.
Поутру он успел проведать Аспазию. Полусонная оживилась и воспряла буквально через минуту. И, уже не стесненная приказом Элеаны, отпустила себя на совершенную волю.
После такой постельной скачки человек на два-три десятка лет постарше государя, вероятно, уснул бы прямо за пиршественным столом, однако нерастраченные отроческие силы сообщали Идоменею выносливость, которую сам он, по неопытности, принимал как нечто должное и единственно возможное.
Неоформившаяся юная жена казалась по сравнению с роскошной любовницей созданием тощим, пресным и неумелым. А вдобавок, раздражающе назойливым. Супружеский долг Идоменей уплатил исправно, а дополнительные щедроты расточать не стремился.
Да и не выучишься же этому за одну, пускай и отменно изобильную страстями, ночь.
Царь глядел в потолок, рассеянно мечтая об Аспазии.
– Э-эй! – игриво повторила девочка.
Вернее, маленькая женщина.
– Угу, – бесцветным голосом отозвался лавагет.
. – Тебе неинтересно со мною или просто не интересно?
– А?
– Я тебе не нравлюсь?
Разумеется, так и было. Человек постарше на лету сочинил бы утешительную ложь или наотмашь ударил бы чистосердечной правдой – по настроению, склонностям, расчету... Но царь-отрок, не искушенный в жизненных тонкостях, только скривился: искренне и раздраженно.
* * *
Кто решится бросить камень в неопытного и не слишком-то умного от природы мальчишку? Я, пожалуй, воздержусь. Читателю оставляю полную свободу суждения. Угодно – разбрасывайте, угодно – собирайте, и старый добрый Экклезиаст, родившийся куда позднее описываемых нами событий, да наставит и вразумит вас в окончательном образе действий.
Впрочем, вынужден отметить: минутное Идоменеево раздражение надолго отпечатлелось в истории острова Крит и учинило множество крупных и мелких неприятностей всему Эгейскому архипелагу.
Такова история.
Ничего не попишешь.
Пуля, не вовремя угодившая в пятку, заставляет гениального полководца проиграть заведомо выгодную битву[26]26
Хелм, безусловно, имеет в виду Полтавское сражение. Позволим себе усомниться в авторском выводе.
[Закрыть], а другая пуля, выпущенная дрожащей, прыгающей рукой прыщавого, полоумного юнца, чинит миллионы смертей.[27]27
Убийство эрц-герцога Франца-Фердинанда в Сараеве, ставшее поводом для первой мировой войны.
[Закрыть] Первая весила граммов пятнадцать (кавалерийский карабин восемнадцатого века), вторая – приблизительно пять-шесть (малокалиберный револьвер века двадцатого).
Два никчемных свинцовых слиточка... Да что я, в самом-то деле! Слиточка? Паршивых, легковесных капель отвердевшего металла...
А сколько весит мимолетная гримаса?
Риторический вопрос. И проста мне его, дорогой читатель.
Конечно же, гримаса не весит ни грана, ни карата, ни пылинки.
Но может оказаться не легче свинца.
* * *
И пошло, и поехало, и сдвинулось, и поплыло, и понеслось на всех парусах.
Описывать воспоследовавшую сцену излишне: малоинтересно излагать бурную и весьма наивную перебранку двух подростков. Ограничимся упоминанием о том, что Арсиноя была от природы горда и самолюбива, Идоменей – упрям и вспыльчив (незаурядное умение сдерживаться и укрощать первый необузданный порыв пришло к царю-воину только многие годы спустя).
Вторая ночь венценосной пары оказалась предпоследней.
Ухищрения Элеаны, сделавшей все мыслимое и немыслимое, дабы скрыть и замять высочайший государственный раздор, составили бы предмет отдельной и не особенно тонкой книги. Скажем лишь: никто, кроме Алькандры и Ифтимы, – даже искушенная Аспазия, – не проведали истины. Тем паче, утолив первый отроческий жар, Идоменей столь самозабвенно отдался изучению воинской и мореходной науки под руководством опекуна Халка, что в изрядной степени утратил прежнюю свою неукротимость.
Сочтя безумные события предшествовавших суток заслуженной карой, которую ниспослал Апис провинившимся перед законом служительницам, Элеана стала блюсти вековые устои с утроенным рвением. Как и чем укротила она своенравную повелительницу, неведомо – государыня и верховная жрица беседовали при надежно запертых дверях, в маленьком покое, стенам которого начисто отсекли уши еще при постройке дворца.
Достоверно известно, что ни единожды впоследствии не преступила Арсиноя третьего основного уложения в открытую. Ни разу (не считая, разумеется, Сильвии, но читателю уже ведомы обстоятельства этого пикантного дела) не покусилась она соблазнить критянку.
Ифтиму чуть позже услали в далекий Фест, подальше от греха и соблазна.
Вместе с Мелитой, познавшей сначала пса, а затем – его хозяина. Кимбр отнюдь не был брезглив, а питомца содержал в исправной чистоте.
Капитан Эсон, приведенный к торжественному обету блюсти молчание, сделался тайным любовником юной повелительницы, дабы последняя, потеряв голову, не натворила глупостей, уже не поддающихся ни умолчанию, ни сокрытию. Забеременела Арсиноя лишь восемь лет спустя – по царским меркам довольно-таки поздно, хотя ныне полузабытые травные секреты дозволяли менее высокопоставленным критянкам оказываться в тягости гораздо позднее уроженок Архипелага, Та-Кемета, Малой Азии, что весьма способствовало женскому здоровью.
Именно тогда, через восемь лет, исхитрилась Арсиноя завлечь единокровного супруга на свое ложе, и эта ночь стала последней в их необычной чувственной связи. Но появление на свет маленького Эврибата, по счастью, бывшего точной копией матери, а не отца, надлежало пояснить, а престолонаследие ни в коем случае не было возможно ставить в опасность.
С тех пор Идоменей и Арсиноя жили, в сущности, порознь. Царь проводил в походах львиную долю времени; царица, вручив ребенка попечению кормилиц и нянек, чередовала скуку с утехами, то пребывая в одиночестве, то лаская красавца Эсона, то безысходно тоскуя по Ифтиме.
И томясь по множеству придворных дам...
Однако и законы, и нравы Крита решительно препятствовали ей утолить вожделение не иначе, как в минуты одиноких ласк, расточаемых себе самой в тишине и полумраке опочивальни.
А рабства, читатель уже знает, на острове не существовало. Приобрести наложницу нечего было и мечтать.
Что касается мастера Эпея, аттический умелец покончил в далекое солнечное утро с пузатой амфорой, слегка подправив написанное накануне, отоспался и долгое время не решался осушать больше одного кубка за один раз.
И то не слишком часто...
Миновало шестнадцать весен.
Глава четвертая. Расенна
И снова по волнам помчалась ладья, Покорна устам бореады...
Бакхилид. Перевод И. Анненского
Часам к семи вечера остров начал задыхаться.
В лачугах и хижинах, домах и виллах, в покоях Кидонского дворца воздух неожиданно сгустился, замер. И, чуть помедлив снаружи, за пределами хранительных стен, сперва закружился, потом взвихрился, а после завыл и завертелся подобно весеннему потоку талых вод.
Застонали и заныли в предгорьях огромные алеппские сосны; отчаянно размахивая мелкими ветвями, расшелестелись, разволновались вековые дубы; начали гнуться и качаться, отчаянно скрипя, высоченные кипарисы.
И, точно животные, почуявшие приближение проливного дождя, заметались корабли в бухте, стали форштевнями по ветру, принялись отчаянно выбирать якоря, готовясь выйти в открытое море, дабы принять удар и натиск штормового ветра подальше от берега, родного в тихую погоду и смертоносного в грозный час, когда налетает буря.
На каждом суденышке – от боевых галер до хрупких скорлупок – суетились люди, то по нескольку десятков на огромных пентеконтерах, то по двое или трое на утлых маленьких посудинках.
Ветер крепчал.
Он срывал с гребней возносившихся волн белопенную пыль, долетавшую до самой городской черты, свистел в горных ущельях, гнал над хребтами и плоскогорьями тяжелые свинцовые тучи.
У отрогов Иды, на расстоянии нескольких миль, сгустился, упер в землю острый хоботок и двинулся блуждать по скалам и кустарникам смерч, издали выглядевший маленьким, почти игрушечным, но суливший окрестным рощам опустошение полное и совершенное.
Весть разнеслась по городу молниеносно, и вскоре женщины и мужчины принялись осторожно, точно кролики из норок, высовываться из дверей, позабыв о ветре, приоткрыв рты, отчаянно гадая, куда же двинется чудовище, смахивающее на исполинскую, изготовившуюся к удару, кобру.
Сначала медленно, а затем все быстрее черная колонна принялась делиться надвое, подобно сталактиту и сталагмиту, Но известковые натеки, сокрытые в подземных пещерах и гротах, никому не сулят гибели... Верхняя часть столба оторвалась, ушла под самые тучи, а нижняя осела, ринулась вперед – неукротимо, неудержимо; достигла береговой черты дальше к востоку, за устьем реки, за массивным гранитным мысом, ударилась о древние каменные пласты, снесла траву и почву, обнажила зернистую, сверкающую блестками кварца коренную породу.
И опала.
Расшиблась вдребезги, словно стеклянный кубок, – редкостная и драгоценная вещь, изредка привозимая в поместительных трюмах сидонскими корабельщиками.
Дружный, невыразимый вздох облегчения пронесся по городу.
* * *
Пентеконтера «Ферасия»[28]28
Критская богиня охоты; соответствовала греческой Артемиде.
[Закрыть], вопреки всем уложениям о мореходстве и воинским уставам, поспешно покидала гавань, ведомая не капитаном, а келевстом.
Но обстоятельства были чрезвычайными, а капитан при самом пылком желании вряд ли смог бы распоряжаться маневром, ибо находился не на борту, а в Кидонском дворце, в тронном зале, где величественно и надменно восседала царица Арсиноя.
Славный Эсимид хотел вручить государыне завидную, взятую с бою, добычу сам.
По правилам, судьбою захваченных пиратов распоряжался лавагет. Именно к нему, царю Идоменею, и следовало бы отправиться гордому победителю презренного, ненавистного, доселе неуловимого этруска; но царь уже с неделю странствовал где-то между островами Андрос и Хиос, беспощадно пуская ко дну всякое судно, пытавшееся пройти от Мизии до Пелопоннеса.
Карательная вылазка, ничего не попишешь, вздохнул Эсимид. Мизийцы обнаглели настолько, что взяли на абордаж четыре критских торговых корабля подряд – за каких-то полтора месяца. Пора было и честь знать.
Идоменей пропишет взбесившимся негодяям славное успокоительное снадобье, дождется надлежащего действия, после двинется к Лемносу – продолжительное врачевание; а коль скоро и этого покажется недостаточно, войдет в Адрамитский залив и дотла сожжет Аос и Антандр. На обратном же пути к югу обогнет Лесбос и наведается в Атарней, Мирину, Кимы.
Предерзостных чужестранцев надлежало смирять решительно, быстро и безжалостно.
Критские города испокон веку не имели крепостных стен – дело по тогдашним временам неслыханное. Однако морское могущество острова также было неслыханным, и под защитой победоносного, тысячекратно испытанного флота, в сущности, не ведавшего поражений, Крит процветал, не испытывая ни малейшей нужды возводить циклопические оборонительные сооружения, которыми славились, например, златообильные Микены.
Раздираемый войнами и разбоем Пелопоннес весьма тщательно заботился о возможности уснуть спокойно и пробудиться на земле, а не в замогильном царстве.
Беспечный, давным-давно позабывший о междоусобицах Крит лишь изумлялся кровожадной дикости эллинских варваров. Хотя, много ли возьмешь с публики, без зазрения совести продающей и покупающей себе подобных, словно это овцы либо козы несмысленные?
Впрочем, по рабовладельческой части греки были сравнительно человеколюбивы, чего не скажешь ни о звероподобных шумерах, ни даже о сравнительно цивилизованных египтянах, которые неизменно поражали кефтов сочетанием утонченной культуры с изощренной жестокостью.
Буря нарастала.
Волны свирепствовали.
Келевст велел незамедлительно убрать парус, вынуть мачту из гнезда, высушить верхний ряд весел.
«Ферасия» стремилась навстречу изогнутым, злобно шипящим валам, рассекала их могучим тараном, взлетала, кланялась.
Обгоняла прочие, более мелкие, суда – военные и рыбацкие.
* * *
Этруск, обдумавший на досуге свое печальное положение, смирился с неизбежным, дерзко глядел в лицо Арсиное и хранил полное внешнее спокойствие.
– На колени, собака! – негромко велел начальник стражи Рефий и сверху вниз ударил Расенну огромным кулачищем по уязвимому, чрезвычайно болезненному месту, где шея переходит в плечо.
Ударил неожиданно, сзади.
Будь шея чуть потоньше, плечи слегка поуже, не превосходи пират своего обидчика и ростом и весом, он уже навряд ли поднялся бы с полированного гранитного пола.
Эсимид и бровью не повел.
Четверо воинов, стоявших по бокам с клинками наголо, – тем паче.
Арсиноя скривилась:
– Довольно, Рефий! Подними чужеземца.
Что и было исполнено.
Едва не лишившийся чувств этруск помотал головою, прогоняя плававший перед помутившимся взором туман. Расенну подхватили под скрученные руки, вновь утвердили стоймя.
– Захвачен близ мыса Малея, госпожа, – почтительно доложил капитан. – Корабль пошел ко дну, кроме старшего, не уцелел ни единый.
– Наши потери? – спросила Арсиноя.
– Ни убитых, ни раненых, государыня. В корпусе, правда, обнаружилась после таранного удара маленькая течь, но ее глухо законопатили в пути.
– Ты молодец, мой добрый Эсимид. Государь наградит за этот подвиг особо, а благоволение государыни, – улыбнулась Арсиноя, – уже снискано. Теперь все-таки назови имя пленника...
Эсимид, желая произвести наибольшее возможное впечатление, сказал Рефию, что захватил исключительного негодяя, коего надлежит немедля поставить перед очами царицы для заслуженной и справедливой кары.
– Кого ты сцапал? – осведомился Рефий.
– Не порти удовольствия ни себе, ни мне, ни госпоже, – подмигнул Эсимид. – Как только повелительница узрит эту сволочь, я произнесу имя. Обеспечь надежную стражу.
Рефий поморщился. Прекословить командиру дворцовой охраны осмеливались лишь моряки – и лишь немногие. Но Эсимид пользовался вполне заслуженной репутацией отважного сорвиголовы, был царским любимцем, а в довершение всего временно командовал кораблями, отвечавшими за безопасность окрестных вод.
Вступать в никчемную перепалку самолюбивому Рефию не хотелось. Знаменитое упрямство Эсимида служило притчей во языцех. А называть имя пойманного среди морской хляби кому-либо, кроме самого лавагета, капитан и впрямь не был обязан.
– Гарпии с тобой, – ухмыльнулся Рефий. – Ишь, любитель загадок выискался! Скотина по-настоящему опасна?
– Будь покоен!
– Тогда не обессудь, путы проверю самолично...
– Государыня, – склонился и выпрямился Эсимид, – госпожа! Перед тобою знаменитый, неуловимый, ненавистный всем обитателям Внутреннего моря пират Расенна!
Вопреки простейшим правилам дворцового этикета, Рефий присвистнул. Впрочем, он позволял себе известные вольности в обращении, особенно когда царь Идоменей отсутствовал.
Воины выпучили глаза.
Даже безукоризненно владевшая собственной мимикой Арсиноя слегка прищурилась.
– Это правда, чужеземец? – вопросила она после долгого безмолвия.
– Правда, – разлепил запекшиеся губы пленный этруск.
Безмолвие возобновилось.
– В котелок, – отчетливо и внятно мурлыкнул, наконец, Рефий. – С маслицем.
Подобной прилюдной наглости Арсиноя не могла спустить даже отменнейшему из любовников.
– Здесь распоряжаюсь я, – молвила царица ледяным голосом. – И ежели понадобится чей-либо совет, уведомлю сама. Ясно, Рефий?
– Так точно, госпожа! – отвечал тот, осознав оплошность.
Посреди тронного зала стоял в рваной набедренной повязке громадный, быкоподобный детина, заставлявший окружающих воинов казаться хрупкими по сравнению с ним. Расенна, – даже раненый, исхудавший, полузаморенный почти совершенным отсутствием воды и пищи на протяжении последней недели, – весил не меньше трех с половиной аттических талантов.
Бородатый, уже начинавший заметно лысеть, он смотрел на критскую владычицу невозмутимо, зная, что терять нечего, судьба передана в чужие руки и надобно лишь с гордым достоинством принять ее. Хотя упоминание о «котелке» заставило этруска внутренне содрогнуться, Расенна сохранил внешнее самообладание.
Разбить голову о каменную стену возможно, в конце концов, и при выходе...
– Расенна... – медленно произнесла Арсиноя. – Знаменитый, неуловимый, ненавистный... Ты верно выразился, Эсимид.
Расенна.
Человек, о чьих разбойничьих делах наперебой повествовали Идоменеевы капитаны. Человек, которого те же капитаны были не в силах изловить лет пятнадцать. Человек, имевший осведомителей на каждом острове Спорад и Киклад, во всяком городе греческих, малоазийских, латинских, африканских побережий и даже – сказывали – в самом Та-Кемете: замкнутом, наглухо отделенном от остального обитаемого мало-мальски просвещенными народами света, сообщавшемся с Ойкуменой лишь через тщательно охраняемую дельту Хапи – великого Нила... Человек, по слухам, способный похитить и невозбранно уволочь хоть сидонскую корону, хоть микенскую царевну...
Человек-невидимка.
Человек-легенда.
Хоть сидонскую корону...
Хоть микенскую царевну...
Арсиноя внезапно встрепенулась.
– Тебе известна казнь, положенная пиратам и убийцам, о Расенна?
– Теперь, кажется, да, – отвечал этруск, покосившись на Рефия.
– Ты можешь избежать ее. Остаться в живых. Сохранить свободу.
Расенна глядел исподлобья. Рефий, Эсимид и четверо дворцовых воинов едва не шлепнулись, но вовремя подтянулись, решив, будто повелительница просто забавляется с окаянным татем, дабы усугубить ужас последующего приговора. Любопытно, подумалось Рефию, – нежное создание, мне, грешному, не в пример. Поглядеть – мухи зазря не обидит. А сейчас наверняка произнесет пурпурными устами новый, неведомый приговор, по сравнению с коим котелок и маслице легкой смертью покажутся...
«Век живи – век учись,» – мысленно вздохнул начальник стражи.
– Рефий, – медленно произнесла Арсиноя, – своих людей наставишь особо, ты это сделаешь не хуже верховной жрицы. Тебя, Эсимид, я приведу к нерушимой клятве молчания сама. Экипажу передашь: этруск зарублен в тронном зале по приказу госпожи. Расенны больше нет.
Семеро мужчин взирали на Арсиною в полном недоумении: всяк ломал голову над собственными вихрящимися мыслями.
– Расенны больше нет. Объявите радостную весть во всеуслышание. А сейчас велите принести сюда вина и яств. Развяжите пирата и усадите в углу.
– Верно ли я понял тебя, госпожа? – спросил ушам не поверивший Рефий.
– Да. Речь идет о важнейшей государственной тайне. Слышишь, этруск?
Ошеломленный Расенна лишь головою кивнул.
– Будешь ли достаточно терпелив, чтобы выслушать предложение, которое тебе сделают, и вполне разумен, чтобы оценить сопутствующие выгоды?
– Да, госпожа, – молвил Расенна с еле уловимой надеждой.
– Прости, государыня, – возопил Рефий, – но я вынужден возразить! Путы останутся в неприкосновенности! Мерзавец может ринуться на тебя, ударить, убить, наконец! В качестве...
– Замолчи, – спокойно велела Арсиноя. – Расенна двадцать лет оставался неуловим. Дурак на подобное не способен, верно?
– Да.
– Не будучи дураком, он...
– Ему нечего терять!
– Есть, – сказала царица. – Если он попытается напасть, лишится жизни. Правильно, Расенна? Согласен?
– Согласен, госпожа, – сказал этруск. – Из этого зала нет выхода, а безоружному и раненому не справиться с шестерыми сразу. Даже, – криво ухмыльнулся Расенна, – если он заведомо сильнее каждого по отдельности.
Рефий оскалился, но промолчал.
– А если прислушается к обращенной к нему речи, уцелеет. И, повторяю, сохранит свободу. И награду обретет. Веришь ли ты повелительнице Крита, Расенна?
– Верю, госпожа, – произнес этруск после мгновенного колебания. – Убить меня любым способом возможно и сейчас – к чему хитрить с беззащитным пленником?
– Я права, – улыбнулась Арсиноя, – он и впрямь благоразумен. Повинуйся, Рефий, возражение отклоняется.
Клинок полоснул по крепчайшей коже ремней, связывающих запястья Расенны. Начальник стражи напрягся, воины подобрались. Капитан Эсимид еле заметно пожал плечами.
Этруск поморщился от резкой боли в затекших руках, однако не застонал и не охнул.
– Рефий, питье и пищу сюда, в тронный зал. Сперва подкрепись, этруск, побеседуем после.
Государыня поднялась и шагнула вперед.
– Еще мгновение, – молвила она. – С тобой, Рефий, разговор особый, не сейчас и не здесь. А ты, капитан Эсимид, и вы, четверо, клянитесь и присягайте чреслами Алисовыми хранить молчание обо всем услышанном...
Когда этруск, примостившись в дальнем углу, под искусно выписанной на стене ветвью, на которой беззвучно пела не менее искусно изображенная синяя птица, с волчьей жадностью накинулся на поданное, Арсиноя торопливо приказала:
– Теперь покиньте нас. И не вздумай подслушивать, Рефий.
– Я отвечаю за твою безопасность, госпожа! – взвился начальник стражи. – И не двинусь отсюда! Прости!
Арсиноя поманила пальцем, отвела Рефия в сторону, что-то прошептала ему на ухо.
– Кругом, марш! – скомандовал смуглый крепыш. – И ты, Эсимид, пожалуйста, удались.
– Дверь заложат снаружи бронзовым засовом, – сообщила царица Расенне. – Коль скоро тебе изменит здравомыслие, деваться будет некуда. Предупреждаю на всякий случай.
Не прекращая жевать, этруск закивал головой.
Еще самую малость поколебавшись, Рефий развернулся и вышел прочь. Послышался глухой и тяжкий лязг. Дверь замкнулась.
– Насыщайся, Расенна, – сказала повелительница. – Не спеши, я подожду и подумаю о своем.
Арсиноя вернулась к тронному креслу и поудобнее устроилась на барсовых шкурах.
Миновал без малого час.
– .... Прошу прощения, госпожа, – возразил Расенна. – Ты посулила мне жизнь и свободу.
– Безусловно, всецело и совершенно верно.
– Еще раз прости, но я не постигаю, как, услыхав и уведав подобное, можно остаться в живых. Подобные признания делают лишь тому, кого заранее полагают мертвецом. Ведь я не дурак, повелительница. Ты подметила, скажу безо всякого хвастовства, вполне справедливо.
– Да, – улыбнулась Арсиноя. – Но ведь и я не дура, согласись.
Этруск промолчал, выжидающе глядя на царицу.
– Расенна... – произнесла Арсиноя задумчиво. – Расенна, бич и проклятие Внутреннего моря. Нападающий нежданно, уходящий незаметно. Появляющийся, где не чают, исчезающий, куда не заподозрят. Не оставляющий следа...
– Смею надеяться, слухи о моем искусстве не слишком преувеличены, – скромно заметил этруск. – Я, действительно, обладаю кой-каким опытом в своем деле. Но пока, о госпожа, не разумею вполне, к чему клонится речь.
Расенна изрек сущую правду. Он уже отлично догадывался о причине, подвигшей царицу к невообразимой откровенности, однако оставался в неведении насчет предложения, которое вот-вот должно воспоследовать.
– Царской казною на Крите, – сказала Арсиноя, – распоряжается повелительница. Включая морские и военные расходы, о коих ее супруг, лавагет, ставит в известность либо заранее, либо впоследствии. Последнее, правда, лет пятьсот как относится к разряду чистейших условностей, но, тем не менее, это так, а не иначе. Ответь на один вопрос откровенно и без утайки, этруск. Ибо искренность – в твоих собственных интересах. Поверь. Ответишь – поймешь.
– Какого свойства предлагаемый вопрос, госпожа? – осведомился Расенна. – Если ты предложишь выдать осведомителей или совершить нечто сходное, отвечаю: нет.
– Великолепно! – воскликнула Арсиноя.
Этруск приподнял брови.
– А ежели, – прошипела царица, – пред тобою станет добровольный выбор: котел Рефия либо чистосердечная выдача доносчиков, а?
– Смерть в кипящем масле – не из легких, – задумчиво молвил Расенна. – Впрочем, грозить не советую.
– Что-о? – спросила Арсиноя.
– Твои телохранители, государыня, – добродушнейшим голосом уведомил этруск, – высланы вон. Я не душу, не ломаю костей, не борюсь. Я убиваю одним-единственным ударом кулака. Укладываю даже закаленных воинов. Тем паче, – прибавил он, криво ухмыльнувшись, – нежную, хрупкую, прекрасную собой женщину. Хотя, – продолжал Расенна, – внешняя прелесть к рукоприкладству и его итогам едва ли касательство имеет...
И совершенно по-детски, почти застенчиво, ухмыльнулся.
– Ты находишь меня прелестной, мерзкий разбойник? – проворковала Арсиноя тоном, исключавшим любую заведомую обиду.
– А кто бы не нашел, госпожа? – спросил пленник. – Разве только евнух карфагенский... Ну, да он, бедняга, не в счет и не в строку...
– Не в строку? Писать обучен?
– Разумею и говорю по-критски и по-египетски. По-гречески и по-вавилонски могу еще и писать...
– Эге-ей! – прервала Арсиноя. – Ты что же, чудище морское, меня самое образованностью превзошел? А, Расенна?
– Едва ли образованностью, – почтительно возразил этруск. – Опытом, так будет вернее.
– Постой, – сказала повелительница. – Кажется и сдается, мы отвлеклись... Повторяю: перед тобой сугубо добровольный выбор. Назови сообщников. Или ныряй в котел с кипящим маслом.
Сколь ни выдающейся умницей была Арсиноя, а допустила несомненный и очевидный просчет. Впрочем, любой нынешний шахматист подтвердит: играть в блицтурнире, где на каждый ход отводится не более пяти секунд (в лучшем случае), гораздо сложнее, чем разыгрывать спокойную партию, на которую даруется два с половиной часа времени (сорок ходов).
Царица совершила неизбежный при быстром обмене репликами промах.
Впрочем, безобидный и послуживший к обоюдной конечной выгоде.
Расенна отлично понял: его проверяют.
– Исключено, – произнес он решительным голосом.
И, со сноровкой истинного гроссмейстера, сделал немедленный «тихий ход»:
– Зови стражу. Стоило бы, конечно, убить тебя, о царица, да рука не поднимется. К сожалению...
Несколько мгновений Арсиноя разглядывала этруска в упор. Затем широко улыбнулась и молвила:
– Ответь без утайки на иной вопрос. Касается он лишь тебя.
– Если сумею, государыня.
– Сумеешь, коль пожелаешь. Сколько добывал ты за год злодейским разбоем, орудуя на собственный страх и риск?
«Добираемся до сути», – подумал Расенна.
Помедлил, наморщив лоб; мысленно подсчитал.
– Год на год не приходится, и лето лету рознь. В общем и среднем, талантов эдак сто десять-сто двадцать... Золотых талантов, разумеется, – прибавил этруск, дабы исключить возможные зацепки либо недопонимание.
– Для пирата...
– Архипирата, – поправил Расенна, уже вполне освоившийся в присутствии великой критянки.
– Что?
– Архипирата, госпожа. Именно так именуют меня от Геракловых Столпов до Меотийского Болота[29]29
Древнегреческое название Азовского моря.
[Закрыть].
– И туда забирался? – удивилась Арсиноя.
– Случалось, – ответил этруск. – Правда, разок-другой, не более. Поживы, почитай, никакой, а туземцы воинственны, и превесьма.
– Даже для архипирата... Немалое богатство, немалое!
Расенна пожал плечами.
– Но для царской казны, – сказала Арсиноя, слегка перегибаясь вперед, – ничтожная капля в море!
Расенна уставился прямо в расширенные зрачки царицы.
– Хочешь вернуться к ремеслу, в коем искушен сверх вообразимой меры, но зарабатывать не сто двадцать, а, скажем, на первых порах, двести пятьдесят золотых талантов? Если дело пойдет на лад, названная цифра будет неукоснительно увеличиваться. Верному, надежному, ловкому человеку я готова платить и пятьсот, и тысячу. Награда, как видишь, умножится, опасностей же и превратностей встретится куда меньше, чем прежде.
– Тебе требуется придворный пират, госпожа? – медленно спросил этруск.
– В известном смысле. Но, как ты, вероятно, догадываешься и сам, не грабитель, а похититель...
* * *
В последующие два месяца мастеру Эпею и начальнику стражи Рефию довелось потрудиться в поте лица – правда, на различные, совершенно несхожие лады. Но ни тот, ни другой не изведали ни минуты передышки, пока все требования, предъявленные привередливым этруском, не были исполнены безукоризненно точно.
. Впрочем, принимая во внимание условие Арсинои – полная, совершенная и наибезупречнейшая скрытность, – едва ли можно было счесть Расенну капризным. Официально зачисленный в покойники пират придирчиво командовал приготовлениями, запершись в отдаленнейшей комнате гинекея; учитывал всякую мелочь, заботился о каждой малости.
Низкую, ходкую тридцативесельную миопарону «Левка» приобрели на самом юге острова, в городе Фесте, у корабелов, построивших ее для финикийского купца, на самом деле промышлявшего работорговлей и нуждавшегося в судне более проворном, чем поместительном.
Веселый, развязный грек, облачившийся для разнообразия в обычный хитон (уж больно запоминалась окружающим несуразная кожаная туника) и выкрасивший светло-русые волосы в цвет воронова крыла, предложил владельцу верфи пятикратную мзду, и ошарашенный судостроитель с готовностью дозволил угнать ладью прямо из гавани в неизвестном направлении. Разбушевавшийся финикиец учинил немыслимый скандал, однако немного утихомирился, услыхав клятвенное обещание, что через пять недель получит новую посудину, отнюдь не хуже исчезнувшей.
Ловкий критянин оставался, таким образом, при чистом тройном барыше.
Миопарона обосновалась в глубокой, узкой, окруженной скалами бухте к западу от Кидонии, где и была поручена особым заботам Эпея. Протрудившись и проколдовав над корпусом вплоть до новолуния, мастер велел помощникам (приведенным к обету молчания и убежденным, будто обустраивают разведывательный корабль) вытащить судно из воды.
Киль облили расплавленным свинцом, несколько увеличив осадку, но при этом неизмеримо повысив устойчивость миопароны, которая могла теперь нести огромный парус и, разогнавшись, обретала инерцию неудержимую.