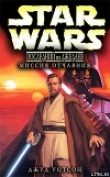Текст книги "Критская Телица"
Автор книги: Эрик Хелм
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Глава восьмая. Эврибат
Ласки запретной любви слаще дозволенных ласк.
Павел Силенциарий. Перевод Л. Блуменау
Мастер ошибался, утверждая, будто, кроме совокупления с быком, красавица Арсиноя испытала все и всем пресытилась.
Правда, ошибался Эпей весьма ненамного, ибо за месяц до вышеописанного ночного разговора на азотее царица имела весьма игривую беседу – тоже ночную – с верной своею наперсницей и любовницей Сильвией.
– Я скучаю, телочка! – пожаловалась Арсиноя.
Сильвия округлила глаза.
– С какой стати, Сини? Все идет изумительно хорошо! Девочку призвали к порядку, объездили, укротили. Теперь Елена и Сабина учат ее тонкостям... Потерпи денек-другой, получишь истинный цветочек страсти. Откуда скука? И, – лукаво прибавила молодая критянка, подмигивая белотелой государыне, – разве я уже не способна развлекать?
Арсиноя вздохнула.
– Дело не в тебе, сладость моя, дело во мне самой.
– Прости, не пойму...
– Достигнут предел изощренности. По крайней мере, не вижу, что еще можно измыслить. Не задумывалась, отчего я, изобретя новую потеху...
– И великолепную!
– ... отказалась ее вкусить?
– Конечно, задумывалась. И, честно сказать, ума не приложу, отчего. Пугливая и стыдливая митиленская козочка в итоге отдавалась, как вакханка. Я, прожженная распутница, – Сильвия улыбнулась, – чуть с ума не сошла во время... э-э-э... учений. Более упоительного развлечения, право же, не сыщется!
– Правильно. Привыкнешь, приохотишься... И приестся, подобно прочему. Исчезнет изначальная острота переживаний. А потом? Где искать новизны потом?
Сильвия закинула руки за голову и рассеянно уставилась в потолок.
– Пережитое тысячекратно перестает волновать по-настоящему, – продолжила Арсиноя. – А я испытала и пережила все вообразимое и представимое. Знаешь ведь.
– Знаю, – тихо сказала Сильвия. – Но, к примеру, под Аписа ты не ложилась?
Повелительница изумленно посмотрела на придворную. Обнаженное, сладострастное тело Сильвии отливало матовым блеском при неярком свете серебряных плошек. Устремленные на Арсиною глаза подернулись томной поволокой, соски напряглись.
– Нет, разумеется. Ведь это строго воспрещено, опомнись!
– Воспрещено Великим Советом. Значит, обойдемся без высокого дозволения...
– Не понимаю, – чуть слышно произнесла царица.
Сильвия рассмеялась.
– Пятидесятитрехлетняя дура Элеана давно утоляет вожделения с молодыми отроками...
Красавица неожиданно смолкла и замерла, приотворив уста. Казалось, ей внезапно пришла в голову ошеломительная мысль.
– Ну и что?
– Нет... ничего... Ах, да... В качестве верховной жрицы она ведь не имеет права развратничать напропалую? А ты, получается, должна блюсти законы тютелька в тютельку?
Арсиноя засмеялась в свой черед:
– Разве я блюду их?
– Вот-вот. Нарушишь еще один, и ни малейшего ущерба никому не будет. За чем дело стало? Закажи Эпею деревянную телицу, быка я подыщу своими силами; Рефий доставит животное во дворец...
– Сильвия!
– Именно животное, Сини! Ты-то хоть не разделяешь этих дурацких предрассудков?
Женщина повернулась на бок, обняла государыню за шею, задорно прибавила:
– И, надеюсь, даже твоих возможностей не хватит, чтобы полностью измотать эдакого любовничка... Останется малая толика и мне – за хорошую подсказку, за честные труды.
– Невозможно.
– Царица Билитис, – молвила Сильвия в ухо Арси-ное, – по соображению моему, была просто набитой дурой. Оттого и попалась. Но мы же...
– Сильвия, ради всех богов, замолчи! Ты понятия не имеешь, чем рискуешь, упоминая...
– Имею. Немедленная гибель от меча, ножа, дубинки... Но ты не станешь убивать меня, верно? И не выдашь.
– Почему «немедленная гибель»? – с расстановкой осведомилась Арсиноя. – Немедленная гибель, насколько понимаю, положена за разговоры об иных вещах. А судачить о царице Билитис не дозволено под страхом пожизненного изгнания – и только...
Сильвия загадочно усмехнулась и отмолчалась.
– Как бы ни было, – сказала царица, – обзаводиться собственной телкой чрезвычайно опасно. Кстати, а снадобье ритуальное откуда взять?
– Купить. У лекарей.
– Не продадут, побоятся.
– Рефия, моя радость, побоятся гораздо больше.
– Допустим. Но придется ведь жить в непрерывном страхе разоблачения, под острием висящего на волоске меча.
– Сини, прости ради всех богов, но ты просто поглупела.
Подобное замечание могло сойти безнаказанно лишь Сильвии.
– Уже семь лет, – невозмутимо продолжила придворная дама, пригубливая вино из помещенного в изголовье золотого кубка, – в южной части гинекея денно и нощно предаются поруганию все основные уложения и третий основной закон. Хоть единожды воспоследовала неприятность?
– Нет, но...
– И не воспоследует, ручалось. Ты пользуешься неслыханной доселе свободой и безнаказанностью. Так вышло. Стечение благоприятствующих обстоятельств. Начальник стражи, преданный тебе душой и телом...
Сильвия хихикнула.
– Верховная жрица, ногой не ступающая во дворец. Кстати, а почему?
– Что-то меж нею и Рефием приключилось...
– Отлично. Прислуга и придворные дамы, трепещущие при одном имени упомянутого начальника стражи, готовы скорей удавиться, нежели донести. Царственный супруг, тщательно избегающий совать нос в наши дела... Чего же еще? Заказывай Эпею телку, заказывай, Сини! Увидишь, все повернется к лучшему!
Сильвия сжала царицу в объятиях.
– Утро вечера мудренее. А сейчас поглядим, так ли надоели нам уже испытанные и многажды пережитые забавы...
Арсиноя широко разметала ноги, покорствуя бешеному натиску подруги, явившей истинные чудеса по части изощренного бесстыдства, и довольно скоро издала протяжный стон...
Когда ураганные ласки, наконец, утихли, государыня сомкнула веки, положила горячую ладонь на округлые ягодицы простершейся рядом любовницы и сказала:
– Пожалуй, ты права...
– В чем? – полюбопытствовала запыхавшаяся дама.
– Нужно призвать мастера. Он человек молчаливый.
– Эпей-то? Болтает напропалую!
– Не в этом суть... Можно болтать беспрестанно и не сказать ни единого лишнего слова. Здесь надобен ум, телочка. Эллин умен и надежен. Пускай потрудится, ты совершенно права.
– И ты, правда, позволишь мне забраться в телку?
– Правда, милая.
– Тогда обнимемся и уснем, уже светает!
Сильвия улыбалась, ибо давно подметила ускользавшую от внимания самой Арсинои вещь, сулившую царице небывалую остроту неведомых дотоле переживаний. Как вовремя и кстати вспомнилась придворной даме надменная и неприветливая Элеана! Как удачно!
«Пускай велит мастеру поторопиться... А уж я позабочусь, чтобы не заскучала, дожидаясь обещанного! Встрепенется, как миленькая, встрепенется!..»
Разумеется, ни Арсиноя, ни Сильвия не подозревали, что накануне, в далеких Афинах, критский посланник Менесфей был средь бела дня заколот на агоре[53]53
Агора – центральная афинская площадь, на которой проводились народные собрания.
[Закрыть] случайно оскорбленным пьяницей.
Афины содрогнулись.
Эллада насторожилась.
И отнюдь не напрасно.
* * *
Крейсировавший в Эгейском море капитан Поликтор принес ужасное известие неделю спустя. Идоменей несколько минут не мог и слова промолвить от ярости.
Всякое случалось.
Разноплеменные разбойники нападали на корабли кефтов, грабили, убивали моряков, неизменно платили за это сторицей. Чужеземные государи дерзили послам, велели убираться с глаз долой – и раскаивались.
Но убивать посла, представлявшего своей особой величайшую державу Средиземноморья, не решались уже давно, долгие десятилетия, а быть может, и века. Чересчур внушительную силу являл остров, простершийся «посреди виноцветного моря», слишком нерушимо было правило: за добро воздавай добром, а за причиненное зло – карай без малейшей пощады.
Возможностями карать Кефтиу располагал огромными.
Флот, предводительствуемый, для разнообразия, самим лавагетом, двинулся к северу тремя днями позднее. На траверзе Киферы критяне повстречали судно, поспешавшее из Афин с покорнейшими и униженными посланиями, гласившими, что преступник наказан по всей строгости, и ареоцаг всеусердно молит простить не повинный в случившемся город.
– Возвращайтесь, – коротко сказал Идоменей. – Оскорбления такого свойства не замаливают, а искупают.
Эскадра в составе тридцати пентеконтер, нескольких десятков малых гребных судов и царской триремы бросила якоря у входа в городскую гавань и высадила на берег пятитысячный десант.
Афины, еще уповавшие на успех красноречивых своих представителей, отплывших в сторону Крита несколькими сутками ранее, отнюдь не готовились к столь стремительному нашествию; Лавагет намеревался брать укрепления приступом, но Ареопаг рассудил за благо явить полнейшую покорность, впустить грозных гостей в ворота и представить несчастье тем, чем оно, в сущности, и было: непредвиденным, чисто случайным столкновением достойного посла с поганым уличным забулдыгой.
Удобно расположившись на Акрополе, окружив себя многочисленной, вооруженной до зубов стражей, Идоменей долго и безмолвно слушал седовласых старцев, рассыпавшихся мелкими гарпиями, уговаривавших, убеждавших, улещавших, суливших неслыханные денежные возмещения за нанесенный Критом ущерб.
Ни один мускул не дрогнул на решительном лице лавагета.
– Сокровищ у нас достаточно, – прервал он, под конец, заискивающие речи. – Ни малейшей нужды пополнять казну! А вот честь и достоинство потерпели изрядный урон. Ежели оный останется неотомщенным, самый последний ливийский царек возомнит, будто способен безнаказанно отправлять в Аид критских вельмож. Да к тому же, облеченных полномочиями!
Старцы испуганно переглянулись.
– Я намеревался предать город огню и мечу, пустить на поток и разграбление, – грозно процедил Идоменей.
Члены Ареопага отшатнулись.
– Однако врата распахнулись по доброй воле афинян, старейшины смиренно заверяют в дружбе и преданности, униженно молят о пощаде...
Ареопаг немного приободрился.
– Посему вы поплатитесь менее жестоко, Нежели заслуживаете.
Ареопаг насторожился, но все же воспрял духом.
– На протяжении десяти лет, – неторопливо промолвил Идоменей, – Афины будут ежегодно присылать на Крит семь прекраснейших юношей и столько же прелестнейших девушек. А мы поступим с ними согласно собственному разумению. Слово окончательное, бесповоротное, безотзывное.
Старцы побледнели, пошушукались, выразили согласие с милостивым и весьма снисходительным требованием.
– Первые четырнадцать человек отплывут вместе с флотом, – сказал Идоменей. – На афинском судне, разумеется, – дабы никто не смог заявить, будто я захватываю заложников силой. О нет, почтеннейшие, вы начнете платить сугубо добровольную дань людьми, явите раскаяние беспримерное и всецело искреннее...
Старцы покорно закивали.
– Сутки на приготовление в путь. Убирайтесь и действуйте.
Идоменей поднялся, давая понять, что беседа завершена.[54]54
Хелм, безусловно, имеет в виду миф о Тезее. Дальнейшая авторская трактовка совершенно произвольна.
[Закрыть]
Эврибат, сын Арсинои и капитан Эсона, как у же мельком упоминалось, вымахал за семь лет в довольно внушительного подростка – с очень красивыми, нежными чертами лица, вьющимися светло-русыми волосами, такой же ослепительно белой кожей, как и у матери.
По-прежнему чуждый обычным развлечениям отрочества, мальчик бездельничал, приводя добряка Менкауру в искреннее огорчение и неподдельный гнев, слонялся по дворцу, глазел из окон, лениво болтал с придворными и воинами, вяло отвергал настойчивые предложения Рефия поупражняться в боевом искусстве, равнодушно пожимал плечами, когда венценосец Идоменей, официально числившийся отцом, приглашал на морскую прогулку.
Арсиноя, которая души не чаяла в своем отпрыске, начинала всерьез тревожиться, видя столь огорчительное и тревожащее отсутствие черт, присущих обычным детям.
Подробно и долго посоветовавшись, царица и Сильвия пришли к единодушному выводу: Эврибата мучат и сжигают бурлящие в крови юные соки. После серьезных колебаний Арсиноя сдалась на уговоры и доводы своей очаровательной наперсницы, и мальчик получил негласный доступ в южную оконечность гинекея.
Эффект превзошел мыслимые ожидания настолько, что мнение Сильвии сделалось для повелительницы едва ли не решающим: государыня удостоверилась в исключительном здравомыслии, коим наделила подругу природа.
Эврибата словно подменили.
Проведя несколько ночей в постели с Микеной, подросток оживился до такой степени, что впервые в жизни порадовал Менкауру неподдельным любопытством к та-кеметской истории, приятно удивил начальника стражи просьбой пофехтовать на досуге, начисто утратил ужасавшее придворных стремление терзать и мучить мелкую живность.
Лицо Эврибата, прежде безразличное и насупленное, буквально сияло веселой улыбкой. Строптивый и неугомонный отрок сделался любезным, учтивым, а главное – отменно послушным.
– У этого мальца все шиворот-навыворот, – доверительно сказала уже известная читателю Аспазия закадычной подруге Алкмене. – В его возрасте славные, добрые дети становятся невыносимы, а царевич рос угрюмым олухом и вдруг в одночасье конфеткой сделался... Чудеса, да и только!
Дабы закрепить и упрочить вершившиеся чудеса, хитроумная Сильвия предупредила Эврибата, что ночные утехи будут всецело зависеть от являемого прилежания, усердия и добронравия. Мальчик ответил незамедлительным согласием, ибо перечить властной красавице – так подсказывал инстинкт – не стоило. Он уже знал, кому обязан вкушаемым упоением и чуял: подательница может в порыве неудовольствия отобрать восхитительные дары, без которых жизнь опять сделается беспросветно пресной и скучной.
В довольно короткое время Эврибат познал едва ли не половину принадлежавших матери наложниц и приобрел опыт, обыкновенно присущий молодцам постарше, а то и вовсе зрелым мужам.
Сильвия предусмотрительно скрывала от него запретные подробности гаремной жизни, рассудив, что острые блюда следует придержать на второе и третье. Сама она еще ни разу не отдавалась юному наследнику престола Зная собственную неотразимость, придворная выжидала минуты, когда можно будет извлечь из плотской близости не только радость, но и выгоду.
В один прекрасный день прелестница ненароком поймала пристальный взгляд, брошенный Эврибатом на Арсиною, лениво растянувшуюся посреди широкого ложа, облаченную полупрозрачной виссонной тканью, делавшей очертания роскошного тела невыразимо вожделенными, ибо чуть прикрытая нагота дразнит и манит более, нежели откровенная и полная, – закон соблазна, известный о незапамятных времен.
Восстание Эврибатовой плоти, мысленно отметила Сильвия, несомненно. Юнец весьма этим смущен и старается присесть поудобнее, но такого шила в мешке не утаишь, а уж под коротким хитоном – тем паче... Мальчик начинает желать собственную родительницу... Надо взять на заметку. Может пригодиться.
Так оно и было: Сильвия ошибалась исключительно редко. Даже в окружавшем цветнике, состоявшем из прекраснейших женщин, Арсиноя выделялась особой красотой, а к тому же, ее буквально окружало незримое, но почти физически ощутимое облако неукротимой чувственности, самозабвенного сладострастия.
Не раз, не два, и мс три подмечала Сильвия, что Эврибат норовит ненароком дотронуться до Арсинои, что, целуя на ночь, затягивает лобзание дольше необходимого; кидонская же повелительница, кокетничавшая даже с собственным отражением в зеркале, просто забавлялась его то ли сознательной, то ли неосознанной похотью, которой вряд ли придавала сколь-нибудь серьезное значение.
Подозрение Сильвии укрепилось.
Эврибат желал Арсиною.
Царица, в свой черед, была немного влюблена в наследника. Материнская привязанность, гордость, восхищение поистине великолепной внешностью мальчика породили чувство запутанное, истомное, вероятно, слегка пугавшее саму Арсиною, но, тем не менее, приятное и щекочущее.
Предусмотрительная Сильвия вынужденно пускалась на тысячи уловок, дабы препятствовать совместному появлению Эврибата и Арсинои на людях. Веселый флирт, сделавшийся для матери и сына вполне привычным, потряс бы даже искушенных и все изведавших наложниц.
Долготерпение и усилие царской подруги оправдали себя.
Потому что наставало время посеять, возделать и пожать плоды.
* * *
Если мастер Эпей ошибался в некоторых своих утверждениях, то равным образом ошибались Иола с Менкаурой, искренне полагавшие, будто бесхитростный грек – умелец и стихоплет не от мира сего – потрясен услышанным впервые невероятным рассказом.
Эпей разыграл наивное удивление с подлинно актерской сноровкой.
Двадцать три года – вполне достаточный срок, чтобы даже запретнейшие слухи невзначай достигли весьма любознательного и отменно осторожного при самой, казалось бы, безудержной болтовне чужеземца.
Тем паче, что сплошь и рядом эллину доставало наилегчайшего намека, самой уклончивой и безобидной фразы, дабы заподозрить неладное, свести воедино разрозненные, безнадежно, казалось бы, далекие друг от друга обмолвки. Четыре тысячи лет спустя выдающийся английский писатель назовет это дедуктивным методом и создаст незабываемый образ неподражаемого сыщика.
Сыщиком Эпей, разумеется, не был, однако мозгами обладал весьма обширными и деятельными.
Зловещие подозрения грека получили полное и несомненное подтверждение.
И теперь Эпей знал больше, чем его любимая подруга и добрый Менкаура.
Ибо не требовалось ломать голову, гадая об участи порожденного царицей Билитис урода.
«Удирать, – окончательно и бесповоротно решил Эпей, которого, говоря по чести, уже давно и крепко подташнивало от окружавших обычаев, замашек и нравов. – Уносить ноги. Без малого четверть века миновало, как я улизнул из Алопеки... Пора трогаться в новый путь, к иным берегам, другим народам. Кстати, почему бы не обосноваться на Тринакрии? Прекрасный край, население, по слухам, доброе и дружелюбное. Обоснуемся вместе с Иолой, станем жить-поживать, стихи сочинять, в ремесле изощряться... Гори они синим пламенем со своими палатами, богатствами, жалованьем и скотством».
Умелец растянулся на ложе в своей комнате и не мигая глядел прямо в глаза нарисованной на стене синей птице. Здесь размышлял ось привольнее и спокойнее всего. Комната.
Убежище.
Укрывище.
Логово.
Мой дом – моя крепость...
«А ведь и правда, крепость. Коридор узок, соседние помещения малы. Тараном не размахнешься. А белыми рученьками – да хоть бы и лапищами намозоленными – такие стены можно долбить целую неделю. Циклопическая кладка, точно как в Микенах».
Критически осмотрев дверь, Эпей порадовался ее прочности и решил потихоньку приспособить пару-тройку железных брусьев, способных противостоять любой попытке пробиться в его обитель естественным, так сказать, путем.
– Это дело недолгое, – буркнул он себе под нос и отхлебнул из амфоры, вдвое уступавшей размерами прежнему сосуду, торжественно врученному Иоле.
– На, возьми, – объявил тогда Эпей – Не то, чтобы на душе у меня легче сделалось или усталости поубавилось, но не хочу тревожить кой-кого понапрасну. А ежели трезвости относительной не явлю, вы с Менкаурой все время беды ожидать станете.
Иола только улыбнулась в ответ.
«Дедал, ежели существовал, – а это весьма и весьма вероятно, – был мудрой личностью. По морю с острова не уйти: догонят незамедлительно. Остается лишь по воздуху, аки птица небесная... Верней, как листок, ветром влекомый.
Дельта. Греческая буква дельта. Все очертания крыла перепробовал – это наилучшее.. Выручает родная азбука, – мысленно ухмыльнулся Эпей, – спасает, милая».
Он внезапно захохотал – громко, искренне, безудержно.
«Любопытно знать, на каком из египетских иероглифов мог бы воспарить Менкаура? И далеко бы улетел? Ох, и шлепнулся бы! А у нас – алфавит, а в алфавите – буква дельта имеется: изящная, строгая и, как выяснилось, летать умеющая!»
Продолжая смеяться, Эпей сделал добрый глоток. Поперхнулся. Проглотил вино, откашлялся, понемногу успокоился.
«Главный вопрос, откуда отправляться? Только не с дворцовой крыши – слишком низко, да и токи воздушные холодны, вверх не стремятся... Склоны Левки! Они изобилуют обрывами, насквозь прогреваются палящим солнцем. Подыскать местечко поудобнее, чтобы рядом пещерка подходящая сыскалась... Гарпии, за Иолу страшно! Ведь как пить дать, испугается. А кто бы не испугался? И если доведется бежать поспешно, как беспрепятственно добраться до крыльев, как прорваться сквозь дворец, город, предгорья?..»
В таких и подобных раздумьях коротал мастер Эпей тихий вечер, беседуя с амфорой и не подозревая, что события примут вскоре весьма нежданный оборот.
Изобретательная Сильвия предприняла наступление сразу с двух направлений, и довольно решительным образом, отметая тонкие уловки.
– Придется, наверное, мальчику небольшой укорот дать, – доверительно сообщала она Арсиное. – Ограничить немножко. Не то девочки вскоре на нас с тобою и смотреть не пожелают.
– Почему? – задорно спросила царица.
– Уж больно Бата пригожий да пылкий. Сабина говорит, в гинекее уже ссориться потихоньку начинают, кому с ним раньше забавляться. Любому воину, дескать, форы дать сможет – и немалой.
– Надо спросить Сабину...
– Да тебе ведь не признается, оробеет. И вовсе не в том загвоздка...
– А в чем же?
Сильвия притворно замялась.
– Ну, признавайся!
– В том, Сини, что...
– Ну же, ну!
– ... что на самом деле он по тебе одной истомился.
– Фу, глупости!
– Я наблюдательна, Сини, этого не отнимешь. И не глупа, честное слово.
– Но... это немыслимо... Неосуществимо! Совершенно запретно...
– В страсти, моя радость, запретов не существует. Чего желается, то и славно. А вот подавленные желания могут обратиться против нас и выйти немалым боком. Сама знаешь... Иди, угадай! Сейчас мальчишка насытился и сделался лучше лучшего. Но возникло новое вожделение, которому пока что нет исхода. Берегись, – ежели оно уйдет внутрь и там перебродит, Эврибат просто-напросто взбесится. Ты этого не хочешь, правда?
– Ужасные речи ведешь! – воскликнула Арсиноя и бросила на Сильвию кокетливый, отнюдь не исполненный ужаса взгляд.
Подруга немедля перешла в решительную атаку.
– Вы влюблены, точно двое наивных детей, перепуганных собственным чувством! Но ты уже давно взрослая, да и он как бы перестал быть ребенком. Отбрось дурацкие предрассудки. Вышла замуж за брата – почему, спрашивается, нельзя подарить наслаждение сыну? Фи, телочка, а я считала тебя великолепной умницей.
– Понимаешь, к чему подстрекаешь? – тихо спросила Арсиноя.
– К блаженству, – невозмутимо парировала Сильвия. – Будь у меня взрослый сын, я сама позаботилась бы о его постельном просвещении, не препоручая боги ведают кому. Да еще сын, влюбленный в меня по уши.
Арсиноя порозовела от удовольствия и смущения.
– Убирайся прочь, – велела она Сильвии, стреляя глазами и слегка улыбаясь. – Ты, действительно, вопиющая распутица.
– Повинуюсь, – весело бросила придворная. – Кстати, кто-то жаловался на предел изощренности, на поблекшие ощущения... Подумай о новизне, помысли об остроте переживаний! А мальчишка-то каков! Загляденье, и только...
– Кыш! – сказала Арсиноя.
* * *
Бредовая эта беседа отнюдь не была столь бессмысленна, сколь может показаться читателю.
Сильвия всецело правильно подметила взаимную влюбленность Эврибата и Арсинои. Отлично поняла, что лишь вековые запреты на кровосмешение сдерживают царицу, и только боязнь совершить невообразимый с отроческой точки зрения шаг стесняет уже вполне разнуздавшегося наследника.
Надлежало толкнуть игриво и бесцельно заигрывавшую друг с другом странную парочку в объятия, втайне желанные обоим.
Вы спросите, какая корысть была от этого Сильвии.
Отвечаю.
По извращенности натуры и воображения красавица превосходила самое Арсиною настолько же, насколько та возвышалась над остальными женщинами. Честолюбием Сильвия также обладала огромным, а в уме и врожденном чутье попросту не знала равных.
Довольно давно она умудрилась изрядно затмить Арсиною в глазах Рефия, который был готов на что угодно ради женщины, способной угадать все его прихоти и причуды, потворствовать им, покорствовать, а вдобавок еще и наслаждаться.
Мазохистская – точнее, садо-мазохистская – натура Сильвии пришлась начальнику стражи как раз впору. Арсиноя, разумеется, знала об их свиданиях – ревности в гинекее не водилось, однако понятия не имела о подлинном свойстве яростных и трудноописуемых оргий, вершившихся в опочивальне подруги. Рефий вожделел к обеим с одинаковым пылом: Арсиноя была красивее и нежнее, Сильвия – бесстыднее и упоительнее. Каждая возбуждала чудовищную похоть Рефия на особый лад, и разнообразие лишь добавляло остроты чувственным утехам.
Уразумев и удостоверившись, что, попросту говоря, держит начальника стражи за бивень, Сильвия своевременно вспомнила весьма любопытную подробность.
Рефий был двоюродным братом Идоменея и Арсинои.
Приключись нечто, влекущее за собою смену династии, – но смену, исключавшую восшествие на престол прямого наследника, Эврибата, – первый телохранитель государства оставался единственным и несомненным претендентом.
А она, Сильвия, способна утолять и насыщать это чудовище сверх вообразимого предела, приобретала несомненную возможность воцариться на Крите.
Ибо прекрасно ведала: уже давным-давно Рефий не глядит ни на одну женщину, кроме царицы и нее. Никакая иная наложница попросту не умела подчиняться бешенству этого любовника с надлежащей страстностью. Вкусив соленых маслин, Рефий не желал довольствоваться опресноками и утратил к ним всякий интерес.
Если не она, Сильвия, то кто же?
А смена династии – полная смена! – была возможна и неизбежна, коль скоро удастся засвидетельствовать и доказать кровосмешение матери и сына (соитие отца и дочери полностью исключалось, поскольку дочери не существовало в природе). Преступление подобного свойства каралось пожизненным изгнанием всей семьи – от мала до велика. Закон мягок, говаривала Элеана, однако это закон...
И Сильвия трудилась вовсю – весело, игриво, в полном согласии с полоумным вихрем распутства, ни на минуту не стихавшим в южной части гинекея.
А для вящей надежности верная и нежная подруга подсказала Арсиное мысль соорудить и опробовать пресловутую деревянную телку.
Лишняя – тем паче, страшная и неоспоримая – улика отнюдь не могла повредить созревшему замыслу.
В отличие от Арсинои, Сильвия блудила, не теряя здравого разумения...
* * *
По части шестого чувства с коварной этой особой могли успешно соперничать лишь двое из уже знакомых нам героев.
Первым был мастер Эпей.
Вторым – этруск Расенна.
Закутавшись в теплый плащ, устроившись на носу миопароны, подгоняемой дыханием северо-западного ветра, архипират устремлялся прочь от острова Мелос и даже не делал обычных попыток умягчить и расположить к себе новопохищенную красавицу.
Расенна разглядывал звезды, понемногу потягивал вино, чего обычно избегал во время плавания, и предавался отменно грустным размышлениям. На сердце у разбойника было мерзко, тревожно и тоскливо.
Этруск чуял нутром: этот набег – последний. Ближайшее, – а уж подавно отдаленное, – будущее становилось неопределенным и угрожающим.
Добычу выкрали на удивление легко, если учитывать невиданно сложные обстоятельства дела. Увидав, что первейшая красавица Мелоса, царская дочь Лаодика, выходит замуж, Расенна из чистого удальства поклялся умыкнуть ее прямиком со свадебного ложа. Встревоженный вопиющей дерзостью капитана Гирр самолично отправился на разведку, убедился в том, что хоромы повелителя и впрямь расположены на превеликом отшибе от городских стен[55]55
Может показаться откровенной глупостью. Но смотри «Одиссею»: «... Луг; там поместье царя Алкиноя с его плодоносным /Садом, в таком расстоянье от града, в каком человечий /Внятен нам голос...» Песнь VI, ст. 293—295.
[Закрыть] и, при надлежащей осторожности, можно попытать удачи.
Осторожность явили, удачи попытали, своего добились и даже сумели унести ноги, не потеряв ни единого человека, хотя ночная стража приметила подозрительные тени и подняла тревогу – весьма и весьма запоздалую.
Ночь стояла безлунная.
Миопарона ждала с уложенной мачтой, чуть различимая над поверхностью темных вод.
Ускользнули.
Ушли на веслах и быстро исчезли в морском просторе.
Все, казалось бы, прошло гладко и ладно, как по маслу.
Предводительствовавший бесславной вылазкой Гирр изменил на сей раз обычной своей задиристой надменности и взахлеб рассказывал, как лихо пронзили стрелами залаявших было псов, как неудержимо ворвались в дом, сыпля коротенькими смертоносными болтами из маленьких, в локоть величиной, арбалетов (очередное изобретение Эпея, не ведавшего, что творит, и убежденного, будто оружие сие, снабженное тремя вертикально совмещенными желобками и дозволяющее производить три выстрела подряд, сделается достоянием Идоменеевых моряков), уничтожая все и вся, способное учинить ненужный гвалт.
Как с ходу высадили дверь опочивальни.
Как оглушили новобрачного.
Как заткнули рот ошеломленной невесте.
И как проворно, сноровисто возвратились на борт»
Обеспамятевшую Лаодику связали и положили на обычное место подле мачты. Ходу до Крита при попутном ветре было не свыше суток, но рассвет надлежало все-таки повстречать в потайной бухте, в безымянном гроте. До рассвета пленнице предстояло валяться неподвижной и беспомощной. Не беда, недолго...
– Ты понимаешь хотя бы, что натворил? – бесцветным голосом осведомился Расенна.
– Натворил? – оскорбился Гирр. – Я не натворил, а совершил! Доблестный подвиг!
– Нападение на безоружных и сонных поистине требовало доблести неслыханной, – ответил этруск. – Если помнишь, впрочем, повелительница начисто возбраняла без последней, крайней нужды пускать в дело даже кулаки. О мечах и стрелах умолчу.
– А, пошел ты к листригонам! – зарычал критянин. – Ежели столь разумен, взял бы и выкрал девочку без шума! Наставник сыскался!
– Я действительно выкрал бы девочку без шума, – спокойно произнес этруск. – По крайности, без кровопролития. И без тумаков, перепавших на ее глазах любимому супругу, между прочим...
– Отлично. Следующий раз – твой. Всецело и безраздельно.
Расенна сглотнул и не удостоил Гирра ответом. Гнусность и жестокость совершенного потрясли его размякшую за семь лет моряцкую душу. Привычка понемногу делалась второй натурой. Соблюдая запрет царицы, этруск старательно избегал насилия над обитателями островов и побережий. В итоге, подумал Расенна, меня, кажется, корежит и коробит при одной мысли о стольких безвинных, ненужных жертвах...
Теперь этруск угрюмо сидел, прислонясь к борту, обдумывал, что сказать Арсиное, меланхолически потягивая вино, искренне жалел оцепеневшую от ужаса и горя, неспособную даже плакать, Лаодику, проклинал Гирра.
Предчувствие неведомой, грозной беды охватывало Расенну.
А предчувствиям, как учил архипирата обильный и долгий опыт, следовало доверять.
* * *
Эврибат! ласково проворковала Сильвия.
– Я не Эврибат! – воинственно отозвался мальчик, размахивая коротким бронзовым клинком, который торжественно подарил ему Рефий за явленное к воинским упражнениям усердие. – Я свирепый пират Расенна!
– Что-о?
– Я великий и грозный пират Расенна! Сдавайся, жалкая финикийская трусиха!