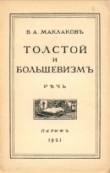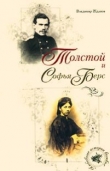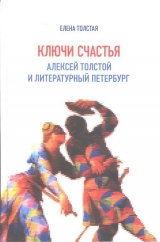
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 43 страниц)
ГЛАВА 2. ПРОЗА И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАТЕИ (1909–1911)
Уродство, нагота, карнавал. – Турнир поэтов. – «Я пою и я – ничья»: русалка и Мавка. – Хозяйка кукольного дома. – Молодая редакция. – Хвосты! – Второй Париж. – Театральное призвание Алексея Толстого. – Кузминское влияние в драме. – «Бродячая собака».
Уродство, нагота, карнавал
Культурные впечатления первых месяцев жизни с Софьей Исааковной в Париже, очевидно, были шоковыми для Толстого. Так можно заключить по неопубликованному и неоконченному его рассказу «Уроды»: это описание странных новых вкусов, которые навязывает Париж и насквозь эротизированная парижская культура:
Стены комнаты до потолка покрыты гравюрами, маска сатира, Микель-Анджело, химеры, кривой Квазимодо, четыре губастых урода, жующих что-то красное, зубастая женщина, впившаяся лошадиными зубами в свою ногу, и много невиданных, странных картин. Куда я ни смотрел, отовсюду вылезали выпученные губы, искривленные тела, перекошенные лица, и показалось, что я тоже из коллекции уродов.
Женщина со странным вкусом говорит: «Я презираю то, что люди называют красивым, только в уродстве зеркало великого» и влечется к огромному человеку чудовищной толщины: «Не любопытство влечет меня, а звериная сила, я слабею, в истоме покачиваясь, иду, иду, и гляжу, гляжу. В уродстве есть тайна, уродливый человек не такой, как все, он как черная туча, таящая золотые молнии. <…> Я завидую вакханкам, отдававшим тело мохнатым, сладострастным сатирам или отъевшемуся силену» (Толстой 1908а: 6-11).
В конце концов внимание героини привлекает подобный персонаж: «Он стоял на эстраде над танцующими, скрестив руки, тучный и голый, в черной повязке вокруг бедер», у него «рыжая голова конусом» и т. д.
Именно в этом раннем наброске впервые возникает и тема дьявольского маскарада – праздника обнаженного тела:
Внизу в зале танцовали, взявшись за руки, красные, желтые, синие маски. Голые женщины прыгали и выгибались, к ним то припадали, то откидывались яркие плащи мужчин.
Пестрый змей из тел извивался по ковру залы, и горячий воздух опьянял и томно разливался по телу.
Маски то отдалялись, то неслышно и быстро надвигались, как огненная пасть.
Женщины раскидывая красные локоны и ноги, прыгали, хлопая себя по голому животу (Там же).
В наброске Толстого запечатлен новый интерес к теме карнавала, масок, народного театрального зрелища, культ старинного театра, комедии дель арте, арлекинады, который с 1906–1907 годов уже захлестывал все русское искусство и в котором Толстой, вернувшись из Парижа, примет живейшее и активнейшее участие. Расцвет театрального эксперимента был в Петербурге связан еще с одной новацией: с театром-кабаре, театральным кабачком. Кабаре пришло в Россию из Парижа и Мюнхена. Мейерхольд, объехавший театры Европы, М. М. Бонч-Томашевский, петербургский театрал, и многие другие русские посетители европейских кабачков мечтали о внедрении новой моды в России. Тема артистического кабачка запечатлена в нескольких набросках Толстого – это, например, «Паучок», повествующий о уроде-клоуне:
Семенит Паучок кривыми, голыми на икрах ножками, как у детей, хотя ему за 30 лет, старое улыбается большое лицо, вскидывает оловянные глаза, не может головы повернуть, потому что у Паучка нет шеи <…> Сейчас комический выход. Это очень важно и главно для некоторых. Стихают аплодисменты. Бегут служители в зеленых фраках, розовая и блестящая проходит в уборную наездница, толкает острым локтем Паучка.
– Паучок[,] выход.
Во фраке до полу, в изорванном колпаке, путаясь в панталонах, выбегает Паучок и делает реверанс.
Слышно: смотрите, какой урод. Это знаменитый Паучок. Служители свертывают ковер. Паучок хватает их за фалды, толкает, падает[,] точно жук[,]кверху лапками, аккуратно перекувыркивается[,] и[,] застывшая[,]не сходит с лица его робкая улыбка (Толстой 1908б: 1–5).
В ноябре 1910 года темы, намеченные в парижских набросках, будут развиты в рассказе Толстого «Лихорадка». Мощный голый толстяк из «Уродов» преобразится в ужасного борца-гангстера, олицетворение грубой силы, гору мяса, и подан через восприятие уже не влекущейся к нему женщины, а героя-соперника. Это русский интеллигент-эмигрант с неопределенно-активистской политической аурой [61]61
Этот герой привлек внимание известного киевского историка Вадима Скуратовского, который увидел в нем возможное сходство с Матвеем Головинским (1865–1920), предполагаемым автором «Протоколов сионских мудрецов», также парижским эмигрантом и также автором трактата о счастье:
«Итак, Матвей Головинский, крошечный литературный „атом“, затерявшийся в громадной газетно-журнальной вселенной конца прошлого – начала нынешнего века <…>, казалось, не имеет серьезного, если не архивного, то уж во всяком случае библиографического шанса к его „припоминанию“, к самой возможности некоторой реконструкции его литературной и внелитературной судьбы, самого его облика.
Оказывается, однако, что на этот облик ныне совершенно забытого русско-парижского журналиста очень любопытно резонирует проза тогда еще молодого Алексея Николаевича Толстого, по обстоятельствам и своего творчества, и самого своего характера <…> превосходного наблюдателя, знатока и ценителя русско-парижской субкультуры 1900–1910-х гг. И не столько её блестящего фасада в виде так называемых „русских сезонов“, сколько самого существования многочисленной русской колонии, ее основной полубогемной и просто богемной массы. Итак, в рассказе А. Н. Толстого „Лихорадка“ (1910) появляется некий русский „эмигрант-одиночка“ – „Иван Иванович Горшков“ – которого за участие в радикальной газете „выгнали из России“ – в парижскую безбытицу. Далее следует совершенно поразительное совпадение занятий героя с „фамилией неказистой и мещанской“ – с литературными усилиями Головинского того же года, когда был написан рассказ (кстати, обратим внимание на очевидную как бы антропонимическую фоническую анафору – „Горшков“ – „Головинский“): герой в Париже, по его словам, „по утрам, отворив окно на улицу, с которой долетал шум экипажей и толпы, …второй год работал над обширным трудом ‘Пути к счастью’, – грядущее откровение для всех“.
Брошюра Головинского в предельно облегченной, преимущественно, в фельетонистическо-публицистической форме завершает старинный, едва ли не со времен знаменитых пушкинских стихов длившийся в русском сознании спор о возможности-невозможности счастья» (Скуратовский 2001).
С другой стороны, в фундированной статье И. И. Ивановой (Иванова 1997) доказывается, что Головинский вряд ли мог быть автором знаменитой фальшивки. Он отнюдь не был неведомым «атомом» или маргиналом: в начале века этот крупный либеральный чиновник и богатый помещик основал в Петербурге леволиберальный журнал «Всемирный вестник», после почти немедленного закрытия возрожденный как «Вестник всемирной истории», где печатались душераздирающие материалы о погромах; в Париже он бывал часто, сдавая экзамены за медицинский факультет, который закончил уже немолодым человеком, но не жил там подолгу; а после революции продолжал работать в России, последнюю брошюру («Рассказы дедушки о гигиене») опубликовав в 1920 г. Да и имя предполагаемого прототипа подгуляло, Головинский – фамилия вовсе не неказистая, а звучная, аристократическая: отец Головинского был дворянин, петрашевец, товарищ Достоевского.
[Закрыть].
Мы не знаем, был ли у героя «Лихорадки» прототип и кто это мог быть. Как бы то ни было, толстовский незадачливый герой влюблен в эмигрантскую же красавицу сомнительной нравственности. Это женщина с немецкой фамилией Гунтер и русским именем. (Или русско-еврейским? По комментариям Крестинского к Полному собранию сочинений, учитывающим ранние версии, ее зовут Марья Семеновна, а в тексте Полного собрания сочинений она уже Марья Степановна.) Героиня принадлежит двум мирам и вообще двойственна: прекрасна, но лишена стыда, слаба и опасна, манит и отталкивает и в конце концов губит – по обычному беллетристическому рецепту. В «Лихорадке» противопоставлены мечтательная любовь и парижская тема обнаженного тела: сюжет строится вокруг навязанного «зажатому» герою участия в студенческом карнавале, демонстрации раскрепощенных нравов. Карнавал, описанный Толстым, напоминает зимний, Mi-carême, а не весенний. Что понятно: в 1908 году он-то, по всей вероятности, видел зимний, а на весеннем не присутствовал, потому что именно тогда уезжал на короткое время в Россию.
Герою «Лихорадки» праздник этот кажется страшной языческой оргией, пробуждающей в человеке все низменное. Он потрясен и сбит с толку обилием обнаженного тела; в отличие от него героиня в стихии наготы чувствует себя естественно. Герой играет роль неуклюжего и простоватого Пьеро, «русская» его телесность, рыхлая и некрасивая (как у князя Назарова из «Мести»), отягощена стыдом и «подпольной» психологией; ей противопоставлена победительная телесность соперника – это француз, борец и бандит (типаж, возможно отразивший нашумевший эпизод с Иваном Поддубным, французский противник которого однажды оказался не только борцом, но и преступником). Он представляет собой нагромождение мышц и воплощает торжествующую мужественность. Личное, слишком личное в рассказе – ощущение мужской ущемленности и жалость к себе, гомерическая, если жалость может быть гомерической.
Из толстовских записей и стихотворений первого парижского сезона выясняется, что обнаженное тело пугало русского новичка и на музейных картинах: «Мне шепчут картины: о смертный, гляди / Найди красоту совершеннее тела / <…> Картины, картины, мой рай и мой ад» (Толстой 1907–1908а: 53–54).
По нашему впечатлению, гипотетический парижский конфликт мог быть связан с тем, что Софья восприняла парижскую раскованность с излишним, как могло показаться, энтузиазмом. Мы помним, что парижские карнавалы (первый, Mi-carême, празднуемый в разгар Великого поста и соответствующий Масленице, и второй, бал художников «Четыре искусства» (Quatres arts), или «Катзар», выпадающий на конец апреля – начало мая) произвели на нее неизгладимое впечатление; в особенности поразило обилие обнаженного тела и при этом здоровое и радостное к нему отношение. В своих мемуарах она специально подчеркивала невинность рискованных парижских забав [62]62
Г. Чулков писал в очерке «Катзар»: «На этом балу, в этом апофеозе нагот, было всеи в сущности ничегоне было. Бесстыдство было доведено до предела, но оно не волновало толпы, не возбуждало ее и никуда не влекло. Маскарад остался маскарадом и не стал оргией. Вероятно, парижанам и не нужна оргия. Оргия – это слишком трудно, непрактично, опасно и главное, ответственно. <…> Как в сущности приличен был этот неприличный бал. Что же это? Культура? Моральная дисциплина? Или, быть может, это утомленная плоть поет последнюю песню?» (Чулков 1909: 253–254).
[Закрыть]. Как явствует из других свидетельств, аттракционы, о которых идет у нее речь, сопровождались раздеванием донага.
Через год, в феврале 1909 года, Софья участвовала в знаменитом самодеятельном спектакле писателей «Ночные пляски» по Сологубу, в постановке Евреинова и оформлении Калмакова, где танцевала босиком и в крайне легком наряде. Пляски королевен замечательно поставил Фокин в духе Айседоры Дункан. Толстой тоже играл в этой постановке – одного из заморских королей. «Направление» Софьи иронически и с легким неодобрением постфактум зарегистрировала Наталия Крандиевская, жена Толстого в 1915–1935 годах: «Помню, однажды поэт Сологуб Федор Кузьмич просил <…> меня принять участие в очередном развлечении, в спектакле «Ночные пляски» <…>
– Не будьте буржуазкой, – медленно уговаривал Сологуб загробным, глуховатым своим голосом без интонаций, – вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Софьи Исааковны, с Олечки Судейкиной. Они – вакханки. Они пляшут босые. И это прекрасно» (Крандиевская-Толстая 1977: 72). Для Сологуба нагота и хождение босиком были значимы как часть программы раскрепощения чувств. Но Софья Исааковна, обожавшая всякую игру, как кажется, не одобряла в этом спектакле именно программно-идейный характер «священнодействия», убивавший спонтанность, иронию, импровизацию – то, что молодежь вскоре поднимет на щит в «Бродячей собаке». Она писала Волошину: «К тому же мне на нервы действуют мои соучастницы в спектакле. Я окончательно становлюсь женоненавистницей от всех этих «сериозно-бездушных» под Дункан, Комиссаржевской, Сары Бернар и от беспрерывной, без передышки, болтовни. Это ужасно, я совсем печальна» (недатированное письмо, Волошин 2010: 433: выдержки из газетных рецензий на «Ночные пляски» см.: Там же: 432).
Именно тогда, в 1908 году, когда Толстые сдружились с ним в Париже, Волошин вновь задумывается об эстетике и эротике, вернее, об антиэротичности наготы – судя по тому, что М. Сабашникова пишет ему в Париж 8 февраля 1908 года: «Не читай о наготе и гражданственности» (Купченко 2002: 198). Задуманные тогда работы были закончены в 1914 году и частью опубликованы: «О наготе» (1914), частью остались в рукописи: «Лицо, маска и нагота» (обе – Волошин 2007). Это и была подоплека «Лихорадки».
Турнир поэтов

С царевной Таиах
Толстые проводят лето 1909 года у Волошина в Коктебеле, куда приезжают и Гумилев, и Е. Дмитриева.
Вынужденные свидетели драм этого лета, Софья и Толстой принимают в конфликте между Гумилевым и Волошиным сторону Волошина. Софья не скрывает неприязни к Гумилеву, открыто восхищается мудростью и добротой Волошина и считает его лучшим из людей.
В ее воспоминаниях упоминается следующий эпизод лета 1909 года:
Однажды поэты устроили творческое соревнование. Они заставили меня облачиться в синее платье, надеть на голову серебристую повязку и «позировать» им, полулежа на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов «соревновались» в написании моего «поэтического портрета». Лучшим из этих портретов оказалось стихотворение Алексея Николаевича, которое под названием «Портрет гр. С. И. Толстой» вошло в посвященную мне (посвящение гласило: «Посвящаю моей жене, с которой совместно эту книгу писали») книгу стихов «За синими реками», выпущенную в 1911 году издательством «Гриф». Напечатали аналогичные стихи и Волошин и другие поэты (Дымшиц-Толстая 1982: 63–64).
Стихотворный портрет Софьи работы Толстого существует в двух вариантах: первый из книги «За синими реками»:
ПОРТРЕТ ГР. С. Т.
Твое лицо над водами ясней
Старинной четкости медалей,
Широкий плащ и глубже и синей
Зеленовато-синих далей;
Двенадцать кос сребристою фатой
Охвачены, закинут локоть строго,
Глаза темны истомой и мечтой,
Неуловимый рот открыт немного;

В Коктебеле. 1909 г.
Толстой в это лето увлекся Анри де Ренье – с подачи Волошина, в то время его переводившего. В Краткой автобиографии 1943 года он писал: «Летом 1909 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы, и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники» (Толстой 1943). «Чеканка образов», пленившая Толстого в его прозе, задала тон первой строфе. Вторая строфа зрительно и психологически точна: очевидно, выиграла соревнование строка «Неуловимый рот открыт немного».
В версии 1913 года – ностальгической оглядке на рухнувшее счастье – «Портрет гр. С.Т.» нет первой строфы, осталось только две:
Изгибы плеч в серебряную шаль
Охвачены, а стан чуть согнут строго
В глазах волна с волной уходят в даль,
Неуловимый рот открыт немного,
И ветер плещет юбкой голубой.
На берегу в тот день была такой…
Ты море ль видела? Иль в нем сиянье бога?
(Толстой 1913: 178) [64]64
Это стихотворение явно предназначалось к включению в Полное собрание сочинений – ведь о нем, в комментарии к стихотворению «Фавн» (куда его в качестве одной из частей, как мы помним, включил автор, готовя свое первое собрание сочинений), говорится: «С заменой III раздела стихами „Портрет гр. C.T.“ (см. настоящий том)(курсив мой. – E.T.) вошло в IV том соч. 1913 г.» (Толстой ПСС-1: 627). Но все-таки включено оно в ПСС так и не было! Правда, в сборниках 20-х гг. Толстой сам не давал этого стихотворения даже в составе «Фавна», но все же исключение его из посмертного Полного собрания иллюстрирует недопустимую пристрастность составителей – скорее всего, Л. И. Толстой.
[Закрыть]
Предъявляя неверной жене задним числом сомнение в высоте ее тогдашних чувств, Толстой выдает себя: он и сам заметил море и [Б]ога, только теряя ее.
Софья для «портрета» оделась в татарскую одежду, купленную в соседней деревне. Волошин стилизует ее восточную красоту то ли в египетском духе, под фаюмский портрет – изображения умерших на саркофагах, исполненные восковыми красками, – то ли под какую-то графическую технику вроде тех монотипий, с которыми экспериментировала в Париже Кругликова.
М. Волошин
ГРАФИНЕ СОФЬЕ И. ТОЛСТОЙ
Концом иглы на мягком воске
Я напишу твои черты:
И индевеющие блестки
Твоей серебряной фаты,
И взгляд на все разверстый внове,
И оттененный тонко нос,
И тонко выгнутые брови,
И пряди змейных, тонких кос,
Извив откинутого стана,
И нити темно-синих бус,
Чувяки синего сафьяна
И синий шелковый бурнус.
А сзади напишу текучий,
Сине-зеленый пенный вал,
И в бирюзовом небе тучи,
И глыбы красно-бурых скал.
1909, Коктебель(Волошин 1982: 24)
Тут мало от женщины, условные тонкие черты – зато увиден молодой, открытый миру человек. Портрет теряется в экзотических подробностях костюма и задавлен значительностью космических сил, бушующих за ним, – «валов», «туч» и «глыб». Получился у Волошина этюд «синее на синем» в духе «Голубой розы».
Наоборот, Дмитриева увидела космические силы в существе самой женщины: красное и синее, огонь и воду, а в женщине высветила птицу, то есть душу, и почувствовала трагизм хрупкой красоты, данной на мгновение.
Черубина де Габриак (Е. И. Дмитриева)
ПОРТРЕТ ГРАФИНИ С. И. Т-Й
Она задумалась. За парусом фелуки
Следят ее глаза сквозь завесы ресниц.
И подняты наверх сверкающие руки,
Как крылья легких птиц.
Она пришла из моря, где кораллы
Раскинулись на дне, как пламя от костра.
И губы у нее еще так влажно-алы,
И пеною морской пропитана чадра.
И цвет ее одежд синее цвета моря,
В ее чертах сокрыт его глубин родник.
Она сейчас уйдет, волнам мечтою вторя,
Она пришла на миг.
Коктебель, 1909(Дмитриева 1999: 61–62).

Е. И. Дмитриева
Софья оставила сообщение дальнего действия, когда, рассказывая о пяти поэтах, участвовавших в состязании, привела стихи Толстого и Волошина и добавила многозначительно о других поэтах, посвящавших ей стихи. Участвовал в этом состязании и Гумилев, хотя так никто до сих пор и не знает, какой портрет он тогда написал. Ср.: «Поэтические портреты С. И. Толстой написали в Коктебеле А. Толстой, М. Волошин, Е. Дмитриева. До сих пор остается неизвестным стихотворение Н. Гумилева, написанное в этом соревновании», – говорится в комментарии к новейшей расширенной републикации фрагментов о Волошине из воспоминаний Софьи (Купченко, Давыдов: 649–650 прим. 5). Непонятно также, почему Соня написала о пяти поэтах. Поэтесса М. Гринвальд приехала в Коктебель немного позже. М. Кларк, подруга Е. Дмитриевой, в конкурсе, кажется, не участвовала.
«Я пою и я – ничья»: русалка и Мавка
Толстой в 1909 году пишет «Солнечные песни» и другие стихи, составившие его поэтическую книгу «За синими реками». «Текст влюбленности» теперь приобретает более самостоятельные и отчетливые очертания: на пике увлечения фольклором Толстой реконструирует языческое панэротическое мироощущение – женщина в белом из дебютной книжки преображается в белую березу или даже в белую телку:
Рада белая береза:
Обсыпалась почками,
Обвесилась листочками.
Гроза гремит, жених идет,
По солнцу дождь – осенний мед,
Чтоб, белую да хмельную,
Укрыть меня в постель свою,
Хрустальную,
Венчальную…
Иди, жених, замрела я,
Твоя невеста белая… <…>
За телкою, за белою,
Ядреный бык, червленый бык
Бежал, мычал, огнем кидал <…>.
«Весенний дождь» (Толстой ПСС-1: 96)
Софья – первая слушательница Толстого, он обговаривает с ней свои литературные планы. В какой-то степени речь идет о сотворчестве. В большой степени очарованность жанром сказки впервые возникает в творчестве Толстого именно в связи с личностью Софьи. Сказочный настрой закрепляется после сближения их с Ремизовым – Толстой не просто подражает его стихам и сказкам, но вся жизнь молодой пары превращается в инсценировку ремизовских сказочных сюжетов, а сами они – в персонажей ремизовской сказки «Зайка» (1907), надоедливых «Артамошку гнусного» и «Епифашку скусного». Около 12 (25) сентября 1908 года Волошин из Парижа пишет Ремизову о Толстом с женой: они «очень милые», состоят «Артамошкой и Епифашкой» (Купченко 2002: 209; Дымшиц-Толстая 1962: 40; Переписка: 139–140). Правда, вскоре Толстой – возможно, под влиянием неприятия Ремизова «аполлоновцами» – начинает от Ремизова отдаляться.

А. Ремизов
Книга «За синими реками» (1911), где собраны толстовские стихи его «языческого» периода, посвящена Соне: «Посвящаю моей жене, с которой совместно эту книгу писали» (Дымшиц-Толстая 1982: 63). Что означают эти слова? Наверное – то, что Софья создавала игровую, импровизационную атмосферу сказки, примитива, в которой Толстому легко работалось. Осень-зима 1909 года были ознаменованы работой Толстого над прозаическими сказками, изданными в 1910 году под заглавием «Сорочьи сказки» также с посвящением жене: «Посвящает Соне, граф А. Н. Толстой – Мирза-Тургень». Этот псевдоним восходит к легендарному пращуру матери писателя, Александры Леонтьевны, урожденной Тургеневой. Представляется, что и поэтический цикл «Дафнис и Хлоя», написанный Толстым в Коктебеле летом 1909 года, запечатлел облик этой стройной юной женщины, похожей на гречанку:
Зеленые крылья весны
Пахнули травой и смолою…
Я вижу далекие сны —
Летящую в зелени Хлою,
Колдунью, как ивовый прут,
Цветущую сильно и тонко <…>
«Хлоя» (Толстой ПСС-1: 136)
Героини этого периода у Толстого мифичны, фольклорны, сказочны. Частые упоминания фиалок либо фиалковых гдаз и вообще оттенков лилового в портрете героини образуют ценностно амбивалентный (ибо соблазнительно-зловещая семантика лилового к тому времени уже выстроена в поэзии старших символистов) образ с оккультным ореолом, указывающим на нежить или нечисть. Добавочный штрих в этой картине – это мотив сизой травы:
Стали остры гребни скал,
Стала сизою осока <…>.
«Утро». Пятое стихотворение из цикла «Хлоя», 1909 (Толстой ПСС-1: 140–141)
Сизый цвет, попадающийся уже у Державина (голубо-сизый рыбий князь), вновь введенный Тютчевым и Фетом, а в новой литературе любимый Блоком (сизые окна, дымно-сизый туман), Гумилевым (сизый туман), Анненским (близился сизый закат), Волошиным (день молочно-сизый, сизый блеск, сизые крыши), у Толстого, похоже, получает полноценное мифологическое наполнение – сигналит о присутствии волшебства. Загадочный и манящий женский образ варьируется – от ускользающей колдуньи, смолистой, весенней, нагой Хлои к независимой, соблазнительной и опасной героине стихотворения «Мавка» из той же книги «За синими реками»:
Пусть покойник мирно спит;
Есть монаху тихий скит;
Птице нужен сок плода,
Древу – ветер да вода.
Я ж гляжу на дно ручья,
Я пою – и я ничья.
Что мне ветер! Я быстрей!
Рот мой ягоды алей!
День уйдет, а ночь глуха,
Жду я песни пастуха!
Ты, пастух, играй в трубу,
Ты найди свою судьбу,
В сизых травах у ручья
Я лежу и я – ничья.
«Мавка», 1909 (первоначальное название – «К А.» («За синими реками». 1911: Толстой 1913: 67).
Сизая трава получает из нового контекста добавочные свойства «мертвого» (ведь мавка – это нежить) и «волшебного»; в этой функции она всплывет еще раз в антураже сказочного домика Мальвины.
Не толстовской ли мавке вторит русалка Ахматовой [1911]: «Ничьих я слов не повторяю / И не пленюсь ничьей тоской…» (Ахматова 1967: 60)?
Кажется, что главное свойство, позволяющее связать с мавкой-русалкой духовный облик Софьи, – это упорное стремление сохранить независимость, ускользнуть от обладания и подчинения. Не это ли свойство может иногда метафорически обозначаться как убегание всеускользающей Хлои или даже неуловимость черт: «Неуловимый рот открыт немного»? При этом главное в русалке – все же ее губительная тяга, естественная, как дерево и птица, внеморальная, нечеловеческая.
Вскоре русалка становится героиней рассказа Толстого «Неугомонное сердце» (1910). Так в давних 80-х назвала свой первый роман мать Толстого Александра Леонтьевна. Вскоре Толстой изменил заглавие на «Русалка». Вторым рассказом на ту же тему был «Терентий Генералов» (1911). В «Русалке» по-детски невинно-жестокая русалка (это у нее в первоначальном варианте лиловые глаза, как у Рахили из неопубликованного фрагмента) уговаривает поймавшего ее деда продать овцу и лошадь и купить ей леденцов, самоцветных камушков, янтарную нитку, заставляет его погубить возненавидевшего ее кота, а потом губит и самого деда. Во втором рассказе вновь педалируется знакомая уже по ранним стихам эротичная телесная белизна: «Белая она, волосы, как пепел»; «Длинная спина русалки светилась, как раковина, под светом лампы в круге у потолка, темные волосы, в четыре косы, лежали на круглых плечах и кошме, а рыбьи зеленые ступни похлопывали». Еще характерный штрих – «рот как у младенца» напоминает «неуловимый» рот Софьи и предвосхищает детский рот Сонечки из романа «Две жизни». Русалка бесстыдна и ходит обнаженная, вторжение ее губительно, но при этом ее игры невинны. Она бежит в ужасе, когда, приревновав ее к другому, герой из-за нее хватается за топор (Толстой ПСС-1: 580 и сл.).
Третий «русалочий» рассказ Толстого, «Пастух и Маринка», также написанный в 1911 году, выполнен в гораздо более мрачном колорите. Героиня, черноморская девка-рыбачка Маринка, независимая наподобие горьковской Мальвы, не привечает героя, первого парня в округе, но тот берет ее силой, и они живут вместе. Почувствовав беременность, она мрачнеет еще больше и все время проводит у моря, куда в конце концов и погружается – уходит к своей сестрице-русалке. Маринка не простила герою то, что он поймал ее в самую крепкую ловушку – привязал к себе общим ребенком. Тема беременности и связанной с ней депрессии очевидно совпадает по времени с беременностью Софьи. Несомненно, Толстой ревновал жену и к ее красоте, в юности изумительной, и к ее профессиональной деятельности, и к ее неизменному стремлению к независимости, ярче всего прочерченному в Мавке: «Я пою и я – ничья».
Погруженность своей жены в игру, ее детскость Толстой, видимо, любил и сам культивировал. В его архиве сохранился недатированный, но основанный на парижских впечатлениях набросок рассказа «Она» (Толстой 1908в: 12, 15–16), где изображена девушка с «детской» психикой, наделенная редкой чистотой и очарованием. Герой этого фрагмента, бедный русский художник в Париже, подпав под роковую власть некой сатанинской натурщицы, пишет ужасную картину «Страсть», снискавшую тем не менее – или именно поэтому – бешеный успех:
Что это, ужасная правда или больная фантазия[?] На это должно ответить общество. Во всяком случае картина «Она» Рыбакова, написанная неряшливо и неровно, очевидно за один сеанс, является гвоздем выставки и мало кто может пройти мимо без содрогания.
Во время открытия публика толкалась, шумела, и можно было заподозрить [,]что картина касается личной жизни каждого.
Духовное спасение погибающему в парижском злом наваждении художнику приходит в виде письма от оставленной дома девушки Сонечки: она напоминает будущую героиню первого толстовского романа «Две жизни»:
…а утром на лужайке, помните, где мы искали крота, трава сизая от росы и пахнет фиалками.
Они растут маленькими кустиками, если стать на колени и погрузить лицо, то сожмется сердце от сладкого запаха и станет грустно.
Потом в сиреневой куртине поселился настоящий дрозд, как он поет. <…> Вот вы взяли бы и приехали… Мы будем лежать на лужайке, смотреть в небо и мечтать, как хорошо выстроить воздушный корабль, полететь высоко, высоко…
<Ну прощайте, приезжайте…>
Ваша Соня!
Этот образ связан с Рахилью из цитировавшегося выше раннего фрагмента через тему фиалок, сиреневой куртины (хотя это не цветообозначение, но в комплекте с фиалками и сизой травой принимается за таковое) и мотив поющих птиц. Сказочность тут спрятана в подкладку – сад и дрозды реальные, а воздушный корабль подан как мечта. О воздушном корабле, который пригрезился инфантильной Сонечке из наброска «Она», в 1920 году будет мечтать автобиографический Никита в «Повести о многих превосходных вещах» (впоследствии «Детство Никиты»), а в 1923 году он преобразится в космический корабль «Аэлиты».