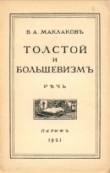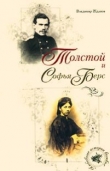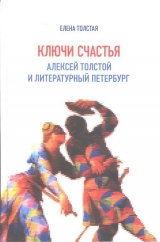
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
Вокруг расставания
В рассказе Толстого «Анна Зисерман», напечатанном, как и другие его военные очерки и рассказы, в газете «Русские ведомости» (22 марта 1915 года), а затем в знаменитом сборнике в защиту евреев «Щит» (1915), отразились фронтовые впечатления и либеральный настрой по отношению к евреям, который был тогда общим для русской литературы. Анна Зисерман, еврейка, прекрасная душой и телом, совершает военный подвиг и гибнет (Толстая 2004б: 183–212). Еврейское семейство, культурный конфликт поколений, еврейская молодежь с ее новым чувством достоинства – все эти детали легко проецируются на семейство Дымшиц. Рассказ явился своего рода прощальным жестом в сторону бывшей жены, сохранившей во время трудного процесса расставания максимум доброжелательности.
В одном из сохранившихся набросков к «Егору Абозову», «Осенний рожок», названном «фрагмент неосуществленного романа “Свет уединенный”», описывается явно автобиографический герой, раздраженный назревающей неверностью жены и на пороге новой влюбленности. Этот отрывок не входил в опубликованные в Полном собрании сочинений и более поздних собраниях сочинений главы и появился в печати совсем недавно, в 2002 году:
Вторая с краю на рыжей кобыле стоит молодая женщина. На ней черная бархатная шубка, опушенная серебряным шеншиля, такая же шапочка на темных волосах, коженные (sic! – Е.Т.) до локтей перчатки; сидит она прямо, опустив покатые плечи; две белых[,] как муфты[,] собаки лежат у копыт ее лошади. Неизменно улыбаясь[,] она поглядывает налево на мужа своего, и улыбаясь загадочно направо, на высокого усатого помещика в зеленом кафтане с бранденбурами <…> ее волнует сейчас неожиданное открытие: Егор Иванович ужасно и мрачно ревнует ее со вчерашнего дня к усатому Краснопольскому; стало быть [,] теперь нечего беспокоиться[,] и давешние опасения оказались ледяными горами, растаяли[,] как лед. Кроме того, Варвара Николаевна чувствует, что сегодня она как никогда хороша собой; красная астра, приколотая к серому меху, у шеи, разгоревшиеся щеки, из-под шапочки прядь волос, которую надо постоянно поправлять, подошедшая по масти к платью лошадь, поскрипывающее седло – бывают не каждый день. <…> Егор Иванович не слышал ни ветра, ни лесного гула, ни лая собак – Варвара Николаевна и слабая, и пышная, и доступная и всегда ухищренная, сосредоточила и замутила как никогда его мысли (Казакова: 167–168).
Далее герой ощущает неслыханный прилив ревности: «Вся муть, вся глухая сила народная прошла через него как волна, закрутила и повлекла, и чорт знает, какие желания могут еще возникнуть в этой породе, пятьсот лет сидевшей за речкой, на черноземе, в деревне Вязовый Гай» (Там же). Толстой был невероятно ревнив. Д. А. Толстой рассказывал, что однажды – видимо, это было в конце 50-х – начале 60-х – Софья Исааковна пришла к ним (т. е. к Наталии Васильевне, жившей последнее десятилетие в семье младшего сына) и рассказала, что всякий раз, когда они с А.Н. торопились куда-то, А.Н. ее, разодетую и раздушенную, валил и совершал с ней половой акт. («Это было совершенно бестактно», – добавил Д.А.) Из этого рассказа явствует, насколько Толстой ревновал ее ко всему миру, к ее желанию нравиться другим, которое он так придирчиво изобразил и в данном отрывке. У нас нет сомнений, что за вышеприведенным портретом стоит именно Софья, с покатыми плечами и темными волосами. На этом наброске, писавшемся в то же самое время, что и кузминский роман, или немного позже [172]172
Слово «пышная», возможно, как-то реагирует на цитированное выше описание Вербиной в «Плавающих-путешествующих».
[Закрыть], уже лежит отсвет мстительной ревности. Акцент в своем описании Толстой ставит не просто на роскоши, а на дизайне облика, одежды, аксессуаров – он называет это ухищренностью. Именно в этом же ключе изобразил и свою Ираиду Львовну Кузмин, наделив ее узнаваемыми черточками Софьиной внешности и нарядов.
Софья в «Хождении по мукам»
Отдельной большой темой является присутствие Софьи (и ситуаций, пережитых вместе с нею) в романе «Хождение по мукам». И круг общения, и сцены у Смоковниковых, и их квартира и вкусы – все точно и подробно отражает конец петербургского периода, то есть 1912 год – и, шире, эпоху Софьи в жизни Толстого. В середине 1910-х годов, в суровой военной атмосфере, вместе с новой женой – Наталией Крандиевской Толстой потянулся к религиозно-философским интересам и сблизился с московским религиозно-философским кружком. Новые духовные искания ведут к переоценке всего предыдущего десятилетия, и футуристические увлечения, кабачки, романы на стороне, поездки в Париж – все, связанное с Соней, – теперь воспринимается как симптомы духовного гниения, готовившие революционную катастрофу. А то, что Толстой в период написания романа, в Париже, узнавал о деятельности организаций, управляющих при большевиках искусством, – тех самых, с которыми была связана теперь Софья, – еще усугубляло его покаянное отторжение всего, связанного с ней в прошлом.
Любопытно, что и сама тема фиалок, сопровождающая ранний образ Сони, в романе «Хождение по мукам» оказывается отнесена к душному и порочному любовному роману старшей героини – Кати Смоковниковой. В восприятии младшей героини, резкой и чистой Даши, недовольной своей пробуждающейся женственностью, фиалки окрашиваются в греховные тона.
Самый большой пласт романных ситуаций, связанных с Соней, запечатлел драматические события лета 1914 года, когда она оставила Толстого и уехала в Париж: это измена Кати мужу, последующий скандал и в конце концов разъезд с мужем (в романе он планировался героями как временный). Здесь автобиографичны психологические перипетии и бытовые детали. В роман вошли и впечатления предвоенного сезона в Коктебеле, где зализывал раны Толстой, обиженный женой, – причем специально отмечается головокружительная легкость, с которой в то лето завязывались и рушились романы: мы помним, что сам Толстой тогда ухаживал чуть ли не за всеми дамами, собравшимися в Коктебеле.
В тексте запечатлено немало эпизодов, воспроизводящих счастливые моменты их любовной и брачной жизни с Соней. Сюда надо отнести плавание влюбленных Телегина и Даши на пароходе по Волге – скорее всего, это впечатления от поездки с Соней в Поволжье летом 1910 года для знакомства с родственниками мужа. Кормление мартынов в этом эпизоде может восходить к совместным походам весною 1908 года в Парижский Jardin des Plantes (Ботанический сад) с Соней в компании Гумилева: кормление там мартынов (т. е. больших чаек) упоминается в ее ленинградских мемуарах (Дымшиц-Толстая 1962: 38).
По моему предположению, и та ярчайшая сцена в начале романа, где влюбленный Телегин, потерявший было Дашу, случайно встречает ее на Невском, в солнечном сиянии, в синей шляпке с ромашками, эмоциональной насыщенностью своей (и даже, возможно, реалиями) связана с той самой случайной и судьбоносной встречей Толстого с Соней на углу Невского и Пушкинской – встречей влюбленных, которым настрого запрещено было встречаться. То, что они все же встретились и возобновился их роман, очевидно, обоими воспринято было как таинственный умысел судьбы – и уж, наверное, и она не напрасно помянула эту встречу в своих воспоминаниях.
Шляпка с васильками есть в волошинских парижских стихах «Письмо» (1904); оттуда она попала в рассказ Толстого «Чудаки» (1910), где ее носит незнакомка, которую герой видит на Невском, против солнца, что обращает ее в сакральное виденье с намеком на излюбленный символистский образ Жены, облеченной в солнце. Отпечаток душевного опыта проецируется на авторитетный культурный контекст, подсвечен цитатой из литературного учителя и самоцитатой. Находки поры ученичества Толстой использовал в зрелости.
1913 год в романе о революции
Новая, политическая, роль, которую взяли на себя сразу после Октябрьской революции русские футуристы, обласканные поначалу новой властью, вызывала отвращение и насмешки у независимых деятелей искусства. В своей статье «Презентисты» (1918) Евгений Замятин писал:
Футуристы умерли. Футуристов больше нет: есть презентисты. <…> Футуристы в своем манифесте требуют «уничтожения привилегий и контроля в области искусства». А презентисты в том же самом манифесте красногвардейски контролируют благонадежность авторов. <…> Футуристы создавали моду; презентисты следуют моде. У футуристов было все свое; у презентистов – уже подражание правительственным образцам, и, как всякому подражанию, их декрету, конечно, не превзойти божественной, очаровательной глупости оригиналов (Замятин 1999: 22–24).
Футуристы когда-то жаждали обновления. После революции они некоторое время еще говорили о «революции духа». Но практика футуристов, монополизировавших контроль над искусством в Советской России и удобно расположившихся в настоящем, заставляла видеть в них что угодно, кроме духовности. Даже такой автор, как Илья Эренбург, пылкий сторонник раннего кубистического искусства, теперь с негодованием отвернулся от поздних футуристов, наблюдая их сближение с властями. «Кафе поэтов», работавшее зимой – весной 1918 года, посещал Луначарский. О футуристическом флирте наркома просвещения с убийственной иронией писал И. Эренбург в фельетоне «Le roi s’amuse» («Король забавляется») в феврале 1918 года:
Так, недавно в кабачке футуристов <…> господин Луначарский не выдержал и попросил слова. Он заявил, что через десять лет все памятники сменятся одним обелиском в честь Маяковского. Футуризм – искусство пролетариата и прочего. <…> О, менее всего меня – ярого приверженца западно-европейского кубизма, – можно упрекнуть в ненависти к исканиям молодых художников и поэтов. Но какая дикая мысль – насадить искусство, до которого сознание не только народа, но и самих художников не дошло. Ах, г. Луначарский, вы одинаково угрожаете российским искусствам и с Маяковским – Татлиным[,] и с Котомкой-Желткевичем [173]173
Леонтий Котомка (Желткевич, Ирина Зеленая и др.) – псевдоним Владимира Иосифовича Зеленского, поэта-социал-демократа, организатора большевистского союза молодежи, печатавшегося в то время в газете «Правда» и выпускавшего в 1918 г. сатирический журнал «Соловей» (впоследствии – сотрудника Известий и Гослита).
[Закрыть]. Вся беда в том, что понимание искусства дается труднее, чем комиссарский портфель» (Эренбург 1996: 20–21).
Весной 1918 года в фельетоне «Большевики в поэзии», напечатанном в независимой газете «Понедельник власти народа», Эренбург подчеркивал буржуазность большевизма, его полярную противопоставленность настоящему духовному обновлению:
Они всюду <…> На пестром вокзале, именуемом «Кафе Питтореск», где публика с Кузнецкого под музыку Грига наслаждается брюшами [174]174
Несомненно, ошибка наборщика, не разобравшего i десятеричного в слове брюшами.
[Закрыть], футуристы провозглашают свои лозунги.– Да здравствует хозяин кафе Филиппов! Да здравствует революционное искусство!
– В маленьком, нелепом подвале [175]175
Кафе поэтов.
[Закрыть], перед кроткими спекулянтами, заплатившими немало за сладость быть обруганными, и для возбуждения их аппетита футурист поет:
Ешь ананасы
Рябчики жуй,
День твой последний
Приходит, буржуй!
Принят большевизм – но эта подделка преображения мира не заставит нас отказаться от веры в возможность иной правды на земле. Выйдя из футуристического кабака, мы не окунемся с радостью в тепленькую ванну нашей поэзии, а еще острее возжаждем горняго ключа, подлинного Рождества нашего искусства.
Люди, глубоко ненавидящие буржуазную культуру, с ужасом отшатываются от большевиков. Классовое насилие, общественная безнравственность, отсутствие иных ценностей, кроме материальных, иных богов, кроме бога пищеварения, все эти свойства образцового буржуазного строя с переменой ролей и с сильной утрировкой, составляют суть «нового» общества. Большевистский «социализм» лишь пародия на благоустроенное буржуазное государство. <…> Футуризм банален, как буржуазия, от него несет запахом духов (Эренбург 1918).
Так, не сговариваясь с Замятиным, судит Эренбург о революционной метаморфозе футуристов. Любопытно, однако, что в этот период его совершенно не пугают собственно эстетические «сдвиги» и сломы – в отличие от Толстого, теперь переосмысляющего художественную практику футуристов чуть ли не с религиозным ужасом. Позднее, в 1920-х годах, Эренбург, напротив, будет всячески подчеркивать подрывную, революционную функцию футуристической эстетики, акцентируя революционные заслуги левого искусства.
Той же яростью, что и у Эренбурга, пышет и толстовский первый набросок к роману о революции. Это два полудокументальных очерка, опубликованных им в Харькове, в газете «Южный край» в октябре 1918 года, под заголовком «Между небом и землей. Очерки литературной Москвы» (Толстая 2003: 157–200) [176]176
Впервые в журнале «Солнечное сплетение» (2000. № 14–15).
[Закрыть]. Первый из них описывает Москву лета 1918 года, второй – литературное кафе, где выступают футуристы; портретно обрисован Семисветов – Маяковский, Василий Каменский – «мать русских футуристов», «футурист жизни» Гольцшмидт [177]177
Эти наброски использованы в повести Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» в 1923 г.
[Закрыть].
И все голоса покрывает зычный по-наглому, по-хулиганскому развалистый бас Семисветова. Он, в задранном апашском картузе, с красным бантом на длинной шее, стоит, покачиваясь, на маленькой эстраде; над головой несколько лампочек, обернуты в красную бумагу; в глубине сидят футуристы: болезненный юноша в черном бархате, с лорнетом, с длинными намазанными ресницами, порочная, пропитанная кокаином полуживая и шепелявая девица, кудрявый, жилистый парень с бабьим лицом и в полосатой, как матрац, шелковой кофте, рядом с ним знаменитый футурист жизни Бубыкин, с близко сидящими глазками, с серьгой, голой грудью и воловьим затылком, стихов он не пишет, говорит – ни к чему, и еще две сексуальные в помятых, черных платьях девушки.
Все они зовут к новой жизни, идут на великий пролом, и, время от времени, когда наступает пауза, – затягивают мрачными голосами:
Ешь ананасы, рябчика жуй,
День твой последний приходит, буржуй.
За тремя столами, протянутыми во всю длину кафе, узкой и длинной комнаты, выкрашенной сажей, с красными зигзагами и буквами, с кристаллами из жести и картона, с какими-то оторванными руками, ногами, головами, раскиданными по потолку, сидят паразитические элементы вперемежку с большевиками и поклонницами Семисветова. Он читает огромную, бурную, хаотическую поэму.
Посетители негодуют, ссорятся, одни с презрением, другие с ненавистью поглядывают друг на друга, у иных, попавших сюда из-за Москвы-реки, такое предчувствие, что настает конец света.
Говорят, за большие деньги можно получить спирту; во всяком случае, к концу чтения на столах лежат головой в локти несколько пьяных коммунистов.
Окончив поэму, Семисветов срывает картуз и, обратясь ко всем со словами: «Американский аукцион! Разыгрывается последний экземпляр моей книжки. Деньги поступают в пользу автора», – идет, толкаясь и суя всем картуз.
Какая-то высокая, скромно одетая, русая девушка подымается, с трясущимися губами, побледнев, говорит отчаянно: «Мне очень больно за вас, Семисветов», бросает ему в картуз 20 рублей, очевидно, последние, и быстро выходит.
«Рита, Рита, вашу керенку спрячу в медальон», – кричит ей вслед Семисветов. На эстраде появляется растрепанная молодая женщина, вся в черном, щурясь, облизывая языком толстые губы, начинает читать что-то очень изысканное про персидские почтовые марки.
Ее сменяет бурным натиском курчавый блондин, рвущийся от Стеньки Разина к мировой коммуне; он также читает о каких-то зайцах мало понятное и подражает соловьиному свисту. Он очень нежен и зовется, несмотря на жилы и порывы – матерью футуристов – для этого, очевидно, и полосатая кофта на нем.
В дверях появляется гугенотская шляпа Ильи Григорьевича и взволнованное, недоуменное лицо Посадова. Они садятся с краю стола, отодвинув пустые стаканы, объедки, крошки; Илья Григорьевич громко говорит: «Удивительно гнусно».
Подобные настроения пронизывают и статьи Толстого о положении искусства в Советской России «Гибель искусства» (Одесса, 1918) и «Торжествующее искусство» (Париж, 1919). В наброске 1918 года Толстой подчеркивает глумливый, откровенно издевательский характер поведения футуристов, в особенности заостренный в облике «футуриста жизни», и созвучность их программы запросам малокультурных денационализированных элементов. В статье «Торжествующее искусство», развенчивая ту широковещательную пропаганду неслыханного расцвета искусств в большевистской России, которой охотно верили деятели левого искусства в Европе, Толстой постфактум объявляет уже и ранних футуристов «зловещими вестниками нависающей катастрофы». Ту же концепцию он развернет в романе, пытаясь показать, что футуристы, во-первых, воплощали новое, бездуховное, чисто коммерческое отношение к культуре, а во-вторых, с самого начала «сознательно делали свое дело – анархии и разложения. Они шли в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами». Можно только удивляться такому анахронизму и упрощению. Хотя Толстой несправедлив к футуризму как искусству, он придирчиво и довольно точно описывает стратегии поздних футуристов, обращая внимание на дискриминацию всех остальных творческих направлений:
В академии и школах живописи уволили старых профессоров и назначили выборы в новую профессуру, причем каждый мог выставить себя кандидатом, но было объявлено, что, если 50 % пройдет старых профессоров, то школу закроют. Так, в московскую школу живописи прошли футуристы. Некоторых из них я хорошо знаю, – они взялись за беспредметное творчество только потому, что не умели рисовать предметов. Союзу художников-футуристов были отпущены многомиллионные суммы, бесконтрольно для скупки и коллекционирования соответствующих произведений.
В то же самое время русские художники, писатели, философы и поэты, не принявшие каиновой печати футуро-большевизма (а приняли ее только двое, трое), принуждены существовать, как птицы небесные. Журналы и газеты закрыты, издание книг и типографии монополизированы правительством, картин покупать частным людям нельзя и негде, а правительство скупает только беспредметное творчество (Толстой 1919а).
Нам представляется, что в этой позиции, кроме гражданского, было и личное измерение. Софья Дымшиц, бывшая графиня Толстая, оказывается ближайшей сотрудницей и сподвижницей главы футуристов по той их деятельности, которая Толстому кажется убийством русского искусства, растлением народного духа, разрушением образа мира и – через это разрушение – магическим умерщвлением жизни на земле. Нам кажется, что гражданский пафос осложнен здесь глубоко личными гневом, отчаянием и ненавистью; к ним примешивается и оттенок национального чувства, восстающего против навязываемого этим искусством универсального и абстрактного языка вместо гонимого и запретного своего.
Уезжая на юг из Москвы летом 1918 года, Толстой оставил там свою старшую дочь, семилетнюю Марьяну. Мысль о брошенной дочери, для которой у матери – футуристки и комиссарши – нет времени, должна была преследовать Толстого ежечасно. В Париже в той же бурцевской газете «Общее дело» 20 августа 1919 года, то есть за две недели до того, как появилась его статья «Торжествующее искусство», он опубликовал следующее послание, полученное им из Москвы, – несомненно, от матери его новой жены Н. В. Крандиевской, писательницы Анастасии Романовны Крандиевской. Поражает в нем именно горячая и гневная личная заинтересованность темою власти футуризма, связанной с «С. Д.», то есть Софьей Дымшиц. Получается, что футуристы ответственны и за холод, и за голод, и за вымирание интеллигентной Москвы. Анастасия Романовна писала:
<…> Сейчас огромные дела с искусством делают футуристы, – Маяковский, Татлин, С. Д. и проч., до того они ловко сами себя и покупают, и прославляют. В народный музей скупаются сейчас картины и статуи, и в первую голову идет бредовая мазня футуристов. Татлину же, кроме того, большевиками отпущено на искусство бесконтрольно полмиллиона рублей.
Друзья мои, не горюйте сейчас о Москве. Она[,] и Питер, и вся Россия сейчас зяблые. Забейтесь в куток, где-нибудь на юге, где был бы только кусочек белого хлебушка, ходите в рогожах, в лаптях, да только не мучайтесь от голода, как мы.
У нас у всех такое здесь чувство, что большевики будут править Россией 33 года, но только России уже не будет, а будет огромное кладбище, на котором ветер плавает от Ледовитого океана до Черного моря.
Души наши опустошены, будущее беспросветно и безнадежно. Так, по крайней мере, кажется оно нам, когда читаешь газеты. В них изо дня в день печатается все одно и то же, – о победе и одолении всемирного коммунизма. Иной раз кажется, что в этой беспросветной мгле так и не закончишь свои земные дни… (Толстой 1919).
В эмиграции Толстой законсервирует свое отношение к футуристам, оно отразится в «Хождении по мукам». Оттуда он не увидит, что власти еще в 1921 году, когда публиковался его роман, лишили левое искусство своей эксклюзивной поддержки. Вернувшись же в Россию, он подвергнется такой атаке «левого фронта искусств» – за традиционализм, с одной стороны, за бульварщину – с другой (хотя бульварные жанры будут потом теоретически приветствоваться в ЛЕФе), что у него отпадет всякая охота разбираться в нюансах авангарда.
Сами футуристические эпизоды в романе «Хождение по мукам» все еще недостаточно изучены, и кажется необходимым уточнить прототипы изображенных Толстым фигур, картин и текстов. Идеолог футуристов Сапожков у Толстого заявляет о разрыве с культурной традицией: «Мы ничего не хотим помнить» (Толстой 1921-1: 6). Реальный прототип его декларации – выступления и лекции футуристов, поэзия и статьи раннего Маяковского. Ср. в «Облаке в штанах» (1913): «Никогда ничего не хочу читать» (Маяковский 1: 181); в «Штатской шрапнели» (1914): «Искусство умерло. <…> А мне не жалко искусства!..» (Там же: 302–303). Культ автомобиля и культ скорости у Сапожкова – составные идеологии русских «будетлян», опорные пункты футуристических концепций Ф. Т. Маринетти, ср.:
Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшенным громадными трубами со взрывчатым дыханием… рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее Самофракийской Победы (Манифесты: 7).
Сапожков заявляет: «Да здравствуют американские башмаки!», воспевает нового человека «в сияющем, как солнце, цилиндре». Американские башмаки воспел, как известно, футурист Илья Зданевич, доказывая, что они «прекраснее Венеры Милосской». Это произошло на диспуте «Восток, национальность и Запад», организованном 23 марта 1913 года в Москве (Харджиев: 46). У Маяковского можно найти сходные мотивы в поэме «Человек» (1916–1917): «…о новом – пойте – демоне / в американском пиджаке / и блеске желтых ботинок…» (Маяковский 1: 258); «Какой сногсшибательней вид? / Цилиндр на затылок. / Штаны – пила. / Пальмерстон застегнут наглухо. / Глаза – / двум солнцам велю пылать / Из глаз неотразимо наглых» – «Следующий день», 1916 ((Манифесты: 121). Цилиндр постоянно носил Бурлюк, и Маяковский тоже его любил – впрочем, как и «аполлоновцы» Гумилев, Волошин и сам Толстой, не подводившие под него футуристической идеологии.
Сергей Сергеевич Сапожков, как и Владимир Владимирович Маяковский, Василий Васильевич Каменский и Давид Давидович Бурлюк, имеет одинаковые имя и отчество, он как бы сам является своим родителем, что может интерпретироваться как отказ от прошлого, памяти, истории. С другой стороны, фамилия Сапожков напоминает о нигилистах 1860-х, для которых сапоги выше Шекспира, и об их наследнике Маяковском, ср. в «Облаке в штанах»: «Гвоздь у меня в сапоге / кошмарней, чем фантазия у Гете» (Там же: 183).
Вместе с тем Сапожков наделен человеческим обаянием. Этот радикальный, но симпатичный одноклассник героя поможет ему на войне (а в последующих частях романа станет красным командиром). Что касается цеховой принадлежности Сапожкова, то здесь Толстой – возможно, преднамеренно – сливает петербургский и московский футуризм, в то время как их разноприродность была для современников очевидной. На нее указывал Чуковский в своей статье «Футуристы»:
Здесь я говорю исключительно о кубофутуристах московских. Милые эгопоэты, петербургские гении, Игорь Северянин, Дмитрий Крючков, Вадим Шершеневич, Павел Широков, Рюрик Ивнев, Константин Олимпов, конечно же, здесь ни при чем. <…>
Но теперь они все разбежались, да и будуариться, кажется, бросили; эгофутуризм уже кончился, и теперь в покинутых руинах озерзамка хозяйничает Василиск Гнедов, личность хмурая и безнадежная, нисколько не эгопоэт, в сущности, переодетый Крученых, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный с традициями эгопоэзии.
Это очень показательно и важно, что, чуть эгофутуризм исчерпался, его пожрал, проглотил целиком кубофутуризм, бурлюкизм. Иначе и быть не могло: бурлюкисты кряжистый народ, а эгопоэты эфемерны и хрупки.
Странно, что русские критики могли эти два направления смешать и, посвятив им большие статьи, так-таки до конца не заметили, что петербургские эгофутуристы одно, а московские кубофутуристы другое. У эгофутуристов во всем, в структуре стиха, в языке и в сюжетах, – пусть и смешная! – утонченность, переизысканность, перекультурность, а кубофутуристы против чего же и ратуют!
Эти два направления полярны. Одни сжигают именно то, чему поклоняются другие.
А если случайно встречаются в них какие-нибудь общие черты, то лишь оттого, что поначалу оба эти заклятых врага нарядились в одинакие мундиры, сшитые одним и тем же портным – из Парижа и Рима, – Маринетти; казалось, что они рядовые одного и того же полка (Чуковский 1914: 129).
У Толстого, судя по стихам и программам, изображены типичные кубофутуристы, но орудуют они в Петербурге. В тексте несколько раз упоминается тема зигзага. Художник Зигзаг участвует уже в неоконченном романе Толстого о литературно-художественном Петербурге «Егор Абозов» (1915). По предположению Вадима Скуратовского, в этом образе отразился мотив, ключевой для стихов и прозы петербургского футуриста Василиска Гнедова (Гнедов 1992: 36–38). Гнедов находился на крайней левой петербургского эгофутуризма, сближаясь с кубофутуристами – как об этом пишет Чуковский. Любопытно, что рисунок ранней биографии Гнедова полностью сходится с метаморфозами Сапожкова. Гнедов, единственный из футуристов (кроме Бенедикта Лившица), воевал на фронте, а после Октября стал большевиком и служил в Красной армии (Сигей 1992: 24–26).
Важную роль в ранней версии романа играл другой поэт, близкий к футуристам: «черноватый, истощенный юноша» Александр Иванович Жиров, студент юридического факультета; в журнальном варианте он вскоре переберется на юг и примкнет к анархистам группы Жадова. (В редакции 1925 года он уже не участвует в соответствующих эпизодах.) Эти биографические вехи указывают на поэта Вадима Шершеневича, который в 1913 или 1914 году, когда Толстой впервые должен был о нем услышать – и несомненно, в контексте именно футуристических хеппенингов, – действительно изучал в Московском университете юриспруденцию. Толстой встречался с ним в Москве и позже – в марте 1918 года тот пригласил его сотрудничать в литературном кафе «Живые альманахи» (см. выше). Тогда, в 1918 году, Шершеневич был близок к анархистам, и настолько, что это навлекло на него в 1919 году тюремное заключение.
Шершеневич никогда не пользовался популярностью среди своих коллег, относились к нему всегда скептически. Однако вклад его как культурного и способного популяризатора, переводчика и критика раннего футуризма необходимо признать. В человеческом плане Шершеневич был незначительнее, а художественно – уязвимее Маяковского, поэтому больше подходил на незавидную роль второстепенного персонажа романа, в целом к футуристам враждебного. Это роль юного поэта с пробором и потными ладонями, стихи которого в кадр не попадают.
Толстовские футуристы назвали свои вечера «Великолепными Кощунствами» – это фразеология того раннего этапа, когда все тексты русских кубофутуристов пестрели этим эпитетом; ср. у Маяковского: «Какая великолепная вещь – война!» («Штатская шрапнель. Поэты на фугасах», 1914 – Маяковский 1: 307) или название его стихотворения «Великолепные нелепости» (1915), но также название богоборческой, действительно кощунственной пьесы Шершеневича «Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния» (3-е изд. М., 1916). Этот термин сохраняется как фирменный знак Шершеневича и его друзей после изобретения им в 1919–1920 годах своего собственного извода футуризма – имажинизма; он и мемуары свои озаглавил «Великолепный очевидец». Значимость этого эпитета, вероятно, определяется программным высказыванием Маринетти в романе «Футурист Мафарка»: «Будем устремлять к великолепию все минуты нашей жизни» (Маринетти: 147). Место, отведенное в толстовском описании творчества футуристов мотиву «падающих небоскребов» (Толстой 1921-1: 26), тоже указывает в сторону не только Маяковского, но и, прежде всего, – Шершеневича, в урбанистической поэзии которого это постоянный мотив: «Небоскребы трясутся и в хохоте валятся» («Землетрясение. Nature vivante», 1913) (Шершеневич: 21–22). Да и другой урбанистический мотив толстовских футуристов – «автомобили, ползущие по небесному своду» (Толстой 1921-1: 26) – тоже нацелен, вероятно, на Шершеневича: «Мне смешно, что моторы и экипажи / Вверх ногами катятся, а внизу облака» («Прихожу в кинемо» – Шершеневич: 28). В Одессе Толстой мог видеть «Авто в облаках» (1915) – альманах, изданный группой молодых одесских поэтов (Э. Багрицкий, А. В. Фиолетов (Шор) и др.), где печатались и столичные литераторы: В. Шершеневич, В. Маяковский, С. Третьяков.
Фразеология футуристов у Толстого запечатлела и манифесты футуристов; так, их афиша: «Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители! Мы семена нового человечества»! (Толстой 1921-1: 25), автоцитата из фрагмента «Между небом и землей», – очевидный перифраз реальной вырезки из газеты 1918 года, сохраненной в дневнике Толстого:
Елка футуристов
Большая аудитория Полит<ехнического> Музея. В субботу, 30 декабря 1917 г. в 7 часов вечера состоится Елка футуристов. Вечер-буфф молодецкого разгула поэзо-творчества. Под председательством знаменитостей: Давида Бурлюка, Владимира Гольцшмидта, Василия Каменского, Владимира Маяковского и др. Вакханалия. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Предсказания. Засада гениев. Карнавал. Ливень идей. Хохот. Рычания. Политика. Желающ<их> прин<ять> участ<ие> в украш<ении> елки футур<истов> просят детей не приводить (Материалы: 355–356).
Но здесь слышится и эхо стихов В. В. Каменского 1913–1914 годов: «Эй Колумбы – Друзья Открыватели / Футуристы Искусственных Солнц» («Карнавал Аэронц» – Каменский: 7–8) или «Я стою одиноким Колумбом» («Часто видел внизу муравьиную кучу…» – Там же: 23). И, конечно, в строках Толстого различим отголосок выступлений Д. Бурлюка на первых концертах футуристов осенью 1913 года в изложении Каменского в книге «Путь энтузиаста» (1918): «Мы есть люди нового, современного человечества, <…> мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего, и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюхо буржуазии-мещан-обывателей» (Там же: 470).