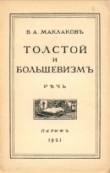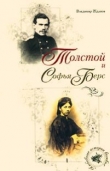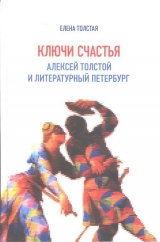
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 43 страниц)
«Петербург» Белого как отправная точка для Толстого
В 1913 году перед отъездом за границу Андрей Белый устраивает чтения романа «Петербург» в столице, ср.: «“Петербург” мой весьма популярен; у В. Иванова на “башне” ряд чтений моих, на которых присутствуют Городецкий, Толстые и даже затащенный сыном редактор “Речи” И. В. Гессен; все рассыпаются в комплиментах» (Белый 1990: 438).
Продав роман издателю Некрасову, Белый надолго уезжает за границу и возвращается в Россию только летом 1916 года, но и в этот год мало бывает в Москве. Встречаться с ним Толстой может лишь после Февральской (фактически произошедшей 1 марта) революции, когда активизируется общественная жизнь. Оба участвуют в Клубе московских писателей и в сборнике «Ветвь». В начале 1918 года, глухой зимой, возрождается Клуб московских писателей, зачахнувший было на катастрофическом фоне событий конца 1917 года, причем Толстой играет в этом какую-то организаторскую роль, судя по тому, что Клуб вначале собирается в Хлебном пер., д. 1, в редакции библиографического журнала «Бюллетени литературы и жизни», который издает и редактирует его тесть Василий Афанасьевич Крандиевский. На одном из заседаний Клуба Белый читает лекцию «Революция и культура». Нам кажется, что именно эта лекция отозвалась в первом эпизоде романа – Философских вечерах, изображающих, разумеется, Религиозно-философское общество. У Толстого докладчик Вельяминов, похожий на Е. Н. Трубецкого, спорит с утопическим проектом большевистского теоретика: «…в этом страшном раю грозит новая революция <…> – революция Духа» (Толстой 1947: 13) – ср. у Андрея Белого в «Революции и культуре»: «Революция начинается в духе; в ней мы видим восстание на материальную плоть; выявление духовного облика наступает позднее; в революции экономических и правовых отношений мы видим последствия революционно-духовной волны; в пламенном энтузиазме она начинается; ее окончание – опять-таки в духе…» (Белый 1994: 297).
С января по сентябрь 1918 года Белый находится в Москве. В январе участвует в вечере «Встреча двух поколений поэтов» у М. А. и М. С. Цетлиных, на котором выступает и Толстой. Нам достоверно известно об одной личной встрече Толстого с Белым наедине – она произошла летом 1918 года, и, видимо, была для Толстого важным событием, поскольку в дневнике его по этому поводу сделана подробная запись:
Разговор с Белым ночью в пустой квартире. Чехлы, Огромные диваны и буфеты. На столе клеенка, чашка с творогом, несколько кусков сахара в жестянке, мед в горшке, старенький самоварчик.
Так вот вся наша жизнь в пустой квартире с чехлами и небольшой чемоданчик.
Рассказывал, как он жил в Берлине с женой, слушали Штейнера. Освобождали себя от всех наслоений культуры, ума, знаний, теорий.
Жизнь представлялась неверной, случайной, слепой, на грани какой-то катастрофы. Жил в ожидании катастрофы. И вот теперь он – приготовлен к испытаниям, то, что происходит, не неожиданность. Я сказал, что раньше вся жизнь строилась на смерти, теперь на жизни. Стержень иной, но когда и как во мне произошла эта перемена – не помню (Материалы: 360).
Эта запись, по наблюдению А. М. Крюковой, была обобщена в подготовительной заметке к роману «Восемнадцатый год» следующим образом: «Интеллигент. Вот наша жизнь: пустая квартирка с чехлами и небольшой чемоданчик для странствия.
Освобождаю себя от всех наслоений культуры, ума, знаний, теорий. Живем в ожидании какой-то катастрофы. Так стройте свою жизнь…» (Там же: 388).
В «Восемнадцатом годе» этот пассаж преобразился в рассуждения о наступающем веке «массы», которому не нужно «все бесполезное, неповторяемое, способное возбуждать отмирающие чувства – любовь, самопожертвование, поэзию, слезы счастья…» (Толстой ПСС-7: 437–438; эта проблематика вторит появившейся в 1927 году повести Олеши «Зависть», где говорится об отмирающих чувствах, ненужных в новом мире).
Очевидно, в суховато-скептическом тоне дневниковой записи беседы с Белым мы вправе услышать мстительный оттенок – мол, вот, ожидали всю жизнь катастрофы и дождались, уничтожали культуру, ум, знания, теории – и получили по заслугам, остался дом ваш пуст… Возможно, это и есть концептуальное зерно, из которого прорастают образы разрушителей в «Хождении по мукам».
Мы можем восстановить повод для этой встречи. В июне 1918 года Толстой начинает работать в Кинематографическом комитете и сам пишет сценарий кукольного фильма «Ванин сон». 16 июня он посылает К. Чуковскому письмо с предложением написать детский сценарий. В хронике Белого (Лавров 1988: 792) именно 16 июня отмечается как дата заключения им договора на сценарий по роману «Петербург» (неоконченный сценарий «Петербурга» существует – хотя, видимо, он был написан Белым позже, поскольку в нем усматривают влияние немецкого экспрессионизма. Это проект фильма ужасов, полного фантастики и чертовщины – Николеску: 124–127).
По всей вероятности, тогда же произошла и встреча, описанная в дневнике Толстого. Вероятно, ей предшествовало хотя бы перелистывание романа «Петербург» – чтобы решить, переводим ли он на язык кинематографа. Кажется, что любое воскрешение в памяти «Петербурга» Белого – а в переживаемый момент он был оправдавшимся пророчеством – могло взорваться в сознании Толстого ростком альтернативного романа о Петербурге, «предсказывающего назад».
Присутствие «Петербурга» Белого в романе «Хождение по мукам» подчеркнуто. Налицо узнаваемые реминисценции оттуда на разных уровнях: во-первых, вступление к роману (написанное не раньше начала 1920 года), где задается, в крайне субъективном тоне, историософская перспектива и где город Петербург выступает в качестве одного из действующих лиц. Во-вторых, перечисление в этом вступлении литературных мотивов петербургской чертовщины, задающее иррациональную тональность. Это та же цель, что во вступлении к «Петербургу», она достигается нагнетанием квазилогических построений. От Белого идут и утверждения, что город этот есть не что иное, как бред, сон, фантазия: «…И совсем еще недавно поэт, Алексей Алексеевич Бессонов <…> подумал, что лихач и нити фонарей и весь за спиной его спящий Петербург – лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой»; «С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы»; «Как сон, прошли два столетия»; «С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии» (Толстой ПСС-7: 8 и сл.).
Эти мотивы из прелюдии реализуются в сюжете: идеи заговорщиков Бессонов оценивает так: «Но ведь это бред!»; «Послушайте, но ведь это бред!». Подводит к оккультной тематике Белого упоминание призраков: «Страна питала и никак не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки» (Там же). Заимствует Толстой и знаменитую пространственную концепцию «Петербурга», где из центра исходят идеи порядка, а окраины клубятся бесформенностью и бунтом. Правда, при этом он любопытным образом сдвигает акценты:
Петербург, как и всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу (Там же).
Где у Белого противоборствующие силы, революция и реакция, одноприродны и равно отвратительны и пагубны, там у Толстого центральная сила, сама по себе нормальная и вменяемая, роковым образом не слитас духом города – который уже сплошь, без всяких пространственных градаций, и есть дух разрушения:
Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить (Там же и сл.).
То есть конфликт «центра» и «периферии» формулируется как конфликт «силы», которая не понимает, что ей делать, и «духа», который превратился в «дух разрушенья», фактически в страсть к саморазрушению, обещающую «роковой и страшный день».
В концепции «Хождения по мукам» вина за крах России возлагается на «предвозвестников» гибели, то есть на духовных ее растлителей.
Именно таким растлителем в романе Белого выведен террорист Дудкин:
Помнится, в тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период истории изжитого гуманизма закончен и культурная история теперь стоит перед нами, как выветренный трухляк: наступает период здорового зверства, пробивающийся из темного народного низа (хулиганство, буйство апашей), из аристократических верхов (бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика) и из самой буржуазии (восточные дамские моды, кэк-уок – негрский танец).
И – далее:
Александр Иванович в ту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он и призванье монголов (впоследствии он испугался монголов). Все явления современности разделялись им на две категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маскою утонченности (явление Ницше и Ибсена) и под этою маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах (Белый 1981: 292).
За отчетом об авангардных увлечениях Дудкина следует рассказ о том, как в кофейне он и сатанизм признал «здоровым варварством», после чего – в кошмаре или бреду – он поклонился темным силам (в духе знаменитого шабаша из «Воскресших богов» («Леонардо да Винчи») Мережковского) и был ими уничтожен.
В «Хождении по мукам» тоже подробнее всего описано именно аристократическое «растление духа»: бунт искусств и культ примитива, призывы к разрушению культуры и памяти, к сведению человека на низшие уровни психики (в главах о футуристах, анархистах, большевиках), упоение «хаосищем» (в главе о жаждущем разрушения инженере Струкове); как раз хулиганство и буйство низов показаны сдержаннее всего, азиатской мистики нет вовсе. Словом, есть глубинное сходство между идейными построениями «Петербурга» и мифологической структурой, заложенной Толстым в основание своего романа: здесь тоже действуют «темные силы», на сторону которых давно перешел главный антагонист, всеобщий искуситель поэт Бессонов. Правда, у Толстого нет симметрии возмездия – сатанинского Бессонова уничтожают не злые силы, а случайный встречный-дезертир в припадке помешательства.
Любопытно, что впервые в творчестве Толстого демоническая фигура и ее монолог, предвещающий соблазнительные речи Бессонова, появились в рассказе «Сон в грозу», опубликованном 24 июня 1918 года – через неделю после вероятной даты разговора Толстого с Андреем Белым [228]228
Рассказ вышел в крохотной газетке профсоюза печатников «Утро Москвы» – приложении к газете «Вечер Москвы». Источник этот нашел А. Ю. Галушкин. См.: Толстая 2006: 427–429.
[Закрыть].
В «Сне в грозу» герой-студент ревнует милую девушку Настеньку к неприятному соседу по имени Адам Шварц – то есть «черный человек». Лицо у Шварца «сухое, будто невымытое»: это признак его «огненности» – он все время стоит у печи и жжет спички. «Невымытость» же его контрастирует с чистотой, духовной и физической, Настеньки, которая стирает и развешивает мокрое белье. Москва тоже влажная, дождливая, вымытая; Настенька, конечно, олицетворяет Россию как влагу – чистую влагу природы, жизни и женственности. Огненный же Шварц говорит: «Я думаю, настало, наконец, время, когда разум должен потягаться с сырой, животной силой» и соблазняет героиню мудростью и властью над миром: «Необходимо как можно скорее избавиться от этой растительной сырости. Разорвите сеть, освободите ваш дух, пусть он не томится вместе с жуками, с личинками, с кошками, со всем этим сырьем» и т. д. Но и этот миф о «влажной, природной» России, которую обольщает «огненный» дьявол, на наш взгляд, тоже указывает в сторону Андрея Белого – на начало его знаменитого эссе «Луг зеленый»:
Пелена черной смерти в виде фабричной гари занавешивает просыпающуюся Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном. <…> Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдаст свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, чтобы сохранить для своей красавицы родной аромат зеленого луга, или колдуну из страны иноземной, облеченному в жупан огненный, словно пышущий раскаленным жаром железоплавильных печей (Белый 1905: 15).
Итак, фигура антагониста в романе «Хождение по мукам» строилась не только как пародийный портрет Блока (а именно так принято считать), но и как осмысление, на многих уровнях, мифологических структур прозы Андрея Белого.
Белый и Толстой в «серо-буром Берлине»
Как только с наступлением нэпа открылись границы, в Берлин хлынул поток российской интеллигенции. Вскоре в Берлине собрались десятки ведущих русских литераторов и журналистов, и он превратился в мощный литературный центр. В 1922 году он стал столицей русского книгопечатания. Здесь создаются десятки книгоиздательств, среди которых важнейшими в литературном аспекте выступают «Слово» [229]229
Издательство «Слово» (1920–1935) было частью мощного немецкого концерна «Ульшейн» и являлось самым крупным и стабильным русским книгоиздательским предприятием в Германии. Ориентация его была либерально-кадетская. Директором был И. В. Гессен.
[Закрыть], «Издательство И. П. Ладыжникова» [230]230
Издательство И. П. Ладыжникова, главного фактотума Горького в издательской деятельности, начало свое существование в 1905 г. как неподцензурное издательство РСДРП в Женеве. В 1914–1917 гг. Ладыжников работает в России над проектами Горького. В 1921 г. он выезжает в Берлин и возобновляет свое издательство, действовавшее до 1927 г. Оно обслуживало эмигрантского читателя, публикуя классику, учебники и современных авторов, приемлемых для большевиков.
[Закрыть], «Эпоха» [231]231
Издательство «Эпоха» основано было в 1921 г. в Петрограде К. Чуковским и Е. Замятиным, в 1922 г. в Берлине открылось его отделение, которое возглавил Соломон Гитманович Каплун (1883–1940), позднее, в 1923–1925 гг., издатель горьковской «Беседы». Каплун разорился, разрешив ввоз «Беседы» в РСФСР; власть не поощряла ее закупку, и тираж остался нераспроданным. Он переехал в Париж, сотрудничал в газете «Последние новости», погиб в 1940 г. при оккупации Парижа нацистами.
[Закрыть], «Скифы» [232]232
Издательство «Скифы» основано было в Берлине левыми эсерами, действовало в 1920–1924 гг., издавало Блока, Есенина, Л. Шестова, книги по естествознанию и технике (иногда по советским заказам).
[Закрыть], «Геликон» [233]233
Издательство «Геликон», основанное в Москве (1917), принадлежало Абраму Григорьевичу Вишняку (1895–1943). Он эмигрировал, в Берлине в 1921 г. возобновил «Геликон». С 1926 г. до середины 30-х гг. в Париже, изредка издавал книги под маркой «Геликона», затем в Праге. Арестован в 1941 г., погиб в лагере в 1943 г. Издавал сочинения М. Цветаевой, Б. Пастернака, И. Эренбурга. «Геликон» прославился художественным вкусом и высоким качеством полиграфии.
[Закрыть], «Огоньки» [234]234
«Огоньки» (1922, Берлин) – издательство А. Г. Левенсона.
[Закрыть], издается множество газет и журналов.
В течение 1920–1921 годов в столицах Европы открылись откровенно просоветские периодические издания, финансируемые из Москвы, но они не имели успеха. Тогда новые власти избрали более сложную тактику разложения и раскола эмиграции.
С 26 марта 1922 года в Берлине начинает выходить ежедневная сменовеховская газета «Накануне». Она номинально была независимой, но финансировалась Москвой, курировал ее берлинский полпред Крестинский. У нее, единственной из зарубежных русскоязычных газет, было свое представительство в Москве. Газету издавала группа т. н. сменовеховцев, главой которых был Н. В. Устрялов [235]235
Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) – публицист и политический деятель, идеолог сменовеховства. Приват-доцент Московского университета, крупный кадетский лидер, один из руководителей Бюро печати при правительстве Колчака, редактор омской газеты «Русское дело». Затем профессор в Харбине, в 1935 г. вернулся в СССР, преподавал. В 1937 г. Устрялов был арестован и убит в тюрьме (официально – покончил с собой).
[Закрыть], в 1918 году выдвинувший платформу национал-большевизма, представляющего большевиков как национальную консолидирующую силу. Осенью 1921 года в Праге вышел в свет сборник «Смена вех», утверждающий национальный характер новой власти и призывающий к сотрудничеству с ней. Вскоре в Париже стал издаваться одноименный журнал, просуществовавший до марта 1922 года. Поздней осенью 1921 года часть сменовеховцев переехала в Берлин и занялась организацией газеты. Название газеты «Накануне» подчеркивало преемственность с московским журналом, который Устрялов, профессор Ю. Ключников [236]236
Ключников Юрий Вениаминович (1886–1938) – правовед (до 1917 г. приват-доцент Московского университета), журналист, писатель. Член Партии народной свободы. В 1918 г. издавал с Устряловым еженедельник «Накануне» в Москве, затем управделами Министерства иностранных дел при Директории и Колчаке, представитель Омского правительства на Версальской конференции. Затем в Париже (где в 1921 г. пишет примиренческую пьесу «Единый куст») и с конца 1921 г. в Берлине. Основной автор и организатор сборника и журнала «Смена вех». Один из редакторов берлинской «Накануне» (до конца лета 1922 г.). В 1922 г. Ключников – эксперт советской делегации по вопросам международного права на Генуэзской конференции. В 1923 г. вернулся в РСФСР, заведовал Кабинетом международной политики в Коммунистической академии. В 1935 г. выслан на 3 года в Карелию за «антисоветскую агитацию». В 1937 г. вновь арестован и в 1938 г. расстрелян.
[Закрыть]и Ю. Потехин [237]237
Потехин Юрий Николаевич (1890 – после 1938) – журналист, литератор, кадет. Вместе с Устряловым и Ключниковым издавал в начале 1918 г. в Москве еженедельник «Накануне», участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Париже, с февраля 1921 г. участник группы «Смена вех», с 1922 г. в Берлине, член редколлегии газеты «Накануне» (1922–1923), в 1923 г. вернулся в Россию, возглавлял московские издательства «Новые вехи» (1923–1924), «Новый век» (1925–1926), член редколлегии журнала «Советское строительство» (1927–1928), в середине 1930-х гг. арестован, погиб в заключении.
[Закрыть]издавали весной 1918 года. Издавалась газета под редакцией Ключникова и Г. Кирдецова [238]238
Кирдецов (Дворецкий) Григорий Львович (И. Э. Фиц-Патрик, 1880–1938?) – писатель, журналист, профессор-экономист. Сотрудник либеральных изданий: «Мира Божьего», «Вестника Европы», «Биржевых ведомостей», «Русской воли». Сотрудничал также в «Энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона» и «Еврейской энциклопедии». В 1918 г. эмигрировал, жил в Дании и Чехословакии и в 1919 г. прибыл в Ревель (Таллин) уже в качестве английского корреспондента. Был редактором отдела агитации и печати Политического совещания при Юдениче. Издавал газету «Свободная Россия», официоз Северо-Западного правительства (1919–1921). После провала похода генерала Юденича на Петроград издал «полупокаянную», по выражению Воронского, книгу «У ворот Петрограда» (1919–1920), в которой Белая армия подвергнута жесткой критике. Затем оказался соредактором газеты «Накануне», потом, после ухода из нее Ключникова, единоличным редактором: газета при нем стала откровенно официозной и быстро теряла своего читателя. В середине 1920-х гг. Кирдецов вернулся в СССР, работал в НКИД, служил пресс-атташе советского посольства в Италии (был одним из редакторов «Аванти» – центрального органа Итальянской социалистической партии). С 1925 по 1931 г. редактор журнала «СССР» в Москве (и ведущий переводчик общественно-политических материалов с итальянского). До 1935 г. – контрольный редактор и научный сотрудник «Большой советской энциклопедии». В 1935 г. арестован и сослан, в 1938 г. вновь арестован и расстрелян.
Ср. несимпатичный портрет Кирдецова у Р. Гуля: «Редакция „Накануне“ занимала обширное помещение. Меня приняли С. С. Лукьянов и Г. Л. Кирдецов. <…> Г. Л. Кирдецов мне сразу не понравился. Он был уже в годах, отталкивающей внешности (Кирдецов – это был, кажется, псевдоним). По всем своим манерам он был типичнейший, видавший всякие виды и во всех водах мытый газетчик. Потом болтался где-то в Прибалтике, ни с какими сменовеховскими писаниями никогда не выступал и вдруг… оказался в редакторском кресле „Накануне“» (Гуль 1984: 200).
[Закрыть], при ближайшем участии профессоров С. Лукьянова [239]239
Лукьянов Сергей Сергеевич (1888–1938) – московский филолог, журналист. В феврале 1921 г. он прочел в Париже доклад о положительной эволюции большевизма в сторону государственного мышления, предлагая провести грань между большевиками (оппортунистами) и коммунистами (идейными интернационалистами). С 1922 г. в Берлине, член правления берлинского Дома искусств, соредактор газеты «Накануне», летом 1924 г. вернулся в Париж, редактор журнала «Наш Союз» (1926–1927), в 1927 г. выслан из Франции в СССР, главный редактор московского журнала «Journal de Moscou», летом 1935 г. арестован.
[Закрыть], Ю. Потехина и Б. Дюшена [240]240
Дюшен Борис Вячеславович (1886–1949) – инженер, профессор, журналист. С 1921 г. в Берлине, ведущий сотрудник газеты «Накануне», позднее сотрудничал в берлинском отделении советского издательства «Знание». В 1926 г. вернулся в СССР.
[Закрыть].
В ситуации ранних 20-х движение «Смены вех» имело целью примирение с большевиками – что означало раскол эмиграции и возвращение части интеллигенции в Советскую Россию. В Париже Толстой, недовольный упадком эмиграции и собственным положением в эмигрантской литературе, позволяет себя соблазнить сменовеховским проектом. Ему обещают то, чего он был лишен в Париже, – собственный журнал. Действительно, Толстой становится редактором «Литературного приложения» к газете «Накануне»; оно начало выходить с 30 марта 1922 года, в нем работали молодой А. Ветлугин (В. И. Рындзюн) [241]241
Ветлугин А. (Рындзюн Владимир Ильич, 1897–1953) – журналист, прозаик. В 1917 г. печатался в московской оппозиционной газете «Луч правды», в 1918 г. – в газете анархистов «Жизнь», затем на юге в ростовской «Жизни», эмигрировал из Новороссийска в 1920 г. В Париже сотрудник «Общего дела», с 1922 г. в «Накануне», едет в Америку переводчиком Есенина и Дункан, в сентябре 1922 г. остается в Штатах, через год приезжает в Берлин корреспондентом от нью-йоркской прокоммунистической газеты «Русский голос», становится ее редактором в 1924 г., увлекается кино и уезжает в Голливуд в 1926 г. Делает карьеру, возглавляет сценарный отдел на MGM (Metro Goldwin Mayer) и даже сам становится продюсером.
[Закрыть], более зрелый И. Василевский (He-Буква) [242]242
Василевский (He-Буква) Илья Маркович (1882–1938) – журналист, издатель газеты «Свободные мысли» (Петербург), в 1915–1917 гг. редактировал «Журнал журналов». В 1918 г. издавал «Свободные мысли» в Киеве, в 1919 г. в Одессе, также издавал газету «Современное слово», в Константинополе выпускал еженедельник «Русское эхо», в Париже в 1921 г. возобновил «Свободные мысли», но вскоре переехал в Берлин, где сотрудничал в «Накануне», в 1923 г. вернулся в СССР, заведовал редакцией журнала «Изобретатель». Репрессирован.
[Закрыть], пожилая и бедствующая Нина Петровская [243]243
Петровская Нина Ивановна (1884–1928) – литератор, с 1911 г. жила за границей, в Италии, с 1922 г. в Берлине, с 1927 г. в Париже. Покончила с собой.
[Закрыть], старики-декаденты первого призыва (еще времен «Северного вестника») Н. Минский [244]244
Минский Николай Максимович (H. M. Виленкин, 1855–1937) – поэт, драматург, критик, переводчик, с 1906 г. в эмиграции в Париже, в 1913 г. вернулся в Россию, осенью 1914 г. уехал в Париж в качестве военного корреспондента, с 1921 г. в Берлине, председатель берлинского Дома искусств (1922–1923), с февраля 1923 г. председатель Профессионального союза переводчиков в Германии, с 1927 г. в Париже, затем сотрудник советского полпредства в Лондоне.
[Закрыть]и 3. Венгерова [245]245
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) – литературный критик, переводчица с английского. Освещала современную западную литературу в журналах «Северный вестник», «Вестник Европы», «Русская мысль» и др. и русскую литературу в иностранных журналах. С 1922 г. в Берлине, работает в «Накануне» вместе с Минским, с которым она знакома 40 лет, и выходит за него замуж, затем с ним в Лондоне. Умерла в Нью-Йорке.
[Закрыть], и другие. А. С. Ященко [246]246
Ященко Александр Семенович (1877–1934) – юрист, журналист, друг Толстого в 1910-х гг. Весной 1919 г. едет в Берлин экспертом по международному праву в составе первой советской делегации, но становится невозвращенцем. В Берлине – участник группы «Мир и труд» и журнала «Жизнь» В. Станкевича и газеты «Голос России». В 1921 г. издает литературно-библиографический журнал «Русская книга» (с 1922 г. «Новая русская книга»), объединяющий информацию о писателях России и зарубежья. С осени 1924 г. переехал в Каунас, где заведовал университетской кафедрой международного права.
[Закрыть]в 1922 году печатал в газете полемические материалы, а в 1923 году стал редактором «Иностранного приложения». В газете печатались И. Соколов-Микитов [247]247
Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) – писатель, печатался с 1918 г. Служил в торговом флоте, в 1920 г. списан на берег в Гулле, с 1921 г. в Берлине, в 1922 г. вернулся в Россию. Участвовал в арктических экспедициях О. Ю. Шмидта, в спасении ледокола «Малыгин». Постоянно жил в деревне, путешествовал по России. Написал воспоминания «Давние встречи» с очерками о писателях и ученых.
[Закрыть], А. Дроздов [248]248
Дроздов Александр Михайлович (1896–1963) – прозаик, офицер Добровольческой армии, эмигрировал, с 1921 г. в Берлине. Издавал журнал «Сполохи» (1922–1923). В конце 1922 г. перешел на сменовеховские позиции, вернулся в Россию в 1923 г., работал в издательствах.
[Закрыть], Г. Алексеев [249]249
Алексеев Глеб Васильевич (настоящая фамилия Чарноцкий, 1892–1938; не отсюда ли булгаковский Чарнота из «Бега»?) – прозаик, журналист. Служил в авиации, затем участник Белого движения; эмигрировал, с января 1922 г. в Берлине, возглавил литературно-художественное объединение «Веретено», затем сблизился со сменовеховцами и в 1923 г. вернулся в Москву, в 1938 г. арестован и расстрелян.
[Закрыть], советские писатели. После отъезда Толстого «Литературное приложение» редактировал Роман Гуль [250]250
Гуль Роман Борисович (1896–1986) – писатель, с 1919 г. в эмиграции в Германии, в Берлине с 1922 г. секретарь редакции «Новой русской книги», в 1924 г. – редактор «Литературного приложения» к «Накануне», с 1933 г. во Франции, с 1950 г. в США, секретарь (с 1952 г.), затем редактор (с 1959 г.) «Нового журнала».
[Закрыть].
Однако ничего не было ясно, будущие враждебные лагеря только начинали консолидироваться, когда в ноябре 1921 года Толстой из эмигрантского Парижа переезжает в Берлин. Зима 1921/22 годов была занята устройством на новом месте и попытками ориентации в новой реальности.
18 ноября в Берлине оказался, после долгих передряг, и Андрей Белый; он описал их в очерке «Одна из обителей царства теней» (Белый 1924). В начале декабря Белый и Толстой участвуют в организации берлинского Дома искусств (в кафе «Леон» и «Ландграф). Белый также организовал здесь отделение Вольной философской Ассоциации (Белоус-2: 233–349), действительным членом которой 5 декабря 1921 года был избран и Алексей Толстой (Белоус-2: 258).
В Берлине Белый возглавляет основанный в конце 1921 года журнал «Эпопея» [251]251
«Эпопея» – литературный ежемесячник под редакцией Андрея Белого. 1922: № 1 – апрель, № 2 – сентябрь, № 3 – декабрь. Москва; Берлин: Геликон. 1923: № 4 – июнь. Берлин: Геликон. Большую часть журнала занимали «Воспоминания о Блоке». Название «Эпопея» нацелено было на новый героизм, идущий на смену декадентскому распаду: «…под дребезгами косноязычно приподнимается грядущее целое начала культуры и искусств XXI века огромными, несуразными эпопейными формами», – писал он в предисловии к первому номеру журнала. Белый провидел восстание сверх-Я, Индивидуума (противопоставленного Я, личности – если личность противостояла коллективу, то Индивидуум венчал и завершал коллективный этап). В качестве редакционной статьи в № 1 помещена статья Белого «Максим Горький. По поводу 30-летнего юбилея». В журнале опубликована хроника «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова», повести В. Лидина, Б. Пильняка, Алексея Толстого, рассказ П. Муратова, стихи Ю. Балтрушайтиса, А. Белого, Г. Иванова, В. Казина, С. Клычкова, Н. Крандиевской, А. Кусикова, Б. Лившица, Г. Петникова, В. Познера, И. Одоевцевой, Н. Оцупа, А. Ремизова, М. Цветаевой, В. Ходасевича и др., литературная критика Цветаевой (ее очерк о поэзии Пастернака «Световой ливень»), Ходасевича (статья об И. Анненском) и важная теоретическая статья В. Шкловского «О теории комического».
[Закрыть], публикует в нем «Записки чудака», роман «Котик Летаев» и «Воспоминания о Блоке» [252]252
Воспоминания о Блоке // Эпопея. Литературный ежемесячник под редакцией Андрея Белого. № 1 – апрель, № 2 – сентябрь, № 3 – декабрь. № 4. 1923 – июнь. Берлин: Геликон. Еще в Берлине из «Воспоминаний о Блоке» вырастет первая его трехтомная мемуарная книга «Начало века» (берлинский вариант), в 1930–1932 гг. радикально им переработанная.
[Закрыть], издает, часто при этом перерабатывая, уже написанные ранее произведения.
В это время его книги издаются в Петрограде и Москве, в издательствах кооперативных, государственных и частных: в марте – «Возвращение на родину. (Отрывки из повести)» (Книгоиздательство писателей в Москве); в апреле – «Звезда. Новые стихи» (Пб.: Государственное изд-во); в июне – «Котик Летаев» (Пб.: Эпоха).
Итак, Белый, как и многие другие, пытается стать «над схваткой»: присутствует и в эмигрантской культуре, и в культуре метрополии. Статус его амбивалентный: он не эмигрант, но, рассердившись на советское полпредство, якобы потерявшее переданную им корзину с книгами и рукописями, угрожает эмигрировать; рукописи тут же нашлись (Белый – Разумник 1998: 234). Вначале он сотрудничает с широким кругом издательств, политически самых разнообразных: памфлет «Сирин ученого варварства», выросший из спора начала 1918 года – из своих тогдашних возражений на антискифские нападки Вяч. Иванова – и реально явившийся откликом на «Переписку из двух углов» Иванова и Гершензона (1922), он печатает в «Скифах» у левых эсеров: И. Штейнберга, А. Шрейдера, Е. Лундберга [253]253
Ицхок-Нахман (Исаак Захарович) Штейнберг (1888–1957) – доктор права, левый эсер, был арестован, сослан. Депутат Учредительного собрания, затем член ВЦИК. В декабре 1917 г. – марте 1918 г. нарком юстиции. Эмигрировал, издал книгу о большевистском терроре. Жил в Берлине (где участвовал в издательстве «Скифы»), Лондоне, Австралии, Нью-Йорке. Стал одной из главных фигур в еврейской культуре; Шрейдер Александр Абрамович (1894–1930) – левый эсер, философ, в 1917 г. работал в петроградском «Знамени труда», в 1921 г. с Е. Г. Лундбергом основал (на деньги партии) издательство «Скифы» в Берлине и журнал «Вестник всех искусств» (см.: Белый – Разумник 1998: 236); Лундберг Евгений Германович (1887–1965) – литератор, философ, с 1917 г. принадлежал к ведущему ядру группы «Скифы» в Петрограде, летом 1920 г. эмигрировал в Берлин, основал издательство «Скифы», позднее возглавил первое советское издательство в Берлине «Бюро иностранной науки и техники», сотрудник газеты «Накануне», во второй половине 1920-х гг. вернулся в Россию.
[Закрыть], но вскоре охладевает к этой группе. Поэма «Первое свидание» выходит у кадета И. В. Гессена [254]254
Гессен Иосиф Владимирович (ранее Савельевич (Саулович), 1865–1943) – адвокат, публицист, издатель, историк, видный кадетский деятель, член II Госдумы. В 1906 г. с П. Н. Милюковым основал либеральную газету «Речь». В 1917 г. возглавляет Союз редакторов ежедневных газет, член Предпарламента; с января 1919 г. эмигрирует в Финляндию, с 1920 г. в Берлине, в 1920–1931 гг. соредактор кадетской газеты «Руль», непримиримо настроенной к любым формам возвращенчества и сотрудничества с советской властью. Он также возглавляет издательство «Слово», издает «Архив русской революции», председательствует в берлинском Союзе русских писателей и журналистов. С 1935 г. Гессен жил в Париже, с 1941 г. в США.
У Гессена в начале 1922 г. еще встречались писатели, которые впоследствии разойдутся по враждующим лагерям. В феврале он устроил вечер советского писателя Пильняка и эмигранта Толстого, на котором присутствовали и сменовеховцы, и праволиберальные литераторы, и даже советское официальное лицо – Л. Красин.
Белый по приезде в Берлин попал в пансион, где жил Гессен; ср.: «Присутствие редактора „Руля“ обнаружилось на следующий же день – за табль д’отом; и некто с знакомым вели разговор о Советской России с ним; и все трое отстаивали свои точки зрения в пределах корректности <…>» (Белый 1924–1925: 28). В «Одной из обителей царства теней» сказано, что «Руль» скоро начал выпады против Вольно-философской ассоциации, которую подозревал в большевизме.
Газета «Руль» позднее перепечатывала произведения лучших советских писателей, в том числе и уже вернувшегося Алексея Толстого – в 1924 г. из номера в номер републиковала «Аэлиту».
[Закрыть]в «Слове»; свою «Эпопею», всячески подчеркивая ее внепартийность, он издает в эстетском, однако достаточно лояльном к Советской России «Геликоне» у эсера А. Г. Вишняка, а книги свои – по большей части в издательстве «Эпоха» у С. Г. Каплуна-Сумского, бывшего меньшевика, тяготеющего к Горькому.
В «русском Берлине» Андрей Белый ожидал воссоединения с женой, Анной (Асей) Тургеневой [255]255
Тургенева Анна Алексеевна (1890–1966) – художница, антропософка, автор мемуаров.
[Закрыть], надеясь, что сложности в их отношениях, обозначившиеся еще в 1913–1915 годах, будут забыты. Встретившись наконец с ней в декабре, он испытал двойной удар: за эти годы Ася, остававшаяся в Дорнахе, давно предпочла ему их общего духовного руководителя, главу антропософского движения доктора Р. Штейнера, и теперь не собиралась вернуться. Штейнер же, приехав в Берлин, не проявил ожидаемого интереса к возобновлению антропософского сотрудничества с Белым.
В марте – апреле 1922 года между бывшими супругами происходит окончательный разрыв на фоне другого ее увлечения, для Белого оскорбительного, – поэтом-имажинистом А. Б. Кусиковым [256]256
Кусиков (Кусикян Александр Борисович, 1896–1977) – московский поэт-имажинист, в 1922 г. вместе с Пильняком выехал в командировку в Берлин, где остался, работал в «Накануне». С 1926 г. в Париже (Спивак: 251–255).
[Закрыть]. Белый впадает в отчаяние, ср. письмо от 15 января 1922 года: «От боли стискиваю зубы; и – пью…» (Белый – Разумник 1998: 234); в пивных он сближается с немецкими интеллигентами, превратившимися в люмпенов, просиживает там подолгу (Белый 1924–1925: 36). Но уже в марте он пишет: «Берлин решил, что Белый “спился” (и – неправда)» (Белый – Разумник 1998: 239).
Тщательно соблюдаемая аполитичность Белого почти сразу начинает подвергаться серьезным испытаниям. В конце 1921 года разворачивается скандал с Евгением Лундбергом, редактором издательства «Скифы», который сжег тираж только что опубликованной его издательством антибольшевистской брошюры Л. Шестова, своего учителя и духовного отца, – по всей видимости, ввиду начавшегося своего движения в сторону сменовеховства, под воздействием советских представителей в Берлине. Лундберг был одним из активистов Дома искусств, входил (как и Шестов) в созданный Белым в Берлине филиал Вольной философской ассоциации. По следам этого аутодафе, возмутившего общественное мнение, в марте 1922 года «Руль» обвинил Лундберга в том, что он якобы призван осуществлять наблюдение за русскими писателями в Берлине. Лундберг опроверг это сообщение в советском официозе «Новый мир» в конце марта, и одновременно А. С. Ященко поместил его опровержение в редактируемом им журнале «Новая русская книга» в № 3. По просьбе Лундберга Ященко помогал ему в организации третейского суда между ним и Гессеном, взяв на себя необходимые контакты (Белоус-2: 278–299; Флейшман и др. 2003: 29–31).
За историей с Лундбергом последовал грандиозный скандал с «Накануне». Газета начинает выходить с конца марта, и сразу же сменовеховцев начинают изгонять из эмигрантского Союза писателей и журналистов.
2 апреля 1922 года, на вечере, посвященном памяти В. Д. Набокова, в берлинском Доме искусств внезапно разразился спор Толстого с Андреем Белым о сменовеховстве:
В ДОМЕ ИСКУССТВ
А. Н. Толстой с присущим ему тонким юмором рассказал о своем знакомстве с В.Д., совместной поездке в Англию в 1916 г., представлении английскому королю, посещении английских передовых позиций, подчеркивая проявлявшуюся при всех обстоятельствах гармоничность облика В.Д. «Это был ритмически сделанный человек… Лучший образец русской расы».
Конец вечера ознаменовался любопытным диспутом, не стоявшим в прямой связи со всем предыдущим.
Между А. Н. Толстым и Андреем Белым разгорелся частный спор, который так воспламенил последнего, что он вскочил с места и, обращаясь уже ко всей аудитории, быстро собрал вокруг себя «род веча»… Спор на модную тему – о «Смене вех», о «Накануне», против которых А. Белый ополчился с горячностью, не соответствующей его обычному спокойствию в частной беседе.
– Помилуйте, – говорил он, пожимая плечами и жестикулируя; – прежде они скалили на нас зубы на белых фронтах, собирались меня расстреливать, а теперь, когда в России начинают приспособляться мародеры, поют дифирамбы! Одно из двух: либо восторжествует дух, либо – материя; а здесь хотят взять три четверти материи, четверть духа, создать какого-то Гомункулуса в реторте…
– Борис Николаевич, – добродушным баском успокаивал его А. Н. Толстой, – да при чем здесь дух, когда люди с голоду дохнут. Тут вагоны с хлебом нужно слать в Самарскую губернию – а вы: «дух»!
Но Борис Николаевич не унимался, продолжая громить отсутствующих «вехистов» (А. В<етлугин>? 1922).
Эта заметка по хлесткости могла принадлежать А. Ветлугину. Любопытно, что Толстой здесь как бы ориентировался на общее понятие о «ценностях Белого» в своей характеристике Набокова – «ритмически сделанный человек».
Белый пытается и сохранять аполитичность, и публично осуждать сменовеховство; ему приходится осуждать его по моральным соображениям или шифровать подлинную позицию; так, его высказывание о гомункулусе в реторте проецируется на декабрьскую лекцию «Культура в современной России», где говорилось о двух типах деморализации, в революционном хаосе: одни «эмигрируют в страну воспоминаний» или отвлеченных принципов, покидая живую реальность, а другие возвышаются над этой реальностью в утопическое строительство, «мечтая о гомункуле» (Белоус 2005-1: 264). Смысл слов о гомункуле, в духе лекции Белого, таков: «Нам не дают самим творить духовные ценности снизу и спонтанно, а навязывают сверху неестественные комбинации, искусственные рамки, в которых творить невозможно». В более поздних статьях Белый, отвечая на нападки «Накануне», уже открыто противопоставлял «культуру новорожденного Духа» в «третьей России» «мертвым» национал-большевизму и советской великодержавности (Там же: 332).
На вечере памяти Набокова Белый, обращаясь к Толстому, еще говорит о сменовеховцах «они», не включая Толстого в их число. У него, очевидно, есть иллюзии по поводу степени свободы Толстого. По всей вероятности, эти иллюзии пока есть и у самого Толстого. В его глазах и он сам, и Белый находятся, по выражению тех дней, «над схваткой»: так ему было обещано, на этих условиях он согласился на участие в сменовеховском проекте. Похоже, Толстой не ожидал, что попадет в настолько дурную компанию. И уж наверное и ни он сам, и никто другой не ждал такого взрыва ненависти по отношению к нему. Должно быть, конфликт с присоединением Толстого к сменовеховству так неожиданно и непропорционально разросся потому, что в обострении, поляризации, политизации его нашлись заинтересованные.
Так и здесь – добродушно замять спор ему не удается. Слова Белого «они… на белых фронтах… собирались меня расстреливать» явно имели в виду Ключникова, министра иностранных дел у Колчака, и Кирдецова, издававшего газету у Юденича. Кирдецов был на вечере и принял вызов:
Однако за них семеновеховцев. – Е.Т.> вступился сидевший неподалеку от А. Белого один из редакторов «Накануне» Г. Л. Кирдецов.
– Мы никому не пели дифирамбов, – сказал он; – и говорить об этом может лишь тот, кто не читал нашей газеты. Но мы хотим помочь русскому эмигранту разобраться в значении октябрьской революции. Что бы не произошло в Москве, хотя бы чудо свержения советской власти вооруженной рукой, – ростовщические требования, предъявленные к нищей России, не изменятся <…>
Такая постановка вопроса несколько смутила А. Белого. Он стал отговариваться незнанием политики, ссылаясь на примеры из Нового Завета.
Эти аргументы, не убедив аудитории, привели ее, однако, в веселое настроение, а Г. Л. К-у пришлось выслушать ряд сочувственных обращений.
Очевидно, вехи меняются сами собой (А. В<етлугин>? 1922).
Насмешливый тон этого отчета, появившегося в контролируемой самим Кирдецовым газете, по определению исключал для Белого всякую возможность сотрудничества с ней.
Следует исключение «накануневцев» из эмигрантского Союза журналистов, и в ответ Толстой печатно оповещает о своем разрыве с эмиграцией: это происходит 14 апреля, с подключением символики Пасхи, то есть смерти и воскресения. Его «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», председателю Союза, производит оглушительный эффект.
На этом фоне внезапного вторжения политических дрязг в литературную жизнь, размежевания и осознания недопустимости пересечения невидимых границ Белый написал Толстому 20 апреля 1922 года. Он только что согласился на сотрудничество «в журнале» Толстого. Как пишет Белый, это согласие было дано во время его встречи с Толстым на улице Тауэнцин. Tauenzinstrasse – улица в центральном районе Берлина – Шарлоттенбурге, районе кафе и кабаре, расположенном рядом с центральной артерией Курфюрстендамм. Возможно, Белый дал согласие под влиянием совместного неумеренного потребления алкоголя в одном из злачных мест, которыми славилась Тауэнцинштрассе.
В очерке «Одна из обителей царства теней» Белый писал об этой берлинской улице и районе и о завсегдатаях расположенных здесь кафе и кабаре:
«Некто» попал с вокзала в ту часть Берлина, которая русскими называется «Петербургом», а немцами «Шарлоттенградом»; <…> тут начинается шарлоттенградский Кузнецкий мост – виноват: Тауэнцинштрассе – центр русских парти-де-плезир по Берлину, – та Тауэнцинштрассе, о которой поют куплетисты во всех кабаре Шарлоттенграда и летних приморских курортов:
Nacht! Tauenzin! Kokain!
Das ist Berlin!
И буржуазная публика ржет: всему миру известно про «Nacht», «Kokain», «Tauenzin». Кого здесь вы не встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего «селянского» министра В. М. Чернова; недавно еще здесь расхаживал скорбно согнувшийся Мартов; здесь, по меткому выражению Виктора Шкловского, днем бродят – по-двое непременно – с унылейшим и рассеянным видом седобородые профессора, заложив руки за-спину: и те, что приехали на побывку в Берлин из alma mater ученых слоев эмиграции – Праги: все, все здесь встречаются! А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами; сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда уйти европейцами или чтоб с иголочки одетыми завернуть в кафе Тауэнцин на пятичасовой чай с танцами <…>
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..
И – изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в «нашем» городе? (Белый 1924–1925: 28–30).
Опрометчивое согласие о сотрудничестве с литературным приложением к «Накануне» было Белым сразу же взято обратно. Он поспешно пишет Толстому второе письмо, на этот раз с отказом:
Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Николаевич,
Вчера на Tauenzinstr
… обещал Вам статью о Мережковском [257]257
Белый познакомился с Д. С. Мережковским в конце 1901 г. у М.С. и О. С. Соловьевых и подпал под его влияние, отраженное во Второй (драматической) симфонии (1901) в фигуре религиозного философа Дрожжиковского (с его иронически охарактеризованным двойником Мережковичем). В 1903 г. отрывок из письма Белого Мережковскому под заглавием «По поводу книги Д. С. Мережковского „Л. Толстой и Достоевский“» помещен в 1-м номере журнала Мережковских «Новый путь». В 1905 г. Белый сближается с Мережковскими на волне общих революционных и религиозных устремлений и участвует в их тайной религиозной общине. Этот период нашел отражение в пьесе Мережковских и Д. В. Философова «Маков цвет» (1906). В конце 1906 г., потерпев крах в своих отношениях с Блоками (причем Мережковские и, особенно, сестры Гиппиус поддержали его против Блока), больной Белый приезжает в Париж и живет у Мережковских. В 1906–1908 гг. он публикует цикл из четырех критических очерков о Мережковском «Силуэт», «Трилогия», «Гоголь и чорт» и «Не мир, но меч», объединенный в одну статью в книге «Луг зеленый. Книга статей» (М., 1910) и перепечатанный в первоначальном виде в «Арабесках» в 1911 г. Позднее – после возвращения Мережковских из Парижа осенью 1908 г. – отношения охлаждаются. Летом 1921 г. Белый вспоминает о событиях начала века в поэме «Первое свидание», вскоре смерть Блока толкает его к написанию воспоминаний, в которых должно затрагиваться и идейное становление младосимволистов. Параллельно в 1920–1921 гг. идет его работа в Вольной философской ассоциации, где он обращается к осмыслению религии и творчества Достоевского и Толстого – несомненно, отталкиваясь от классического трактата Мережковского. В Берлине Белый печатает в «Эпопее» «Воспоминания о Блоке» и сразу же принимается за переделку их в книгу «Начало века», три тома которой пишет в течение 1923 г. и намеревается издать (в четырех томах) в издательстве «Эпоха». Однако это не удается, и «берлинская редакция» «Начала века» остается неопубликованной. При переделке ее в 1930–1932 гг. многие характеристики изменились: фигура Мережковского теперь еще более шаржируется, значение его принижается.
[Закрыть], полагая, что Вы редактор какого-то журнала, ну, как я – редактор «Эпопеи». Ровно через десять минут после того происходит разговор. Меня спрашивают: «Вы сотрудничаете в [«]Накануне[»]?» Я: «Нет!» – А накануневцы рассказывают по всему Берлину об этом… Я: «Меня это возмущает, но я не писал и не буду писать в [“]Накануне[“]…«Из дальнейшего разговора выяснилось, что дело идет о Литературном приложении к [«]Накануне[»], т. е. именно о журнале (двухнедельном с иллюстрациями). Узнавши об этом[,] я с величайшим прискорбием Вас уведомляю, что не буду сотрудничать в этом журнале. Я Вас уважаю глубоко, как человека, Ваше редактирование для меня много значит, но – хотя бы вследствие обмена слов с Кирдецовым, хотя бы уже то, что я не пошел на приглашение Ключникова, не пошел на Ваше первое приглашение. Одно последовательное (хорошо ли, дурно ли принятой позиции) (так! – Е.Т.) отрезывает меня от всех литер<атурных> предприятий, связанных с «Накануне», хотя бы косвенно. Милый Алексей Николаевич, не считайте это <переправлено на «этот» и вставлено «отказ»> критикой «Накануне». Ведь я же бываю у Гессена, общаюсь с ним, но он ни разу не предложил мне сотрудничество в [«]Руле[»], ибо он знает, что я откажусь. Может быть, мне для последовательности не следовало бы писать и в «Голосе» [258]258
«Голос» – «Голос России» (1919–1922) – берлинская русская газета, с февраля 1922 г. принадлежала группе правых эсеров, ранее издававших в «Праге» газету «Воля России» (в 1922–1932 гг. там же издавался одноименный толстый журнал): В. Зензинов, С. Постников, М. Слоним и др. В газете сотрудничали Ремизов, Белый, Цветаева и др.
[Закрыть]. Ну, да я несу эту свою, может быть, ошибку.Простите, Алексей Николаевич, и не сердитесь на этот мой все таки решительный отказ
Остаюсь искренне уважающий и преданный
Борис Бугаев
Passauerstr. 3. bei d'Albert [259]259
Passauerstrasse 3 – первый адрес Белого в Берлине. Отсюда он в мае уедет в Цоссен, а вернется уже в пансион Крампе на Викториа-Луизенплац 9, где проведет год и откуда уедет в Россию. Bei d’Albert – Белый жил в квартире бывшей жены пианиста Эугена д’Альбера (1864–1932), ср. в его письме матери от 6 марта 1922 г.: «Внешне я очень хорошо устроился; хозяйка, очень культурная дама, профессор пения, M-me d’Albert, жена (вторая и бывшая) известного пьяниста д’Альбер, за мной хорошо ухаживает» (Белый – Разумник: 237).
[Закрыть]Берлин 20 апреля (Белый 1922).
Письмо, упоминающее «обмен мнениями с Кирдецовым», прямо соотнесено с инцидентом на вечере В. Д. Набокова.
Очевидно, в письме Толстому речь шла о мемуарном отрывке, который потом войдет в главы IV–V «Воспоминаний о Блоке» («Эпопея» № 2, сентябрь 1922 года). Для Толстого Мережковский на тот момент олицетворял непримиримую эмиграцию, не простившую ему отступничества. Ему, должно быть, очень хотелось опубликовать его иронический портрет, написанный Белым.