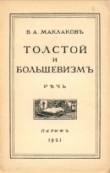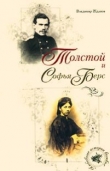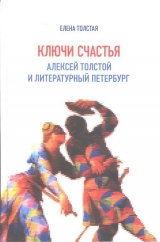
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 43 страниц)
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Толстой в разговорах 60-х. – Вечный сменовеховец. – Запаздывание как преимущество.
Толстой в разговорах 60-х
Отталкивающий имидж Толстого, который запечатлелся в сознании нашего поколения, во многом создавался в разговорах Ахматовой шестидесятых годов. М. И. Будыко суммировал свои разговоры 1960-х с Ахматовой о Толстом следующим образом:
А. Н. Толстой. Желтая (бульварная) литература. Книгу «Хождение по мукам» А.А. отрицала, не читая. Однажды она собралась с силами и прочла часть, и теперь у нее есть доказательства ничтожества этой книги. Образ Бессонова – недопустимое оскорбление Блока. Отрицание этого Эренбургом – неправда. (А.А. при этом назвала его «круглогодичный лжесвидетель», добавив, однако, что не относится плохо к Илье Григорьевичу). Роман сильно изменился после первого парижского издания. Там эмигрант Толстой порицал «Двенадцать» Блока [353]353
В первой версии Толстой не порицал «Двенадцать», а изображал блокоподобного персонажа и его упоение гибелью – но глава 7-я, где сосредоточена эта тематика, была им впоследствии снята. В первой версии изображались двенадцать заседающих комиссаров, возглавляемых отвратительным мертвяком – чахоточным и злобным товарищем Кузьмой. В позднейших версиях Толстой снял числовую аллюзию. Нет уверенности, что Ахматова читала берлинскую (первую книжную) версию сама (о парижской, т. е. журнальной, нечего и говорить). Похоже, что она говорила с чужих слов.
[Закрыть]. Потом все изменилось.Толстой вырос на Волге и в Петербурге был чужой. Он не был похож на человека из общества. Сначала он учился в Технологическом институте, но из-за революции 1905 года учеба оборвалась, и он уехал в Париж [354]354
После закрытия Технологического института в 1906 г. Толстой доучивался в Дрездене. В Париж он попал только два года спустя – прожил с января по ноябрь 1908 г.; Бакст послал туда учиться Софью (гл. 1).
[Закрыть]. Потом провел несколько зим в Петербурге, пытаясь заниматься литературой, но с полууспехом. В. Иванову и другим знатокам он не нравился. Затем он переехал в Москву, где прославился и у него появились большие деньги. Тогда он развелся со своей женой С. И. Дымшиц и женился на художнице Крандиевской, добившись ее развода [355]355
С Дымшиц развода не было, потому что не было формального брака. У Крандиевской развод с первым мужем тянулся долго, пока весной 1917 г. церковь не отделилась от государства и Толстой наконец смог обвенчаться с Наталией Васильевной.
[Закрыть](бывшего мужа Крандиевской он очень боялся [356]356
Мужа Крандиевской адвоката Ф. А. Волькенштейна Толстой вряд ли боялся – Ахматова путает его с персонажем рассказа Толстого «Искры» (1915), отразившего какие-то подробности романа с Крандиевской. В рассказе покинутый муж-ревнивец убивает обоих любовников на перроне у отходящего поезда, на котором они должны уехать. Эта коллизия взята из истории бурного развода матери Толстого с его отцом, который стрелял на вокзале в своего соперника.
[Закрыть]). В «Хождении по мукам» клеветнический образ Елизаветы Киевны это Елизавета Кузьмина-Караваева, человек необычайных душевных достоинств («католическая святая»). О Бессонове лучше не говорить, его приключения на островах – это, может быть, приключения Толстого, но не Блока [357]357
О любовных приключениях Блока существует мемуарная литература. Толстой был женат четыре раза, но в браке был более или менее моногамен. О его приключениях подобного рода ничего не известно.
[Закрыть]. Блок не любил Толстого, о котором имеется очень грубая запись в дневнике Блока [358]358
См. примечание 71.
[Закрыть]. Блок был вообще груб. Он, вероятно, сказал это Толстому. <…> Показав мне книгу Толстого с записью для А.А. – очень сдержанной, заявила: «Толстой меня обожал». Когда А.А. отказалась от его помощи при получении квартиры, Толстой назвал ее «негативисткой». А.А. считает, что такое ее качество относится только к Толстому. (Примечание. В «Хождении по мукам» есть оскорбительные и явно несправедливые строки об Ахматовой, которая, однако, не названа там по имени [359]359
В ком из персонажей «Хождения по мукам» Ахматова могла увидеть недоброе изображение себя? Кандидатом может быть некая дама, присутствующая в 1916 г. в петербургском кабачке «Красные бубенцы», куда героя приводят, чтобы показать ему «разложение» (см. гл. 4); о ней говорят: «Посмотри – вон в углу сидит одна – худа, страшна, шевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, – пользуется необыкновенным успехом» (ПСС-7: 227).
[Закрыть].) (Будыко 1991: 483–484)
Рассказ Ахматовой, законспектированный Будыко, свидетельствует о том, что на тот момент, к середине 60-х, ее отношение к Толстому представляло собой вполне обдуманную конструкцию. Ахматова, опираясь на недостаточно верные факты, отказывала Толстому в принадлежности к «культуре Серебряного века», «петербургскому периоду». (Подобным же образом она, как показал О. Лекманов, изымала из истории акмеизма Сергея Городецкого, одного из двух главных его вдохновителей и идеологов – Лекманов 2000: 11.)
Первый и главный довод был тот, что Толстой был «желтым», бульварным писателем. Эволюция Толстого от семейно-психологического романа нравов с авантюрными фрагментами (первая часть «Хождения по мукам») к массовым, неканоническим жанрам: научной фантастике и авантюрному роману упреждала серапионовскую и формалистическую пропаганду остросюжетности в противовес психологизму и быту. Та же установка на остросюжетность во второй половине 20-х («Гиперболоид инженера Гарина», «Восемнадцатый год», «Черное золото») формалистам разонравилась: теперь она называлась «бульварностью».
Вряд ли справедливо распространять это определение на все творчество Толстого, как делает Ахматова. Однако можно уточнить, откуда она взяла это обобщение. Последовательным отрицателем всего, что делал Толстой, был Юрий Тынянов. Он неприязненно отнесся к толстовскому историческому роману «Петр Первый» (1930). Чуковский записал в Дневнике в 1932 году слова Тынянова: «Заметили ли вы, напр., как Ал. Толстой похож на Кукольника? И карьера в сущности та же. И даже таланты схожи» (Чуковский 1991-2: 86). В 1936 году Чуковский писал: «Теперь Тын<янов> говорит о Толстом с ненавистью» (Там же: 130). Действительно, теперь Тынянов высказывался еще резче:
И он (Тынянов. – Е.Т.) перешел на свою любимую тему: на Алексея Толстого:
– Алексей Толстой – великий писатель. Потому что только великие писатели имеют право так плохо писать, как пишет он. Его «Петр I» – это Зотов, это Константин Маковский [360]360
Маковский Константин Егорович (1839–1915) – позднеакадемический художник, изображавший со множеством этнографических подробностей быт русских царей XVII века. Пользовался необыкновенным успехом в России и за рубежом.
[Закрыть]. Но так как у нас вообще не читают Мордовцева, Всев. Соловьева, Салиаса, вот успех Ал. Толстого. Толстой пробовал несколько жолтых жанров. Он пробовал жолтую фантастику («Гиперболоид инженера Гарина») – провалился. Он попробовал жолтый авантюрный роман («Ибикус») – провалился. Он попробовал жолтый исторический роман и тут преуспел – гений! (Там же: 134).
Если оставить совсем уж архаического Рафаила Зотова, – ни скучнейший Всеволод Соловьев, ни нестерпимо протокольный и прогрессивный Мордовцев, ни топорно-идейный граф Салиас, все трое с суконным языком – просто не имеют отношения к делу. Равно несправедлива характеристика иронической и пародийной повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» как желтой и бульварной. Утверждения о «провале» «Ибикуса» и «Гиперболоида инженера Гарина» по контрасту с «Петром Первым» обозначают провал у тогдашней критики, что было делом нехитрым: сам Тынянов и «Аэлиту» счел провалом.
Несомненно, Ахматова, в середине 30-х и сама возмущавшаяся Толстым, знала о тогдашнем мнении Тынянова. Мы видим, что постфактум и ее собственное отношение к Толстому свелось к тезисам главного толстовского ненавистника, высказанным тогда, когда интеллигентское неодобрение Толстого было на максимуме.
Мы не будем здесь касаться причин тыняновского отношения. Но причиной нового ахматовского раздражения Толстым мог стать, во-первых, посмертный выход его далеко не полного Полного собрания сочинений (1947–1953), в 1-м и 15-м томах которого, вышедших в 1951 и 1953 годах, были представлены произведения 1910-х годов. На фоне почти тотального запрета на Серебряный век эти тома были с интересом восприняты читателем, искавшим и находившим в них портрет давно ушедшей эпохи. Так что Ахматовой могло показаться: посмертно Толстой несправедливо подменил собою всех своих забытых, запрещенных и замалчиваемых современников. Во-вторых, раздражать могло и то, что робкая «легальная» ностальгия по Серебряному веку, возникшая на волне оттепельных настроений, тоже начиналась с переиздания Толстого (алпатовский десятитомник 1958 года) и экранизации «Хождения по мукам». Именно тогда, в конце 1950-х, происходит толстовский «бум». Толстого стало «слишком много», и с этим надо было бороться.
О доводе Ахматовой, что он «недопустимо» изобразил Блока и Кузьмину-Караваеву. Толстой писал свой роман с охранительных позиций, как изгнанник из революционной России; соответствующие персонажи, Бессонов и Расторгуева, представлены в первой версии как проводники разрушения и гибели России. Бессонов, сдавшийся «темным силам», вампирически оживающий лишь во время новых любовных связей, торопит гибель России и воспевает ее в стихах. Расторгуева, не нашедшая личного счастья и ни к чему не годная, мстит за это миру, становясь «химерой революции». В романе Толстого отразилась историческая данность 1918 года: революционный энтузиазм Блока, вскоре, правда, сменившийся жестоким разочарованием, о котором Толстой никак не мог знать – в романе он спорил с Блоком 1918 года. В 1921 году, после смерти Блока, он написал о нем замечательную статью «Падший ангел» (Толстой 1922а).
Поводом для изображения Кузьминой-Караваевой в качестве разрушительной силы была ее революционная активность, за которую осенью 1918 года она чуть не поплатилась головой. Толстой знал вначале петербургскую юную поэтессу, позднее – революционерку-максималистку Лизу, с безумной и нелепой личной жизнью (см.: Толстая 2006 гл. 7). Никто не мог предугадать в 1919 году, что жизненный путь Кузьминой-Караваевой приведет ее к мученическому венцу и канонизации. Как мы знаем, роман был автором переделан, первоначальные вполне внятные идейные структуры упрощены и опошлены в позднейших версиях, персонажи из мифологически значимых и зловещих стали смешными и бытовыми. Так возникло снижающее впечатление, которое зафиксировала Ахматова.
Ахматова последовательно отлучала Толстого от его петербургской литературной и театральной юности, связанной с «Аполлоном» первых лет, Мейерхольдом и «Бродячей собакой». В ход шли любые доводы. Во-первых, он был социально не вполне приемлем: приехал с Волги, «в столице был чужой», «был непохож на человека из общества» – очевидно, предполагалось, что успех в литературе обеспечивается светскими качествами. Во-вторых, перед нами не только провинциал, но еще и технарь по образованию, то есть вдвойне чужой: учился в реальном училище и в Технологическом, а не в гимназии и университете. В-третьих, он не успел толком освоиться в Петербурге: провел там лишь «несколько зим», даже не лет. (Во фразе есть призвук цитаты – может быть, Ахматова намекала на «Петербургские зимы» Георгия Иванова, по ее приговору тоже «бульварные»?) И, как результат, столицы он не знал (и Ахматова умела с текстом романа в руках показать, как именно не знал), но при этом претендовал на показ Петербурга 1913 года.
В-четвертых, Толстой «пытался заниматься литературой, но с полууспехом». Видно, все же был довольно успешен, раз необходимо было отметить, что настоящим знатокам – то есть Вячеславу Иванову – он не нравился. Вспомним, однако, что в 1920-х сама Ахматова не соглашалась с ивановской низкой оценкой Толстого, положительно относясь к его ранним стихам.
Ахматова особенно грешит против истины, когда касается биографии Толстого: она устанавливает связь между последующим успехом Толстого в Москве и его большими заработками – и расставанием с Дымшиц и женитьбой на Крандиевской. Связь эта в реальной биографии Толстого никак не прослеживается. В версии Ахматовой успех Толстого в Москве только подтверждает его неполноценность. Единственный подлинный очаг культуры, Петербург, противопоставлен тут второсортной Москве, очевидно, городу непритязательных богачей и выскочек (о «Весах», «Скорпионе», «Золотом руне», «Мусагете» ни слова): в этой Москве Толстой с легкостью прославился, настоящие ценители уже не могли этого предотвратить (хотя и сам Вячеслав Иванов с 1912 года тоже жил в Москве и Толстого даже цитировал и ставил в эпиграф).
У Ахматовой получается, что, прославившись и разбогатев, Толстой тут же решил избавиться от скромной подруги юности и женился на Крандиевской, которая начинает здесь символизировать буржуазность [361]361
Недружелюбность к Крандиевской просквозила в ахматовском отзыве о ее мемуарах, вышедших в 1959 г. в альманахе «Прибой» и продолжающих «реанимацию» Толстого; тогда Крандиевскую подвергли разносу в ленинградской печати за интимность тона и отсутствие глубоких социальных обобщений. Ахматова в том же примерно духе называла ее избалованной барынькой. Крандиевская на протяжении двадцати лет везла на себе четверых детей, секретарство у Толстого и бытовую жизнь семьи из девяти человек. Полагаю, ей было не до баловства.
[Закрыть]. В записях Будыко Ахматова называет Крандиевскую «художницей» – при том что в 1913–1922 годах у той вышли три книги стихов. Далее все с точностью до наоборот: напомним, что не Толстой ушел от Дымшиц, а она сама его оставила. Крандиевская же ради него бросила своего «буржуазного» мужа.
Ахматовские посмертные коррективы к биографии Толстого задним числом удаляли его из 1908–1912 годов. Они объясняли, почему ему не было места в уже слагавшемся героическом мифе о петербургском акмеизме. Петербург 1913 года, который им описан в «Хождении по мукам», нужно было «отрицать, не читая», – возможно, потому, что эта территория переходила под ахматовский собственный контроль в «Поэме без героя».
Как явствует из вышеизложенного, суждения Ахматовой основаны на тенденциозным образом препарированных фактах. К ним нельзя относиться как к последней истине.
Попытавшись вписать Толстого «обратно» в Серебряный век, мы увидели в новом свете уже, казалось бы, исчерпывающе описанный период: в нем высветились умолчания и фальсификации. Яснее стали и бесчисленные связи, идущие от этого периода к творчеству Толстого и в эмиграции, и в метрополии: оказалось, что источники высшего художественного качества в произведениях писателя начинали бить тогда, когда он обращался к Серебряному веку и его искусству.
Вечный сменовеховец
Тем не менее мотив «неполной принадлежности», который выбирает Ахматова для своей характеристики Толстого, действительно, в нем что-то объясняет. В его биографии несколько раз повторяется ситуация неприятия или выталкивания ближайшим окружением – и ухода, бегства, разрыва.
Прототипом этой повторяющейся ситуации «неприятие-разрыв», проложившим колею для постоянной «смены вех», видимо, была остро ощущаемая непринадлежность к семье отца, то есть к привилегированному сословию, и связанные с этим многолетние обиды и унижения, пережитые Толстым в ранней юности. Эти травматические «родовые» впечатления, иронически переосмысленные, порождают первый прозаический цикл автора. Однако художественные находки рождались тогда, когда обида проходила. Настоящей его удачей стали «Сорочьи сказки».
Проникнув в петербургскую литературную элиту и сразу добившись признания, Толстой вскоре ссорится с ближним своим кругом и покидает его; литературный Петербург, для которого он теперь «ренегат», ревизует его первоначальную высокую критическую оценку: выясняется, что он так и не стал там «своим». Причины этого не являются загадкой. Толстой неосторожен и неаккуратен в отношениях с людьми. Он мало заботится о создании своего «имиджа». Такое легкомыслие дорого ему обходится. Приходится строить все заново в Москве, и он делает это, не прекращая в обиде сводить счеты с петербургской средой, которая его вытолкнула: ей посвящены пьесы, рассказы и романы нескольких последующих лет, к счастью, не публиковавшиеся. Частично этот разоблачительный тон попадает в роман о революции. Однако не в пример удачнее были его лирические и военные рассказы и комедии военного времени.
В эмиграции, сразу добившись высокого статуса, Толстой вскоре теряет его по причинам литературно-политическим и личным, во многом из-за тех же своих человеческих недостатков. Это оказывается болезненно, что видно из «Рукописи, найденной среди мусора под кроватью», но ничего из этих негативных чувств не отразил его шедевр «Детство Никиты».
Обиженный на эмиграцию, Толстой решается на переезд из Парижа в Берлин и наведение мостов с советской властью в обещанной ему независимой газете. Эта главная в его жизни «смена вех» мощно стимулирует творчество. Берлин – высшая точка его собственно литературной карьеры (он вождь литературной группы) и расцвет его дарования, обогащенного теперь «двойным» видением вещей. Но в Берлине его самого и его газету цинично используют лишь для раскола и поляризации эмиграции; он оказывается скомпрометирован и изолирован и от эмигрантов, и от «независимых»; ему остается лишь возвращение.
В Советской России Толстой сталкивается с подозрительностью властей, с одной стороны, с классовой неприязнью в критике – с другой, и с неодобрением интеллигенции – с третьей. Происходит потеря идентификации с кем бы то ни было. Он становится, в сущности, асоциален: все отмечают его «нравственную деградацию» тех лет. Он добивается некоторых успехов морально неприемлемыми методами, такими как плагиат и фальсификация, затем разоблачает (хотя иногда не в силах скрыть симпатии) и Белое движение, и эмиграцию в романах «Восемнадцатый год» и «Черное золото». Из этого, казалось бы, окончательного падения писатель тем не менее поднимается, создав как бы вовсе не связанный с этим фоном роман «Петр Первый», полюбившийся современникам.
В конце концов в середине 30-х он опять обрубает все связи с собою прежним: несчастная влюбленность служит поводом для разрыва с семьей. Эта «смена вех» имеет художественным эквивалентом «Золотой ключик». После нее писатель превращается в образцового сталинского приспособленца, идущего на все, чтобы угодить власти. Он достигает высокого официального статуса; это его нравственный надир и время глубочайшего художественного упадка. Но уже в конце 30-х, после смерти Горького, в ситуации террора, начинается его возврат к достойной социальной роли: в статьях в официальной прессе, в организационной деятельности в Союзе писателей, в попытках поддержать и защитить опальных деятелей искусства. Наибольшие возможности предоставляет ему военное время, и он использует свое положение для целого ряда инициатив, подрывающих идеологический контроль над литературой. В это время литературный дар возвращается к нему. Вся страна, как в 1914-м, читает его публицистику, по популярности сравнимую лишь со статьями Эренбурга.
Инвективы 60-х годов, к которым восходят сегодняшние стереотипы, как мы видели, закрепляют память о Толстом 30-х. Но при этом неправомерно игнорируется конец 30-х – начало 40-х, когда Толстой возвращал себе человеческое и писательское достоинство: процесс, прерванный опалой и смертью.
Запаздывание как преимущество
Юный Толстой, начавший регулярную учебу почти в 15 лет, являл картину типичного второгодника. Однако привольное и одинокое детство на хуторе дало ему богатый задел впечатлений, нетипичных для человека его поколения и круга. Оказавшись в Петербурге в 26 лет членом кружка двадцатилетних поэтов, он обратил в свою пользу знакомство с русским фольклором периферийного, евразийского толка. Выяснилось, что в социальном смысле он – почти ископаемая редкость, свидетель упадка последышей заволжского дворянства. Это специальное знание он использовал в дебютных прозаических вещах.
И все же в петербургской литературе Серебряного века Толстой был учеником и подмастерьем, и вряд ли можно говорить о нем как о генеральной фигуре этого периода. Бросив поэзию, он нашел себя в писании сложно устроенной, по видимости реалистической прозы, – но и здесь у него были учителя, которых требовалось превзойти. Уже после Петербурга, в драмах 1913–1914 годов он пытался освоить символистский метод и испытал несколько неудач. Искомая собственная поэтика очевидно должна была скрывать свое родство с символизмом, уже исчезающим тогда, когда Толстой им проникнулся: опять опоздание.
Зато после пертурбаций в русской жизни и литературе Толстой выставил свой наконец созревший художественный метод как новейшее достижение. Все следы запаздывания, любая ностальгия, малейшая стилизация были изгнаны из его стремительной, стопроцентно современной прозы – но революционный роман его оказался романом о последнем мирном годе в Петербурге, сквозь детскую повесть просвечивал Петербург, марсианский роман строился на образах Волошина и на идеях Иванова, и сама Нина Петровская наградила его венцом символиста. В романтической сказке, последней его удаче, вспыхнул в последний раз отблеск петербургского театрального рая Серебряного века.
По безответственности он сыграл то, что могло показаться неблаговидной ролью в судьбе Мандельштама, но затем положил много сил, чтоб сыграть благую роль для другого петербургского поэта – Ахматовой. И именно вопрос о его признании в качестве участника петербургской культуры стал главным в его собственной посмертной судьбе.
Иногда трудно понять, почему Толстого так разносят за сменовеховство, а сменовеховцев Ключникова или Бобрищева-Пушкина, которые это движение строили, писателя Кольцова, который придумал схему его кооптации, писателя Пильняка, который Толстого заманивал в Советскую Россию, а также писателя Соколова-Микитова, вернувшегося в Россию из Берлина до Толстого и наглухо засевшего в деревне, никто в имморализме не упрекает. Правда, почти все в этом списке были репрессированы; но и многочисленных писателей, вернувшихся из Берлина вслед за Толстым, тоже никто не упрекает, хотя они и выжили. Точно так же за приспособленчество и конъюнктурщину только ленивый не лягал Толстого, но никто не порицает за профанацию таланта, трусость и т. д. его коллег по «Цеху», начиная с Федина, который уже в 1927 году в романе «Братья» безнадежно цензуровал себя, или того же Пильняка, занявшегося самопогрызанием в 1931 году в романе «Волга впадает в Каспийское море», и кончая самим Горьким, которым оказался способным оправдать любые действия своих хозяев.
Наверное, его современники чувствовали в этом непомерном, на наш взгляд, поругании какую-то справедливость. Ближе других, я думаю, к истине подошел Федин, сказавший, что Толстой не реализовал свои задатки: «…для того, чтобы сделаться великим художником, ему недоставало нищеты. Дар его был много выше того, что было им сделано <…>. Россия пожалеет не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был занимать по природе» (Федин 1982-12: 358).
Наверное, у многих было ощущение, что Толстой-человек вредит Толстому-художнику, и это воспринималось как обида, недодача, порча. Действительно, зная нашего героя, можно с уверенностью сказать, что Толстой-художник и Толстой-человек оба, слаженно, при первом дуновении бедности взялись бы за любую халтуру. Правда, именно халтура, то, что писалось играючи, и есть лучшее в его творчестве. Как только жизнь его перестала баловать, он заболел и умер. Так и Дельвига обвиняли в лености, а выяснилось, что это была опухоль мозга.
Федин много раз подробнейше, иногда с восхищением, иногда без особой любви, но всегда с долей иронии изображал Толстого, которого он знал по Берлину 20-х, а затем по Детскому Селу, в своих романах конца 40-х годов «Необыкновенное лето» и «Первые радости». Он перенес в революционное лето 1918 года Толстого таким, каким он увидел его впервые в Берлине:
Он ходил по земле любопытным и судьей одновременно, и то становился простодушен, как зевака, то весь наливался самоуважением, точно посол не очень заметной державы. При этом ему всегда легко давалась любезность и сопутствовала природой дарованная радость бытия (Федин 1961: 138).

А. Толстой с трубкой