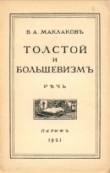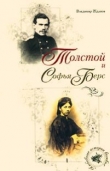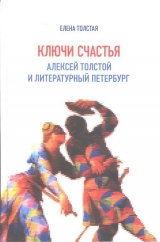
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 43 страниц)
Фиалка
Толстому не потребовалось много времени, чтобы устыдиться своего ученического (хотя и необходимого) этапа. Уже к концу того же 1907 г. автор скупил в магазинах и уничтожил остатки тиража «Лирики». Впрочем, поскольку сделал он это не сразу после выхода книги, какое-то количество экземпляров попало в библиотеки и собрания библиофилов.
В 1907 году Толстой общается со второстепенными фигурами литературного Петербурга вроде поэта А. Рославлева [22]22
Роставлев Александр Степанович (1883–1920) – плодовитый поэт, автор песни «Над полями да над чистыми». Его стихи портил избыток пафоса и отсутствие вкуса.
[Закрыть], знакомится с К. Чуковским, пытается завязать знакомство со знаменитостями среднего поколения: Л. Андреевым, А. Куприным, В. Вересаевым, М. Арцыбашевым. Но главное то, что в это время он подпадает под сильнейшее влияние А. Ремизова – увлекается фольклорной фантастикой и беззастенчиво пишет в духе только что вышедшей «Посолони» – ср., например, стихотворение «Ховала» на ремизовские мотивы, опубликованное в конце осени 1907 года, рядом с текстами Блока и Сологуба, в престижном «еженедельнике нового типа», леволиберальном журнале «Луч» [23]23
«Луч» называл себя «еженедельником нового типа», редактором его был Сергей Гарт (Самуил Соломонович Зусман), выдвинувшийся в период революции 1905 г. В первом номере «Луча» А. Блок поместил стихотворение и рецензию на «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда в театре Комиссаржевской, Федор Сологуб – сказочку «А третий – дурак» (на наш взгляд, тон и стиль ее стал образчиком для будущих сказок Толстого), М. Кузмин – театральный обзор «Начало сезона». Толстой дал в каждый из номеров по стихотворению.
[Закрыть](вышло всего два номера). Общается он и с В. В. Розановым. Тогда же он сближается и с Осипом Дымовым (Перельманом) [24]24
Осип Дымов (Осип Исидорович Перельман, 1878–1959), немецкий еврей, натурализовавшийся в России, – русский, русско-еврейский, затем американо-еврейский писатель. Окончил Петербургский лесной институт. В 1905 г. прославился как автор юмористических рассказов, печатаясь в «Сигналах» К. Чуковского и других сатирических журналах. Тогда же издал сборник рассказов «Солнцеворот» и вскоре вошел в круг авторов символистских журналов «Весы», «Перевал», «Золотое руно». В 1907 г. дебютировал как драматург, наибольший успех принесли ему пьесы на еврейские темы, в особенности их постановки в Германии. В 1909 г. Дымов напечатал в «Аполлоне», рядом с толстовскими дебютными рассказами, повесть «Влас». Сотрудничал в «Сатириконе». В 1911 г. издал в Берлине роман о разложении петербургской культурной элиты «Бегущие креста. Великий человек» (в России он вышел через год с подзаголовком «Томление духа»), В 1913 г. Дымов уехал в США, писал все меньше по-русски, все больше на идише, сотрудничал в нью-йоркской газете «Русский голос» и еврейской прессе. В 1920-х гг. его пьесы пользовались успехом у американо-еврейского зрителя. Умер в Нью-Йорке.
[Закрыть], влияние которого (совершенно пока не изученное) ощущается не только в ранних его прозаических опытах, а даже в романе (у Дымова взята фамилия Бессонов) и рассказе середины 1920-х годов «Как ни в чем не бывало» (включение графических элементов).
Очевидно, к тому же 1907 или началу 1908 года принадлежат несколько прозаических фрагментов, оставшихся в рукописях, в одном из них появляется женский образ, навеянный Софьей. По всей вероятности, здесь отражена их первая встреча, произошедшая весною под Дрезденом; знакомит молодых людей брат героини, как и было в действительности.
НИЗКИЙ И ДЛИННЫЙ КАБАЧОК. ГЛ. 2. ОТРЫВКИ
На веранде темно, а сквозь широкие окна виден танец в освещенной люстрами паркетной зале… По крыше <веранды> и в темноте за открытой верандой стучит и плещет теплый дождь и шумят липы…
– Вы любите дождь ночью, спрашивает Рахил[ь] и <кажется> Алексей знает, что это говорят темные глаза ее… <…>
– Мне представляются маленькие духи, хлопают в ладошки, со смехом пролетают в листьях, шлепают босыми ножками по земле, а вовсе не дождь, говорит Рахиль.
Алексей искренно восхищен – конечно это очень красиво, и ему что-то вроде этого представляется…
Узкое синее платье надушено фиалками и глаза такие лиловые в темноте, а она все улыбается и слова такие непохожие и тоненькие, как ее руки.
Говорит, что кажется Алексею, вот он проснется и будет плакать…
– Мне кажется, раньше было это, [—] говорит Алексей.
– Что
– Да вот так мы сидели и шел дождь…
Рахиль улыбается…
Брат ее и Жорж сидят рядом у другого стола, курят и глядят в окошки…
– А им не кажется, [—] улыбается Рахиль. [—] Знаете[,] почему…
– Почему? <…>
Печалятся лиловые глаза. Рахиль вздыхает…
Нет, я не скажу <вам этого>…
Опять запах фиалки вдыхает Алексей. <…>
– Хорошо, если бы на земле цвели цветы, деревья, летали дневные птицы в золотых перушках… и не было бы людей совсем…
Люди злые, жестокие[,] как волки… Я бы согласился быть тогда ужом или ящерицей… И ручья я услышал сказки, птицы пели бы веселые песни, бабочки переносили аромат с цветов во все уголки земли, солнце ласкало и целовало бы мою спину и чешуйчатую головку… Как хорошо… А человеком нет, это слишком жестоко…
– Вы не любите людей?
– Ненавижу…
– Зачем. Люди красивее цветов и золотых птиц, сказки их прекраснее сказок ручья, а солнце больше всего дарит света и радости тем, которые боготворят его.
– Я не понимаю вас, [—] изумленно сказал Алексей <…>
– Зла нет и нет ненависти, есть неправильное понимание любви[,] и все исходит от того человека, который говорит о зле и ненависти… Человек[,] который говорит[,] создает сам зло и ненависть, потому что любовь, данную ему Богом, устремляет на себя, как стрелок из лука к себе обертывает упругую дугу и в свое сердце стрелу… вонзает, и ему кажется, кто-то другой, а не сам он ранит сердце. Чем сильнее он ненавидит, считает ненавистника непохожим на себя [, тем] сильнее себя любит…
<Если бы все любовь свою обернули к другим>
Непонятны и странны горячие слова молодой женщины казались Алексею… Что она, смеется или сказку рассказывает…
– Ну, сказал Алексей и вздрогнул, должно быть от ночного холода, а если я имею смертельного врага, который оскорбил и уничтожил живую душу во мне, что же делать с ним… Простить? [25]25
Имеется в виду провинциальный скандал, прямо предшествовавший отъезду Толстого за границу (см.: Петелин 2001: 161, 168–169). До последнего времени продолжалась практика публикации ранее неизвестных архивных материалов о Толстом бывшим сотрудником ИМЛИ В. Петелиным в его собственных не научных, а коммерческих сочинениях, где он впервые издавал ранее не публиковавшиеся документы без каких бы то ни было указаний на их местонахождение, а часто и в своих, весьма некачественных, пересказах. Поэтому мы иногда не располагаем необходимой информацией об источниках, как, например, в этом случае, когда Петелин явно пользовался неопубликованной семейной перепиской.
[Закрыть]Робкая и нежная улыбка осветила глаза и детские губы Рахили…
– Зачем вы спрашиваете, я не исповедник… Нельзя говорить поступи так, вы спросите себя…
– Я спросил и ответил…
Замолчали. – Алексей постукивал ложечкой о мраморный стол…
– Ну что вы ответили…
– Убить…
– Да…
Алексей вспыхнул… Вы сказали да и говорили о любви. Я не понимаю вас…
Рахиль засмеялась, запрокинув голову… Мы ужасно что говорили, вы ничего не понимаете.
Брат Рахили и Жорж обернулись, улыбаясь… (Толстой 1907–1908: 29–34).
Этот фрагмент никогда никуда так и не вошел. Однако именно здесь, в этом клубке мотивов, видимо, связанных и с влиянием Ремизова, и с личностью Софьи, впервые возникает в творчестве Толстого очарованность сказкой. Волшебство дождика, золотые «дневные птицы», бабочки, ужи и ящерицы, ручей и его сказки – все это впоследствии разовьется и воплотится в ранних стихах и сказках Толстого, а потом кое-что из этого аукнется и в «Золотом ключике».
Весьма продвинутая «психология», которую предлагает в этом отрывке Рахиль, напоминает, как это ни странно, симметричные психологические построения Вячеслава Иванова. Тут уже намечаются небанальные психологические сюжеты будущих вовсе не детских сказочек Толстого. Но сама сказочность здесь пока еще довольно приторная – в духе бальмонтовых «Фейных сказок», а не та подлинная, архаичная и страшноватая, которой Толстой научится у Ремизова. Только образ оригинальной девушки с «непохожими», «тоненькими» словами не пригодился автору. Скорее всего, откровенно автобиографический характер этой сцены не соответствовал направлению художественных поисков Толстого.
Однако черты женского портрета в этом отрывке, а именно мотив фиалки (уже не белой лесной), лилового и некоторых его оттенков, станут лейтмотивным для женских образов Толстого «петербургского» периода. Лиловые глаза героини вспомнятся в первом варианте рассказа Толстого о русалке («Неугомонное сердце» [26]26
Вспомним: так назывался дебютный роман матери Толстого.
[Закрыть]; вошло в книгу «Сорочьи сказки», СПб., 1910; впоследствии Толстой изменил название на «Русалка»): «Глядит в окно лиловыми глазами, не сморгнет, высоко дышит грудь». В последующих изданиях «лиловые глаза» отсутствуют (Самоделова 2003: 25).
Русские парижане
Софья Дымшиц писала в своих изданных воспоминаниях: «В конце 1907 года мы надумали совершить заграничную поездку. Мои наставники в области живописи считали, что я должна посетить Париж, который слыл среди них „городом живописи и скульптуры“, что я должна там многое посмотреть, а заодно и „себя показать“, продемонстрировать свои работы тамошним „мэтрам“. Мы же смотрели на эту поездку, прежде всего, как на своего рода свадебное путешествие. И вот в январе 1908 года мы выехали в Париж» (Дымшиц-Толстая 1982: 63).

Е. С. Кругликова
Супружеская чета поселилась в большом пансионе на рю Сен-Жак, 225. Главным парижским адресом для русских художников и писателей в то время было ателье художницы-графика Е. Н. Кругликовой (Буасоннад, 17). Софья занялась у нее офортом [27]27
Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941) – художница – профессиональный график, гравер и силуэтистка. С 1900 по 1914 г. жила в Париже, имела там мастерскую. В 1909 г. Кругликову пригласили преподавать офорт в Академии «La Palette», занятия часто проходили прямо в ее мастерской. Обогатив офорт цветом и виртуозно овладев техникой печатания, Кругликова не делала из своего мастерства секрета, делилась своим опытом и достижениями с учениками и коллегами по цеху художников. У нее учились М. Волошин, В. Белкин, Н. Тархов, Н. Досекин, А. Дюнуайе де Сегонзак и др. (Кругликова: 74). В 1914 г. вернулась в родной Петербург, где также преподавала графику (до 1929 г.). Софья Дымшиц также занималась офортом у Кругликовой (Кругликова: 74).
[Закрыть]. В рукописной версии она писала:
Елиз<авета> Серг<еевна> Кругликова имела большую мастерскую<из двух>. У нее были свои журфиксы на которые собирались художники французы, русские, иногда и других национальностей, так, я помню знакомство с молодым художником [—] сыном знаменитого Сарасате [28]28
Сарасате Пабло де (1844–1908) – испанский скрипач-виртуоз и композитор.
[Закрыть]. Журфиксы были серьезные, интимные. Там завязывались знакомства русских с французскими художниками и русский художник получал от Елизаветы Сергеевны помощь и совет в смысле максимального использования Парижа для повышения своей живописной культуры (Дымшиц-Толстая рук. 1: 11–12).
Учениками Крутиковой в парижские годы (1907–1914) были и А. П. Остроумова-Лебедева, и Н. Я. Симонович-Ефимова, с театром петрушек которой Толстой сотрудничал в 1917 году, и В. П. Белкин, будущий ближайший друг Толстого, прототип его первых рассказов, а позднее и иллюстратор его произведений. У Крутиковой Толстой познакомился с князем А. К. Шервашидзе [29]29
Шервашидзе (Чачба) Александр Константинович (1867–1968) – первый абхазский профессиональный художник, до революции сценограф Мариинского и Александринского театров, в 1920–1948 гг. сценограф у Дягилева. Умер в Монако, отослав свои работы в Абхазию. Ср.: «Я был лишь ученик и „друг“ Головина; скромный театральный художник – я, но меня знал весь Петербург, я этого не искал; тогда и Ник. Ник. [Евреинов] был в апогее славы и своего искусства – Кривое Зеркало и т. п., Старинный театр, Миклашевский, Бутковская, Мейерхольд – был деятельный наш Петербургский мирок» (Шервашидзе-Чачба 1984: 209).
Миклашевский Константин Михайлович (1885–1943) – теоретик старинного итальянского театра, актер и режиссер, в эмиграции – один из родоначальников звукового кино.
[Закрыть], художником-декоратором, позднее – главным декоратором Императорских театров; князь Шервашидзе будет его визави, секундантом противника на знаменитой дуэли Гумилева и Волошина. Гражданская жена Шервашидзе Н. И. Бутковская [30]30
Бутковская Наталья Ильинична (1878–1948) – режиссер, актриса, издательница. В эмиграции в Париже ставила дивертисменты, поставила несколько спектаклей на французском языке.
[Закрыть]организует в 1916 году первый в Петербурге кукольный театр для Ю. Л. Сазоновой-Слонимской [31]31
Юлия Леонидовна Сазонова-Слонимская – жена режиссера П. Сазонова, создательница первого профессионального театра марионеток в Петербурге, затем, в эмиграции, русскоязычного театра марионеток в Париже, выдающийся театральный и литературный критик.
[Закрыть]и П. Сазонова, привезших эту новую моду из Парижа, а зимой 1921/1922 годов поставит в Париже, в театре «Старая голубятня» Жака Копо [32]32
Копо Жак (Jacques Copeau, 1879–1949) – крупнейший французский театральный режиссер, в 1913–1924 гг. руководитель новаторского театра Vieux Colombier (Старая голубятня), в 1936–1940 гг. руководил театром «Комеди Франсез».
[Закрыть], пьесу эмигранта Толстого «Любовь – книга золотая» [33]33
Об этой постановке см.: Купцова 2006: 48–68.
[Закрыть], а художниками будут Судейкин [34]34
Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946) – художник, организатор группы художников «Голубая роза». Был близок к молодой редакции «Аполлона». Дружил с Толстым в 1909–1910 гг. Декорировал литературно-художественное кабаре «Бродячая собака». Много работал для театра. С 1920 г. в эмиграции в Париже. С 1922 г. в США.
[Закрыть]и Шервашидзе.
Из того же ателье Кругликовой выйдет и художница Любовь Васильевна Яковлева, впоследствии жена композитора Юрия Шапорина – она в 1918 году организует свой кукольный театр в Петрограде, где даст работу вернувшейся из Парижа Кругликовой, и они поставят пьесу Гумилева. Любовь Васильевна Шапорина в конце 1920-х – первой половине 1930-х годов станет ближайшим другом семьи Толстых. От впечатлений, набранных в тот год в Париже, протягиваются нити последующих увлечений: карнавалом, кабачком-кабаре, кукольным театром; эти жанры в Петербурге поднимутся в ранге, став частью элитарного искусства.
Причастность к парижскому русскому литераторско-художническому кругу станет «масонским знаком». Вокруг этой «субкультуры» завяжутся связи: для Толстого это прежде всего начавшееся с конца зимы 1908 года знакомство с Н. Гумилевым, а с середины мая – и с М. Волошиным. Именно Волошин, с первой встречи с Толстым в мае 1908 года, примет ближайшее участие в его литературной судьбе.
Формообразующее воздействие Волошина началось с изменения внешности молодого Толстого – именно он изобрел ему образ, который Толстой сохранял несколько десятилетий. Вот как об этом рассказано у Л. В. Шапориной [35]35
Шапорина Любовь Васильевна (урожд. Яковлева, 1879–1967) – художница, переводчик, создательница первого советского театра марионеток (1918). Известность получили ее дневники.
[Закрыть]:
…Ранней весной 1908 года появился на улице Буасоннад Алексей Николаевич Толстой с молоденькой красавицей женой Софьей Исааковной. Тут же состоялось знакомство Алексея Николаевича с Волошиным, который сразу повел его к парикмахеру. Когда они вернулись, Алексей Николаевич был неузнаваем. Исчез облик петербургского интеллигента: бородка клинышком, усы были сбриты, волосы причесаны на косой пробор, на голове вместо фетровой шляпы красовался цилиндр! Преображение Толстого было встречено дружным хохотом, больше всех смеялась его жена (Шапорина 1969: 68).
Волошин рукою художника выбрал Толстому парижскую кучерскую прическу, которая придала ему двусмысленный, архаический – то ли простонародный, то ли барский – и одновременно сверхмодный шик.
На той же странице Л. В. Шапорина упоминает приезд Гумилева: «Приезжал в 1907 г. еще совсем молодой Н. С. Гумилев, читал свои стихи. Мало кто знал его тогда, но говорили шепотом друг другу: „Он „весист“, его печатают в „Весах“!“ (Талантливом московском журнале того времени)» (Там же).
Кругликова направляет Софью в школу «La Palette», которой в это время руководят художники Жак-Эмиль Бланш, Шарль Герен и Анри Ле Фоконье. (Эту мастерскую позднее, в 1912 году, облюбовало следующее поколение молодых русских художников – С. Шаршун, Л. Попова, тогда там уже преподавали Ле Фоконье, Метценже, де Сегонзак; это был период классического кубизма.) Миф о Софье как одной из первых кубисток неверен: Шарль Герен (1875–1939), в мастерскую которого она попала в Париже, в 1907 году еще производил полотна отнюдь не кубистические, например «Ожидание» («Эрмитаж»); нечто в том же духе красочного, мечтательно-ироничного примитива вскоре начинают делать художники «Голубой розы», с которыми сблизились Толстые в Петербурге в 1909–1910 годах – С. Ю. Судейкин и Н. Сапунов. Кубистическая мода примется в России позже, в 1912 году.
В рукописной версии Софья вспоминает о своих парижских учителях:
Там преподавали известный портретист того времени Бланш [36]36
Бланш Жак-Эмиль (Jacques-Émile Blanche, 1861–1942) – французский художник, знаменитый портретист конца века, работал несколько «в английском стиле» – в духе Уистлера и Сарджента, написал портреты Пруста, Пьера Луиса, Бердсли, певицы Иветт Жильбер.
[Закрыть], Герен [37]37
Герен Шарль (Charles Guérin, 1875–1939) – французский художник-символист, ученик Гюстава Моро, О его работах символистской фазы, 1900-х гг., в 1905 г. писал в «Руси» М. Волошин: «Шарль Герен, завороженный вековыми аллеями Люксембургского сада, <…> населил их старинными портретами молодых девушек со всей неподвижной строгостью их поз, безмятежно-ясной молодостью нежных овальных лиц, и одел их в белесовато-тусклую дымку старых гобленов (sic! – Е.Т.). Из этих элементов он создал свой небольшой круг живописи: условный и изящный, за который был прозван художественной критикой „Капустным Ватто“» (Волошин 2007-5: 511). Впоследствии Герен был близок к кубизму и фовизму.
[Закрыть]и Лефоконье [38]38
Ле Фоконье Анри (Henri Le Fauconnier, 1881–1946) – французский художник, с начала 1910-х гг. кубист. Впоследствии, в 1912 г., он возглавит академию «La Palette», и она превратится в рассадник кубизма.
[Закрыть]. Помню мое первое выступление. В школе было много англичан и американцев и небольшое число русских. Бланш приезжал в школу на автомобиле в сопровождении одной из своих заказчиц <…> какой-нибудь шикарной американки-миллионерши. Увидев меня в первый раз, ему пришла мысль написать мой портрет. Директор школы – американец поторопился мне доложить об этом великом для меня счастье. Надо признаться, что я <осталась> отнеслась к этому событию равнодушно, так как не знала ни Бланша, ни его мировой славы портретиста. Побыв некоторое время у директора школы, Бланш начал обход учеников. Я, увлеченная дисциплинами школы Званцевой, сделала с модели большой силуэтный рисунок углем без теней. Бланш пришел в бешенство и поставил мне условие: буду ли я работать тенями. Я отказалась, и Бланш заявил, что он ко мне больше не подойдет. Так закончилась моя встреча с Бланшем. О портрете он больше не заикался. Герен был педагог другого порядка. Живой пожилой француз, его больше всего в ученике интересовало его дарование, его индивидуальность. Я помню, как Кругликова показала ему мои парижские наброски пастелью. Они были очень несовершенны, но Герен ими заинтересовался, повторяя: талантливый, талантливый человек. Увидев рисунок углем с модели, Герен его одобрил, сказав, что больше всего [ценит] в рисунке чувство и жизнь, то, что есть самое ценное в искусстве. Лефоконье, один из кубистов, крупный, рыжий француз с голубыми глазами, был любимцем школы. Я с большим волнением ждала его консультации. Лефоконье, посмотрев внимательно мою работу, сказал, что она очень индивидуальна и он того мнения, что мне надо сохранить свою индивидуальность, и не стал меня гнуть к кубизму. Как-то мы с Алексеем Николаевичем были у него на дому, в его мастерской, залитой светом. Он был женат на русской художнице. Все ее звали Марусей [39]39
Ле Фоконье Маруся (Maroussia Le Fauconier, 1887–1932) – французская художница.
[Закрыть]. Она, очень крупная женщина славянского типа, служила ему моделью для его картин. Так его вещь «Изобилие» написана была с нее. Плетеная мебель, русская кустарная скатерть, <крупный кустарный> пестрый чайный сервиз – все это давало впечатление какой-то удивительной радостной смеси французского с русским (Дымшиц-Толстая рук. 1: 12–14).
Размолвка и рывок
Первое подозрение, что семейная идиллия Толстых нарушилась уже в Париже в начале 1908 года, возникает при чтении его стихов. Одно из последних стихотворений в его записной тетради, датированное 24 января, звучит в чересчур личном и необычном для автора горестном тоне:
54. ПЕРЕД КАМИНОМ
Нет больше одиночества, чем жить среди людей,
Чем видеть нежных девушек, влюбленных в радость дня…
Бегут, спешат прохожие; нет дела до меня.
В камине потухающем нет более огней,
В душе змея холодная свернулась и легла.
За окнами встревоженный, тысячеглазый Он.
Хохочет с диким скрежетом кирпичным животом.
Тусклы огни фонарные, ползет меж улиц мгла.
Нет большего мучения, чем видеть, как живут,
Средь пляски сладострастия поникнуть и молчать.
Пришла к соседу девушка, он будет целовать.
За окнами, за шторами все тени там и тут.
Потух камин. И страшно мне: Зачем себя люблю.
Сижу согнувшись сморщенный, ненужный и чужой.
Покрыты у[гли красные] пушистою золой.
Себе чужой. [нрзб.] Так тихо сплю.
24 Ja. Paris. (Толстой 1907–1908а)
Этот странный и нелепый текст, полный штампов, диких образов и первичных эмоций, находится среди стихов главным образом на «мирискуснические» темы, например, «На террасе» (№ 33): «В синем стройно замерла» – как будто навеяно картиной Сомова; «Лунный путь» (№ 39) описывает старинный волшебный интерьер, который потом появится в «Детстве Никиты»:
Лунные залы таинственно спали
Ровно квадраты паркета сверкали
Синим огнем.
<…>
Тускло горит позолота багета,
Жутки протяжные скрипы паркета,
Облики сов.
Даже на этом бесхитростно-эпигонском фоне «Перед камином» выглядит каким-то нехудожественным диссонансом, детским всхлипом. Автор явно покинут дома, один, ревнует – и не боится показаться смешным: «В душе змея холодная свернулась и легла». Нам кажется, мы вправе увидеть здесь нечто вроде лирического дневника для одного себя; забегая вперед, скажем, что Толстой, ожегшись на первой поэтической книге, лирики больше никогда публиковать не будет и тетрадь эту никому не покажет.
Если отнестись к стихотворению «Перед камином» как к дневниковой записи, то получается, что тысячеглазый Он-Париж осмеял провинциала и обобрал его – оставил одного. Мы не знаем, действительно ли размолвка с Софьей имела место и действительно ли испытанное автором чувство было связано с ней, а не с чем-то другим. Ничего не известно и о других участниках гипотетического сюжета. Известно, однако, что Толстой никогда не переживал настоящих депрессий: когда его загоняли в угол, он становился непредсказуем и шел на крайности. То, что произошло в эту ночь, явно было чрезвычайно важно для него – и принудило пойти на крайность: он преобразил свою творческую систему! Ведь уже следующая запись в тетрадке представляет собой верлибр:
55. ЧОРТ
Под кроватью кто-то живет.
Когда тушу свечу,
Он начинает пищать
Тонко и протяжно, в одну ноту.
Мне это приятно…
На душе делается совершенно пусто,
И тело цепенеет,
Как будто меня уже нет.
Остановится. Тогда гудит тишина.
Начинает снова, еще протяжнее.
Я сначала сержусь,
А потом привыкаю.
Я захотел его обмануть,
Вечером сел в кресло, протянул ноги
И притворился, что засыпаю.
Тогда он сразу запищал,
Я схватил свечу и заглянул,
Под кроватью никого не было.
Я понял, что приходил чорт.
Он хочет, чтоб я повесился.
25 jan. Paris
Похоже, что это стихотворение сочинено после бессонной ночи и свидетельствует об опыте измененного состояния сознания, вызванном психическим кризисом.
Следующие по порядку тексты – единица хранения № 10 – находятся в папке с отдельными листками. Все эти листы – одинакового тетрадного формата, написаны на одинаковой бумаге и с одинаковой округлорваной линией отрыва, как будто их вырвали одним сильным движением и они физически запечатлели порыв к метаморфозе. Интересен № 5 – как бы продолжение «Чорта»:
На подпорке, как телеграфный столб
Желтая скарлатина
Прыгает
Кружится без головы
Клубком свернула одеяло
Давит
Лимонадчику хочется
Из синего кувшина
Явилась с проволоками
Опутала и покалывает
Мягко и жарко…
Мама положила руку на голову
Рука с бородавочками
У мамы лицо растет
Растет
Улыбается
Такое ощущение, что сила эмоционального шока расплавила привычные способы выражения и выкинула молодого автора в неосвоенные, еще не осевшие словом области опыта. Нащупываются какие-то иные, на грани стиха и прозы, формы. Темы самые простые, первичные – от кризиса Толстой сбежал в спасительное детство, проверять основы и истоки своего существа. Чувствуется, что цель этого поиска – обновление своей поэзии, приведение ее в ногу со временем, поворот ее к более «тонким», иррациональным психическим переживаниям. Эти найденные в памяти «миги», чем-то важные этапы истории души пригодятся ему в «Детстве Никиты» – «чорт» обратится в подозрительно воющий ветер, будет развит образ матери. Ласточка, явившаяся в № 4, – прототип Желтухина. Бред будет использован в болезни Кати в «Сестрах». № 3 в папке 10 – то зерно, из которого выросла прелестная военная сказочка «Прожорливый башмак»: «Под комодом живет картина / Страшная рожа / Я хожу по половицам / От стены до шкафа / Поглядываю / (она) Думает – (я) руку поднимаю под спину / А я (только) взгляну (и) / И назад побегу по половице… / Пущу туда жука / Рогатого / Он тебя забодает» (Толстой 1907–1908в).
Итак, вполне возможно, что перед нами картина личного потрясения, всколыхнувшего источники творчества. Какого характера было это потрясение, мы точно никогда не узнаем. Но сила его сказывается в том, что Толстой, вразрез со своим обыкновением всегда сохранять все им написанное, уничтожил тетрадь за зиму-весну 1908 года, сохранив из нее лишь часть страниц. По нашему предположению, остальные тексты имели слишком личный характер.
Встреча с Гумилевым [40]40
Впервые: Толстая 2004.
[Закрыть]
Гумилев в Париже с 1906 года. Он не сошелся с Мережковскими (а раньше произвел не слишком хорошее впечатление на Брюсова). Тем не менее с Брюсовым он переписывается и с волнением следит за перипетиями «Огненного ангела», видимо, как-то соотнося его со своей личной проблемой – любовью к Анне Горенко: ситуация кажется ему безвыходной, и в декабре 1907 года он совершает попытку самоубийства. Только что – в январе 1908 года – в Париже тиражом 300 экземпляров вышли его «Романтические цветы». Гумилев читает старинные французские хроники и рыцарские романы, создает «Дочерей Каина» и другие новеллы.

Н. Гумилев. Портрет А. И. Божерянова
Толстой встречается с Гумилевым, когда наносит первые визиты к Кругликовой. 23 февраля (7 марта) Гумилев в ироническом тоне сообщает Брюсову о трех своих встречах с Толстым:
Не так давно познакомился с новым поэтом, мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он послал Вам свои стихи). Кажется, это типичный «петербургский» поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя maotre’ом. С высоты своего величья он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов. Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед Андреем Белым, которого я некогда упрекал (мысленно) в несдержанности его критики. Теперь понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям «Патентованной калоши» (Гумилев Переписка: 472).
В пятом номере «Весов» за 1907 год в статье «Штемпелеванная калоша» Белый сетовал на вульгаризацию и популяризацию элитной духовной культуры, в особенности нападая на петербургских мистиков, – целил он, как известно, в мистических анархистов, а прежде всего в Блока [41]41
Подробнее об отношениях Толстого с Андреем Белым см. ниже в гл. 6.
[Закрыть].
Не подозревая об ужасном гумилевском отзыве, адресованном Брюсову, уже 12 марта Толстой пишет Чуковскому: «Я пользуюсь случаем обратить Ваше внимание на нового поэта Гумилева. Пишет он только в “Весах”, потому что живет всегда в Париже, очень много работает и ему важна вначале правильная критика» (Гумилев 1980: 38). Чуковский позднее комментировал это так: Гумилев на тот момент гораздо меньше нуждался в патронаже, чем думал Толстой (Чуковский 2000: 286). Толстой, очевидно, расхрабрившись, по примеру Гумилева посылает Брюсову (о чем Гумилев Брюсова предупреждает) два стихотворения: «В изумрудные вечерние поля…» и «В мансарде» (письмо со стихами выслано из Парижа 26 февраля / 10 марта 1908 года). При этом первом контакте приглашения в «Весы» не последовало.
Однако в марте, несмотря на плохое начало, Толстой все же с Гумилевым сдружился. Уже к концу марта Гумилев сменил гнев на милость, что явствует из следующего письма Брюсову от 24 марта (6 апреля) 1908 года: «Скоро, наверное, в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся. Очень интересно, что скажете о нем Вы» (Гумилев Переписка: 474). Разница их взглядов – это, видимо, унаследованное Толстым от родителей и студенческой среды народничество, от которого он вскоре отойдет, ценой лютой ссоры с отчимом.
Гумилев общается не только с ним, но и с С. И. Дымшиц-Толстой. – так, у Лукницкого в «Трудах и днях Николая Гумилева» упоминаются их ночные походы в парижский зоологический сад – Jardin des Plantes (который он постоянно навещал в предыдущем, 1907 году): «1908. С Ал. Н. и С. И. Толстыми и Н. Деникер [42]42
Деникер Николай (1881–1942) – французский поэт, племянник Анненского со стороны сестры, сын известного французского этнографа и антрополога, работавшего в библиотеке музея «Jardin des Plantes». Входил в состав редакции журнала Г. Аполлинера – «Le Festin d’Ésope» («Пир Эзопа», 1903–1904).
[Закрыть]несколько раз, ночью – ходили в Jardin des Plantes наблюдать зверей)» (Лукницкий 2010: 129). Очевидно, имеется в виду ее устное свидетельство. Действительно, в том варианте воспоминаний Дымшиц-Толстой, который хранится в Государственном Русском музее, вскользь говорится об этих походах, в которых она принимала участие: они кормили «мартынов» – то есть больших чаек. Любопытно, что мартынов кормят влюбленные герои «Хождения по мукам», путешествуя на пароходе по Волге. Сразу после этого упоминания в музейной машинописи идет пропуск полутора нумерованных страниц. В рукописи этот эпизод вообще не упоминается, так что полной картины той парижской весны у нас нет.
Собирая в 1925 году мемуарные свидетельства о Гумилеве, П. Лукницкий обратился к С. И. Дымшиц-Толстой. Софья Исааковна пришла на Фонтанку, где в квартире Н. Н. Пунина тогда жила Ахматова. Лукницкий вспоминает этот приход и реакцию на него Ахматовой:
По телефону Лунин был предупрежден, что сейчас к нему придет Софья Исак. Дымшиц-Толстая. Я уже хотел уходить, но остался для того, чтобы записать ее воспоминания. Она пришла. Пунин ее принял в столовой. О присутствии в доме АА. она не была осведомлена. Пунин поговорил с ней, она согласилась, и я в столовой расспрашивал ее, записывал.
Потом прошел в кабинет, где была АА. и прочел ей. АА. говорит, что Дымшиц-Толстая – умная. И была очень красивой в молодости. Сейчас этого… (Так в публикации. – Е. Т.)
Софья Дымшиц-Толстая не любит АА. Дымшиц-Толстой кажется, что она имеет на это причины. Тут при чем-то Париж. АА. что-то знает такое, по поводу чего С. Дымшиц-Толстая боится, что АА. воспользуется своим знанием… Улыбнулась. «Но я не воспользуюсь…» С. Дымшиц-Толстая к Николаю Степановичу относилась недоброжелательно. Была сторонницей Волошина (Лукницкий 1991: 228–229).
Когда возникла враждебность Дымшиц к Ахматовой, трудно сказать – в 1910–1912 годах они были подругами. Враждебность же ее к Гумилеву, возможно, объяснима именно тем сюжетом, которому посвящена данная глава.
Ахматова, обещая не говорить ничего, все же сказала Лукницкому достаточно. Кроме этого сообщения, нет никаких указаний, что у Гумилева мог быть роман с С. И. Дымшиц-Толстой. Однако на фотографиях перед нами предстает поразительная красавица, воспоминания описывают графиню как независимую, гордую и бескорыстную женщину, а биография ее свидетельствует о пылкости и непостоянстве.
Той весной Толстой внезапно съездил в Петербург и вскоре вернулся в Париж. Мы не знаем, почему и зачем. С. Дымшиц-Толстая говорит об этом, не объясняя цели поездки, но (невольно?) подчеркивая ее важность:
В течение почти целого года, который мы провели в Париже, только два события вывели Алексея Николаевича из заведенного им темпа работы. Это было известие <…> о смерти его трехлетнего сына, последовавшей от менингита. Алексей Николаевич очень тяжело переживал смерть ребенка. В другой раз это была кратковременная поездка в Петербург, которую он совершил без меня (я была связана посещениями художественной школы и не могла ему сопутствовать) (Дымшиц-Толстая 1982: 56).
В комментарии к письмам Гумилева Брюсову эта поездка не учтена: там сказано о том, что Толстые вернулись в Петербург в октябре 1908 года (Гумилев-переписка 1994:475). В версии мемуаров С. И. Дымшиц-Толстой, хранящейся в Русском музее, описываются события, произошедшие в этот период:
Из воспоминаний о художественной жизни веселящегося Парижа мне живо запомнился костюмированный бал, так называемый «Катзар», в переводе «Четыре искусства», т. е. бал четырех искусств [43]43
Бал этот подробно описан у Волошина и у Г. Чулкова (Волошин 2007: 567–577; Чулков 1930: 253–254).
[Закрыть]. Он был ежегодным традиционным праздником и устраивался поздней весной. На него съезжались художники и меценаты не только Франции, но и других стран. Наша школа была также приглашена на этот бал. Я была в костюме египтянки и присутствовавшее при входе жюри меня пропустила без возражений. Пришла я с группой наших русских художников (Алексей Николаевич временно уехал в Петербург), хотя была приглашена одним знакомым архитектором-французом из нашего пансионата, где я жила (Дымшиц-Толстая 1950: 22).
Рукописная версия во многом совпадает с версией Русского музея, дополняя ее:
Из сильного впечатления того времени я помню парижский костюмированный бал Катзар (четыре искусства). Этот бал традиционный. Устраивался ежегодно поздней весной. На этот бал съезжались художники, меценаты <разных> других стран. И наша школа была приглашена на этот бал. Я костюмирована была египтянкой. При входе присутствовало жюри и я была пропущена. <Конечно, я была> Пришла я с группой наших русских художников, хотя и была приглашена <на ужин> французским архитектором [жильцом] <пансиона, в котором мы жили>. Бал происходил в самом большом помещении г. Парижа, и там с трудом вместились все желающие, имевшие личное приглашение. Джаз еще не был известен, но оркестры все время исполняли то, что сейчас называется джазом, но еще более дико. Начались шествия. Все они представляли эпизоды из времен греческого эпоса, во главе с самыми красивыми женщинами и мужчинами Парижа – артистами и моделями. Шествия чередовались с другими аттракционами, но все было подчинено одной цели – выявлению красоты – цели высокого искусства. Водки не было, продавалась в буфетах еда и <одно> шампанское. Настало время ужина. Несмотря на то, что мой французский архитектор был один из главных организаторов, и я им была приглашена на ужин, я так и до конца вечера его не видела и ужинала, нагрузкой, в нашей русской компании. Несмотря на то, что на вечере не было ни одного трезвого человека, я не видала ни одного безобразного явления, все было подчинено какой-то особой внутренней высокой дисциплине художника. По окончании вечера, ввиду того, что еще не было никакого транспорта, мне предложили вернуться в фургоне с декорациями, фургон должен был проехать мимо нашего отеля. Со мною ехали несколько русских, которые, не доехав до моего дома, слезли[,] и я дальше поехала одна. Доехав до дома, я слезла[,] и, пока, доставала деньги, чтобы расплатиться с возницей, из под декорации вылез совершенно голый человек, вдребезги пьяный. Этот человек оказался мой французский архитектор. Он жил в том же отеле. Вместо того, чтобы скрыться, он начал декламировать с пафосом героические стихи. На улице все это выглядело иначе. Собралась толпа, но никого это не удивило, так как в это раннее утро не только голые люди разгуливали по Парижу, но все бассейны в парках были полны купающимися, участниками Катзара. Вспоминаю еще маленький <инцидент> эпизод. На бал была приглашена вся наша школа. Там мы разделились на три группы: русские, <французы> американцы и англичане. Один из англичан решил за мною поухаживать, но так как шампанское ему ударило в голову, то он невзначай захотел меня поцеловать. Произошел несколько для него неприятный инцидент с нашей русской группой. Этот случай английской группой был в школе поднят – его <судили англичане> осудили и заставили публично передо мною извиниться. Таким образом, у меня от этого Катзара осталось впечатление силы воспитательно-организующего существа искусства (Дымшиц-Толстая рук. 1: 16–20).
Этому выводу не помешали и чуть не вмешавшиеся «русские мотивы» драки и пьянства [44]44
В машинописной версии Русского музея говорится: «Пришлось ему выдержать весьма неприятный разговор с нашей русской группой тут же на месте, который чуть не закончился дракой». Повествование в машинописной версии было сокращено за счет наиболее рискованных моментов и имело следующий вид: «Хотя бал проходил в самом большом зале Парижа, но там, и то с трудом, поместились только лица, получившие письменные приглашения, не говоря о простых смертных, желавших попасть на праздник. Джаз в то время не был известен, но оркестр манерой исполнения напоминал то, что мы сейчас называем этим словом „джаз“.
Бал открылся шествием, представляющим эпизоды из греческого эпоса. Во главе шествия, в качестве исполнителей шли красивейшие женщины и мужчины Парижа, артисты, художники и их модели. Шествие прерывалось разнообразными аттракционами, но все зрелище было подчинено одной установке – выявлению красоты как цели высокого искусства.
Настало время ужина. Вино лилось рекой. Воды не было нигде. Ее в буфетах и киосках заменяло шампанское. Хотя пригласивший меня француз-архитектор был одним из главных устроителей бала, но я его так и не видела в продолжении всего вечера и ночи, а ужинать мне пришлось в компании нашей русской колонии. Удивительное дело! Хотя на балу не было ни одного трезвого человека, но за все время не случилось ни одного безобразного или оскорбляющего слух или зрение факта. Все было подчинено какой-то особой высокой эстетической дисциплине». (Зачеркнуто редактором: Поэтому вся обстановка «Катзара» оставила во мне твердое мнение о воспитательно-организующей роли искусства.) (Дымшиц-Толстая 1950:22–23). В этой версии «катзаровский» эпизод заканчивается еще более мажорно: «…нас окружала легкая радостная жизнь французского Монмартра, с его художниками, писателями, кабачками артистов».
[Закрыть]. На фоне репрессивного отношения к телу, принятого в России, Софья остро воспринимала освобождающий, возвышающий стиль парижских впечатлений.