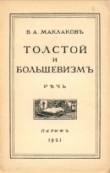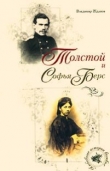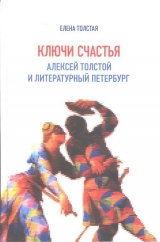
Текст книги "Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург"
Автор книги: Елена Толстая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц)
Кузминское влияние в драме
1909–1910 год – это первый год Толстого в «Аполлоне». Он проходит под знаком Кузмина, приветствовавшего дебюты Толстого. Уже в первой своей пьесе – стихотворной сказке для кукольного театра и живых актеров, «Дочь колдуна и заколдованный королевич», – Алексей Толстой подражал Кузмину. Песенки, которые, танцуя, распевает кукольный дуэт, звучат по-кузмински жантильно, с упором на ключевой для него эпитет «милый»:
Орля.Ножку белую поднять, / В милый сад пойти гулять <…> Бегать в жмурки по цветам, / Целоваться здесь и там; <…> Стану я живой Орля, / Погляжу на короля <…>.
Орланд.Стал я куклой деревянной, / Этот плащ одел багряный / Для тебя <…> / Ты же хочешь все забыть, / Чары милые разбить (ПСС 11: 10).
Общая легкость и кажущаяся беспечность, иронический эротизм и стилизация в духе XVIII века – все это легко опознаваемые черты поэтики Кузмина, которая была представлена, например, в «Курантах любви» (исполнялись с 1907 года).
Другая толстовская драматическая проба пера – фарс «О еже, или Наказанное любопытство» (Толстая 1999: 62–64), написанный для открытия «Бродячей собаки», – возможно, отразила жанровые и стилистические эксперименты Кузмина с театральным «примитивом»: предположительно, Толстой имитировал простодушное лукавство кузминской одноактной «Голландки Лизы», поставленной на открытие «Дома интермедий». Кухарка Марта у него скрывает от хозяина своего любовника солдата Ганса; он поет: «Всех разит мой добрый меч, / Ударяя между плеч», а она: «Рост высок, / волос рыж, / Поцелуешь – сгоришь»; следует недвусмысленная песенка про шмеля: «Ах, цветок, цветок был мал, / Толстый шмель цветок сломал»; старый Хозяин спрашивает: «Что в ящике?» – «Образчики» и выпивает «ежовы яйца». Как в средневековых пьесах, появляется аллегорическая фигура Времени, сообщающая, как было принято в реконструкциях Старинного театра: «Я время играю / И вам объявляю, / Что год уже вот / Пролетел… / Сейчас у хозяина здесь / Живот заболел». Доктор говорит беременному Хозяину: «Рожать ежа ужасное мученье! / Вам кесарево сделаю сеченье», – и достает из его утробы ежа: «Провиденье дало сына, / Человек родил скотину» и т. д.
Словом, Толстой равнялся на грубые и смешные фарсы, поставленные в «Старинном театре», – «Фарс о чане» и «Фарс о шляпе-рогаче» (вернее, рогатом чепчике) королевского нотариуса XVI века Жана д’Абонданса.
О судьбе толстовского фарса вспоминал в своих мемуарах Николай Петров – бывший Коля Петер:
Алексей Николаевич принимал самое деятельное участие, а вернее сказать, был творческой душой этого нарождающегося начинания <…> Даже одноактную пьесу Алексея Толстого, где на сцене по ходу действия аббат должен был рожать ежа, нам не удалось сыграть. Когда уже был поднят не один тост, и температура в зале в связи с этим также поднялась, неожиданно возле аналоя появилась фигура Толстого. В шубе нараспашку, в цилиндре с трубкой во рту, он весело оглядывал зрителей, оживленно его приветствовавших. – Не надо, Коля, эту ерунду показывать столь блестящему обществу, – объявил в последнюю минуту Толстой, и летучее собрание девятки удовлетворило просьбу Алексея Николаевича. Интересно, сохранилась ли в архиве Алексея Николаевича эта злая, остроумная, трагифарсовая одноактная пьеса? (Петров 1960: 144–145).
Версия толстовского фарса, описанная Петровым, явно отличалась от той, что хранится в архиве Толстого. В нашем варианте нет упоминания об аббате и аналое, вместо Аббата действует нейтральный Хозяин, текст только называется «трагико-фарсовый». Тем не менее и эта версия не прошла театральную цензуру, о чем свидетельствует надпись на архивном экземпляре. Наверное, поэтому Толстой и отменил в последний момент ее показ.
В его архиве находится еще один сочный драматический фрагмент без названия, посвященный древнеегипетским «отцам-пустынникам», попавшим в лупанарий (Толстая 2006: 126–129). Написан он, видимо, в конце 1910 – начале 1911 года, потому что фрагмент одной из песенок «святых отцов» присутствует в одноактной комедии Толстого «Нечаянная удача» (февраль 1911 года). Очевидно, мысль о цензуре и на этот раз пришла Толстому в голову не сразу.
Лада Панова нашла в [«Отцах-пустынниках»] мотивы и интонации «Канопских песенок» Кузмина (Панова 2006: 407); нам тут видится пародийная русификация кузминских раннехристианских «комедий».
[Отцы-пустынники]
[Картина первая].
Пустыня. Входят 2 пустынника.
(Баритон) Гад.Здравствуй, брат.
(Тенор) Пигасий (вынимая у льва занозу).Ох, здравствуй.
Гад.Что ох, никак вознестись не можешь?
Пигасий.Очень скверно.
Гад.Заело?
Пигасий.Выражайся приличнее, мерзостна твоя речь.
Гад.Слушай, Пигасий. Живем мы с тобой на берегу Нила. Место это давно насиженное пустынниками; герои и близко сюда не подступаются – жутко им. Здесь не только что лягушки ладаном пахнут. Нет никаких искушений, хоть ты тресни. А известно тебе, что только через великое искушение можно быть взятым на небо живым и с конем и с колесницей. Идем отсюда, брат, искать настоящих соблазнов.
Пигасий.Что ты мелешь, а разве вчера со мной страус не разговаривал женским голосом?
Гад.Ерунда. У страуса только перо дамское.
Пигасий.Ой ли. А вон жирафа бежит – разве она не искушение.
Гад.Ну и целуйся с жирафой (Уходит.)Я ушел.
Пигасий (один). Искушений, соблазнов хочу… Свино-женщины, страусо-девы… собако-бабы… сюда. Лезьте на меня, прите отовсюду… Ох, пуста сия пустыня… место до тошноты свято.
Голос с неба.Вот дурень, иди за Гадом.
Пигасий.Послушен я. Иду искать соблазна… Увы мне. Ушел. (Удар грома, темнота.)
Картина вторая.
Гад и Пигасий в городе.
Поют:
Мы пустынники, мы два,
Живы с голоду едва.
Ходим, бродим, говорим,
Беды новые сулим.
Есть в аду огонь и чад,
Ведь на то и сделан ад.
Кто соблазны нам сулит,
Ад кромешный тех спалит…
Там в котле смола кипит,
У чертей ужасный вид.
Грешники со всех сторон
Терпят там большой урон.
Пигасий.Кто идет – страус?
Гад.Нет, братец, это получше страуса, это бабенка – Фея Ивановна.
Пигасий.Ангелы, архангелы, помогите.
Фея Ивановна (содержательница лупанара).Мужчины, куда идете?
Пигасий.Прочь, облик сатаны.
Гад.Не горячись… Здравствуй, милая; благодари неожиданное счастье, ты видишь необыкновенных личностей.
Фея Ивановна.Вот еще, к моим девчонкам и не такие личности шляются…
Пигасий.Грешная, пади ниц и кайся.
Гад.Раскатился гром над вашим жилищем,
Выпадал чорт, покрыт власяницей,
Говорил – подавала ль ты нищим?
Ах ты скареда, где мои крючья,
Сволоку тебя в ад на громадные сучья,
Вот какое приключится с тобой неблагополучье…
Фея Ивановна.Я испугана, раскаялась, из меня выскакивают бесы, ах как интересно, лохматенькие бесы, жалобные такие, …бедненькие…
Идемте[,]пустынники[,] к моим девчонкам, уговорите их не блудить…
Пигасий.Идем скорей!
Гад.Подлый, ах подлый. Фея Ивановна, он ужасно подлый. (Уходят.)
Картина третья.
Лупанар.
Сидят 3 женщины.
Первая.Горе, меня обуревают страсти.
Вторая.Я хочу золота, восточных духов и шелковое белье, о Боже.
Третья.Я же вздыхаю, то-то как молода и еще неопытна.
Все.Сюда идут. Готовьтесь, оденемся к лицу.
(Входят Пигасий и Фея Ивановна.)
Фея Ивановна.Вот мои девчонки. Попробуйте их вернуть к истинной жизни… Они грешны, но прелестны.
Пигасий.Язык мой отнялся. Гад, Гад, ободри меня.
Гад.Ну девчонки, покажите себя. Я посмотрю, подумаю, можно ли вас спасти.
Первая.
Ах меня зовут Кукура,
Барабанная шкура.
Скок вперед и скок назад,
Выбирай меня, солдат.
Пигасий.
Продирает холод лютый,
Я стою в дугу согнутый.
Вторая.
Я же страстию томима,
Я похожа на налима.
Мелко зубом постучу,
Одного тебя хочу.
Пигасий.
Нет терпенья никакого
У пустынника лихого.
Третья.
Я любезная Прията,
Я приятна словно мята —
Удовольствия сулю,
Одного тебя люблю.
Пигасий.
Эти страшные соблазны
Многочисленны и разны.
Катя.
Выбирай, коль ты не глуп,
Кто тебе всех боле люб.
Ты красавец, я мила,
Нежной розой расцвела.
Вот красавица Кукура,
Может опытна, но дура.
А вот это что за грусть —
Всех их знаю наизусть.
Что касается Прияты,
Полнота ее из ваты.
Я же розой расцвела,
Ручки, ножки, как мила.
Гад.Отличные девчонки.
Пигасий.
Как бабочки в саду[,]
Они уж разлетелись[,]
По веточкам уселись[,]
Которую найду…
(Толстая 1999: 59–61)
В архиве Толстого сохранился драматический отрывок «У окна сидит Максим Борисович…», в котором намечена идея будущей «Лунной сырости» (1922) – повести о Калиостро в России. Толстой драматизует здесь свою собственную прозаическую стилизацию в духе XVIII века, рассказ «Злосчастный» (1909) о худосочном и мечтательном бариче, объединяя его в одном сюжете со знаменитым магом. В отрывке изображен прием у тамбовского губернатора. Мать приводит к нему боязливого и нежного юношу, которого зовут Алексисом, как и героя «Лунной сырости». Ему сватают губернаторскую дочку; губернатору приносят сообщение о приезде Калиостро.
«У окна сидит Максим Борисович…»
У окна сидит Максим Борисович, в халате, со звездой, вяжет чулок. За конторкой пишет приказный дьяк Овсей Подщипаев.
Овсей (читая бумагу).Его превосходительству, тайному советнику, губернатору города Тамбова, прошение…
Максим Борисович.Кавалеру и прочее – пропущено. Оставить прошение сие безо внимания.
Овсей (читает другую бумагу).Его превосходительству, тайному советнику, губернатору города Тамбова и кавалеру и прочее и прочее, прошение…
Максим Борисович.Чьи это, гляжу, курицы ходят у нас по двору?
Овсей.Вон та – белая курица – то купца Бабкина, Силы Андреева, а пестрая курица – надо опросить чья.
Максим Борисович.Вот я покажу Бабкину, как кур пускать на губернаторский двор. Пиши исходящую… То-то смотрю – ходит и ходит проклятая курица, будто она на своем дворе ходит, а не на моем.
Овсей (пишет).От тамбовского губернатора, тайного советника и кавалера и прочая купцу Бабкину, Силе Андрееву, проживающему по Тряпичной улице в посаде ж, в доме мещанки Федешкиной, отношеное поспешно, совершенно секретно. Мною замечена в рассуждении расхищения моего, губернатора и кавалера имущества, как-то, зерна, крупы и прочих семенных злаков, твоя, купца Силы Андреева Бабкина, белая курица, и каковую курицу ни какими средствами выбить со двора не возможно, и разорение от того причинилось великое и по сему тебе, Силе Андрееву, надлежит курицу ту со двора взять, а за расхищенное имущество ж платить пеню пятьдесят рублев и с полтиной.
Максим Борисович.А полтинничек то в свою уж пользу приписал, мошенник. Давай к подписи.
Овсей.На то и власть, ваше превосходительство и кавалер, чтобы отечески брать и потачки не давать, наблюдая при сем богобоязнь, чинопочитание и порядок.
Максим Борисович.И любовь к царю и отечеству.
Овсей.А вот бумага странная и непонятная.
Максим Борисович.Ну-ка.
Овсей.Лошадей требует, казенный прогон и харчи казенные.
Максим Борисович.Что за птица?
Овсей.По предписанию варшавского генерал-губернатора к неукоснительному исполнению…
Максим Борисович.Подписано кем?
Овсей.Жузеп, граф Калиостро.
Максим Борисович.Жузеп, граф Калиостро. Не слыхал про такового. Многие в настоящее время разные особы разъезжают, другая, прямо говоря, возьмет и обманет. Так ему и отпиши – казенные лошади, мол, в разгоне, а казна пустая.
А что, мне, мол, варшавский губернатор не указка – я сам тамбовский губернатор. Пиши вежливо и с ласканием, что мол губернатор сумлевается, уж не жулик ли?
Появляется Потап с кофейником, чашкой и прочим, ставит поднос на столик подле Максима Борисовича.
Потап.Федосья Ивановна с сынком зайтить просятся.
Максим Борисович.А вот я посажу тебя в подвал на <…>, научишься, как докладывать.
Потап.Ваше превосходительство и кавалер…
Максим Борисович (нюхая табак).Теперь передышка, забери носом, да и выпаливай суть, как из ружья…
Потап.Дворянка Федосья Ивановна Праскудина с сынком добиваются у вашего превосходительства и кавалера…
Максим Борисович.Кавалера в сем случае можно опустить…
Потап (покашливает).
Максим Борисович.Выговори, выговори, чортов сын, выговори…
Потап.Ау-диенции.
Максим Борисович.Подойди к двери, и живот подбери, и дверь раскрой, и говори как бы с ужасом: просят. И за входящими верти головой, и глазами пожирай оных, и затем удались…
Справа в дверях появляется Неонила.
Неонила.Я вам прямо говорю, – за Федосьи Ивановны сынка не пойду замуж, не выйду ни за что… От него шкипидаром пахнет.
Максим Борисович.Ну так что же, что шкипидаром пахнет. Зато у Федосьи Ивановны пятьсот пятьдесят душ чистеньких.
Неонила.Киньте меня диким зверям, упрусь, не выйду замуж.
<пропуск страницы>
<Федосья Ивановна.>Полицейские власти в смятении чувств. (Неониле.)Здравствуй, дитя прелестное. (Целует.)
Максим Борисович (Овсею).На каком основании о происшествии не доложено в сей же час.
Овсей.Это опять все он же, граф Жузеп. (Уходит.)
Федосья Ивановна.А мой Алексис совсем есть перестал, по ночам вскакивает и страшным голосом вскрикивает: «Маменька». Водила его к преосвященному, он прямо говорит: (Зашипела.)«Жени его, жени, Федосья Ивановна, созрело, как плод, сие дитя дворянское».
Максим Борисович.Что, Алексис, хочется тебе жениться.
Алексис.Хочется.
Максим Борисович.Ну, а на ком бы ты, примерно, хотел жениться.
Алексис.Я, как маменька.
Федосья Ивановна.Уж очень нежен. Все маменька да маменька.
Максим Борисович.А хотел бы ты, Алексис, назвать меня папенькой.
Алексис.Почел бы за счастье.
Максим Борисович.Отменный младенец, Федосья Ивановна.
Федосья Ивановна.Редкий младенец, Максим Борисович.
Алексис.Покорно благодарю. Буду и впредь молить Бога укреплять меня во всех качествах, коими вы восторгались.
Федосья Ивановна.Так. (Зашипела.)
Максим Борисович.Нонилушка (так! – Е. Т.), скажи ка и ты ему учтивость.
Неонила. (Делает реверанс.)Ваше воспитание, сударь, и ваши манеры заставляют меня много удивляться.
Алексис (так же кланяясь).Столь же и меня, но в сильнейшей степени гораздо.
(Во время этих поклонов Максим Борисович дергает за рукав Федосью Ивановну и оба они на цыпочках выходят.)
Неонила.Опять шкипидаром намазались. Всякое чувство отшибить может дух гнусный.
Алексис.Так ведь не я же, а мамаша на ночь меня натирает.
Неонила.Чего ее боитесь-то.
Алексис.Мамаша, как змей[,] шипит, боязно и противно.
Неонила.Я вам, Алексис, прямо говорю, – бросьте всякую на меня надежду. Не для вас.
Алексис.Для кого же
(Толстой 1912?: Л. 1–2).
«Венцом» этого периода стала уже упоминавшаяся одноактная комедия в духе XVIII или начала XIX века – «Нечаянная удача», весьма близкая по тону данному фрагменту, – так что и он, возможно, тоже относится к 1911 году, а не к более позднему времени. Тут и неопределенно-архаичная крепостная усадьба, и маскарад с квипрокво, и идиллические мужички, однако с чувством достоинства, и хозяин-самодур вроде персонажей «Заволжья», и нежная героиня, распевающая стильные, сложно зарифмованные романсы, и поющий князь-рамолик. В припадке матримониальной ностальгии он поет текст Пигасия из [«Отцов-пустынников»], посвященный девицам:
Как бабочки в саду
Они уж разлетелись
По веточкам уселись
Которую найду…
«Бродячая собака»
Знаменитый литературно-артистический кабачок «Бродячая собака» в обратной перспективе приобрел масштабы самого престижного и самого магнетически влекущего проекта т. н. Серебряного века. «Бродячая собака» отражена в воспоминаниях В. Пяста, Г. Иванова, Н. Петрова, С. Судейкина. А. Мгеброва и др., в книге «Казароза» (Л., 1930), в прозе М. Кузмина, А. Н. Толстого, Б. Лившица, в стихах А. Ахматовой (Тихвинская 1995 passim). Роль, которую сыграл Алексей Толстой при основании знаменитого артистического кабаре, подробно рассматривалась исследователями (Парнис, Тименчик 1985).
«Общество интимного театра» основали А. А. Мгебров, Н. Н. Евреинов, Б. К. Пронин, Ф. Ф. Комиссаржевский и Алексей Толстой. Правда, у Мгеброва в воспоминаниях Толстой вовсе не упоминается, Пронин считал, что «Собаку» придумал всецело он, Евреинов тоже ни слова не пишет о Толстом. Однако тогдашняя периодика, освещая ранний период существования «Бродячей собаки», называет Толстого ее учредителем. Журнал «Черное и белое» с энтузиазмом отразил открытие артистического кабаре, привел целиком знаменитый гимн, написанный Кузминым, и подробно описал местоположение и точный адрес «Собаки» («Черное и белое», 1912. № 1: 13):
И, пропев этот гимн, артист устремляется, словно подхваченный вьюгой, на Михайловскую площадь в дом № 5. Там на заднем дворе он по скользким ступенькам сходит вниз, в неприглядный с виду подвал, где на дверях предупредительно начертано бесхитростное слово «Тут».
28 января журнал «Огонек» сообщал: «Вновь открыто кабаре “Бродячей собаки” в Петербурге». В статье говорилось: «Недостаток помещения, с одной стороны, и неудачный выбор распорядителя, с другой – лишают пока “Бродячую собаку” того колорита литературности и артистичности, который могло бы иметь это интересно задуманное талантливым молодым писателем гр. А. Н. Толстым собрание». Из приведенного там же рисунка, подписанного «Рисовал с натуры художник журнала “Огонек” С. Животовский», выясняется суть проблемы. Изображен зал, на первом плане – группа «фармацевтов» и усатая певица армянского вида, на вид слабо связанная с проектом экспериментального искусства. В глубине рядом с Кузминым – Толстой, одетый швейцаром, не пускает офицера и буржуя («Огонек», 1912, 28 января: 12–13).
В феврале тот же журнал «Черное и белое» повествовал о произошедшем в «Бродячей собаке» конфликте туманно и неопределенно:
Уличной пошлости все равно[,] о какой предмет чесать язык. Но чаще всего она выбирает то, что действительно художественно и уже по этической сущности своей скромно и избегает защищаться. В таких случаях пошлость одевает колпак ходячей морали и маску благородства и начинает сыск о безнравственных действиях, вредном влиянии на устои, декадентстве и т. д. <…> На днях в одной газете появилась заметка, автор которой очень отрицательно рисует характер кабаре “Бродячая собака”. <…> В “Бродячей собаке”[,] право же[,]нет ничего, что нарушало бы понятия о нравственности и вообще было бы предосудительно. Вино пьют и в строжайших семейных домах; если же кто склонен выпить лишнее – то ведь “Бродячая собака” не исправительное учреждение и не имеет никакой возможности регулировать наклонности гостей. Просто люди художественных профессий хотят иногда провести вечер в тесном кругу без вторжения любопытного, часто предубежденно глазеющего хамства. Поэтому руководители “Бродячей собаки” и затруднили доступ в кабаре широкой публике, чтоб иметь возможность подбирать таких участников каждого вечера, которые чувствовали бы себя в своем кругу и не стеснялись веселиться. – Желающие попасть должны накануне подать заявление об этом [,] и совет кабаре, рассмотрев заявление и найдя подателя для данного собрания подходящим, посылает ему повестку. Что тут плохого? Места в подвале очень мало [,]и фактически доступ для большой публики невозможен. Хотя задачи и характер «Бродячей собаки» как будто несколько уклонились и один из главных учредителей гр. Алексей Н. Толстой даже ушел оттуда и сответственно со всем этим переменилась отчасти и публика, – все же в «Бродячей собаке» нет ничего, что может вызвать нападки даже строго требовательных моралистов. Единственным критерием должно служить, – скучно или весело. Весело, к сожалению, бывает не всегда («Черное и белое», 1912, № 2: 13).
«Новая воскресная вечерняя газета» писала об отказе Толстого участвовать в «Бродячей собаке» 4 марта 1912 года. Надо понять так, что Толстой решительно боролся с наплывом неподходящей публики, и порядок допуска в кабаре в результате был изменен, однако при этом то ли он с чем-то не согласился, то ли с ним не согласились – но он ушел из учредителей «Бродячей собаки». Автор заметки в петербургском журнальчике в этом неизвестном нам конфликте был всей душой на его стороне, а не на стороне «несколько уклонившихся» остальных.
Виталий Рыженков в обстоятельной сетевой статье (Рыженков) рассмотревший вопрос допуска в «Собаку» как основной, несогласие по которому привело к крушению всего проекта, пишет, что учредители противопоставляли людей искусства т. н. «фармацевтам», расширяя смысл первоначальной формулы, которую на первом заседании лансировал Сапунов: «Наглухо не пускать фармацевтов и дрогистов!» (аптекарей). Традиционно считается, что этот термин означал потребителей искусства, буржуазию средней руки – зубных врачей, присяжных поверенных и т. п. Сюда же входил «второй сорт» людей искусства и несколько популярных журналистов (Шульц и Склярский: 44). Участники «Бродячей собаки» свидетельствовали: попустительствовал «фармацевтам» сам Пронин, что и вызвало развал правления через полтора года после открытия (Петров 1960: 147).
Это новое словцо «фармацевт» в неком особом значении, том самом, которое было понятным петербургской литературно-художественной молодежи, кругу «Бродячей собаки» и т. п., сегодня стало совершенно непонятным даже специалистам по славистике (в 2010 году десятки славистов судили и рядили в сетевом форуме, что это слово означало, – без малейшего понятия). Насколько нам известно, термин этот запущен был в «Одесских новостях» Корнеем Чуковским еще в 1903 году, в ходе газетной полемики, предшествующей приглашению в Одессу Акима Волынского; означал он людей, в искусстве не разбирающихся, но предъявляющих к нему «направленческие» требования.
В фельетоне Чуковского «Взгляд и нечто» оппонентом симпатичного среднеарифметического русского интеллигента выступает «человек фармацевтического вида», который выпаливает по поводу Волынского все навязшие в зубах обвинения в антиобщественном звучании работ критика. Русский интеллигент с удивлением смотрит на фармацевта, понимая, что разговаривать с ним бесполезно. Рассказчик в фельетоне Чуковского подытоживает этот эпизод следующим образом:
О, фармацевты земли русской! Сколько вас? Зачем вас так много? Зачем водворяете вы рецепты не в аптеках только? Зачем суете их и в науку, и в искусство, и в жизнь? Как спастись от вас, куда уйти? (Чуковский 1903).
Так начинается жизнь этого социально-культурного термина с явным пренебрежительным националистическим призвуком: это узкообразованный или полуобразованный персонаж, очевидно, еврей, узколобый, глухой к искусству, но чувствующий себя вправе судить искусство в зависимости от его общественной полезности. Его аналог в женском роде – акушерка. В описываемое время, очевидно, «направленчество» меньше раздражало наших героев, чем буржуазная бескультурность. После революции, однако, когда русское искусство и литература подпали под идеологический диктат, слова эти стали означать комиссара и комиссаршу, ничего или очень мало понимающих в искусстве, но дающих художникам указания. Так, Чуковский называет «акушеркой» З. Лилину [106]106
Лилина Злата Ионовна (Радомысльская Зинаида Евновна, 1882–1929) – видная большевичка, после революции занимала руководящие должности в системе «соцвоса» и Наркомпроса. С 1926 г. в опале, однако успела поспособствовать изданию «Республики ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева.
[Закрыть], жену всесильного Зиновьева, возглавляющую ТЕО (театральный отдел) Наркомпроса, ср.: «10 апреля 1920. Меня вызвали повесткой в “Комиссариат Просвещения”. <…> Кругом немолодые еврейки акушерского вида с портфелями. <…> Особенно горячо говорила одна акушерка – повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева» (Чуковский 1991-1: 144).
В особенности подробно описывал участие Толстого в «Бродячей собаке» Николай Петров, он же Коля Петер, знакомый с Толстым со времен «Дома интермедий». Николай Васильевич Петров (1890–1964) с 1910 года служил режиссером в Александринском театре, а одновременно под псевдонимом Коля Петер выступал в «Доме интермедий» с песенками и куплетами. Был одним из создателей «Бродячей собаки», а впоследствии и «Привала комедиантов». В ранние 1920-е Петров много сил посвятил кабаре, работал с Н. Евреиновым [107]107
В 1928–1933 гг. Петров был директором и художественным руководителем того же театра (ныне называвшегося Академический Театр драмы им. Пушкина), в котором начал свою режиссерскую работу, потом работал в Харькове, затем в московских театрах.
[Закрыть]. В мемуарной книге «50 и 500» (1960) он подчеркнул первостепенную роль Алексея Толстого в организации «Бродячей собаки»:
Алексей Николаевич принимал самое деятельное участие, а вернее сказать, был творческой душой этого нарождающегося начинания <…> У него на квартире проводились организационные собрания, он написал пьесу для открытия подвала, которая, впрочем, несмотря на срепетированность, не пошла. Он принимал участие в сочинении и редактировал будущий устав, согласно которому должно было существовать «это общество художников интимного театра», а также взял на себя утверждение у градоначальника этого устава. Первый пункт устава был сочинен Толстым. Никому ни за что не выплачивается никакого гонорара. Все работают бесплатно. Мрачный, с тяжелым юмором Сапунов, европейски вежливый, с тончайшей иронией Добужинский, умный и деловой Чиж Подгорный, пламенный энтузиаст Борис Пронин, и вмещающий в себя все богатство и многообразие облика русского человека озорник, жизнелюб Алексей Толстой – такова инициативная группа этого общества, душой которого был Алексей Николаевич (Петров 1960: 293–294).
Оказывается, именно Толстой придумал название «Бродячая Собака»: «Мы были уверены, что помещаться наш клуб должен обязательно в подвале. И только Борис Пронин был против подвала, утверждая, что не в землю должны мы зарываться, а стремиться ввысь, и поэтому искать нужно мансарду или чердак» (Там же: 293). С. С. Шульц указывает на то, что помещение для задуманного клуба Пронин искал долго и наконец выбрал винный подвал в том самом доме Дашкова, где жил он сам (Шульц и Склярский: 45). Не менее важным был вопрос и о названии для будущего клуба «Общества интимного театра». С. Судейкин, один из основателей и художников, расписавших стены кабаре, в своих воспоминаниях особо заострил внимание на появлении названия и первом знакомстве с помещением: «Пронин встретил меня и сейчас же повел в подвал, на Михайловскую, № 5. Чудный, сухой подвал настоящей архитектуры старых городов. Подвал был сводчатый, делился на четыре комнаты и выкрашен был в белый цвет. Он был невелик и мог вместить около двухсот человек. “Здесь будет наш театр, – сказал Борис. – Тут ты напишешь венок Сапунову, здесь он сидел бы, а тут – Сацу” [108]108
Сапунов утонул летом 1912 г., а замечательный театральный композитор Илья Александрович Сац умер в октябре 1912 г. Судейкин «вспоминает» этот диалог, думая ошибочно, что речь идет о конце 1912 г., а не о конце 1911-го, как это было в реальности.
[Закрыть]. <…> Стало тяжело на душе, и мы молча вышли на Невский, направляясь к Гостиному двору. По дороге попался бродяга, продававший лохматого, бесцветного щенка. “Какая прелесть, – сказал Пронин. – Бродячий щенок, нет, будущая ‘бродячая собака’. Купи его, это название для нашего подвала”. За два серебряных рубля я купил “бродячую собаку”» (Судейкин 1984: 189–190).
Обстоятельный рассказ С. Судейкина, как мы видим, во многом апокрифический. Н. Петров иначе вспоминал о появлении такого оригинального названия: «В один из дней, когда мы в поисках свободного подвала из одной подворотни заглядывали в другую, А. Н. Толстой неожиданно сказал: А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта? – Вы нашли название нашей затее, – воскликнул Н. Н. Евреинов. – Пусть этот подвал называется “Бродячая собака”! Название всем очень понравилось, и все поздравляли Толстого» (Петров: 142–143).
Двойные варианты объяснения происхождения легендарных героев и институций предусматриваются классическим механизмом легенды, всегда имеющей в запасе более чем одно объяснение. Как бы то ни было, Петров детально изображает перипетии кристаллизации идеи, и участие в ней Толстого выглядит несомненным: «Брать денег у “Собаки” мы не будем, но давать мы ей можем, это же не возбраняется уставом – заявил Толстой и тут же внес 25 рублей на текущие расходы» (Там же: 143). Именно Толстой придумал первый пункт устава «Общества»: «Все члены общества работают бесплатно на благо общества. Ни один член общества не имеет права получать ни одной копейки за свою работу из средств общества» (Там же).
Утверждение Н. Петрова, что новый замысел изначально связан был с домом Толстых, подтверждается воспоминаниями Софьи; в них объясняется хитроумный механизм «запуска» «Бродячей собаки»:
Журфиксы, происходящие у большинства писателей, недостаточны были для широкого общения деятелей литературы и искусств. На одной из «сред» у нас решили организовать клуб. Как все начинания того времени, клуб должен был быть, во чтобы то ни стало, изобретательным и оригинальным. Собрали между <собою> присутствующими небольшую сумму денег на «начало». Суммы хватило только на съемку сухого подвала в доме на углу Михайловской площади (ул. Бродского). По времени происходило это начинание в декабре 1908 г. (На самом деле – в декабре 1911 года: у Софьи сюда впуталось первое воспоминание о знакомстве с Мейерхольдом и о начале «Лукоморья». – Е.Т.) Решили устроить в подвале костюмированный вечер с буфетом. Подвал состоял из нескольких комнат без окон и дверей. Вход был со двора низкий с тяжелой дверью и тремя ступеньками вниз. Художники бесплатно разрисовали стены[,] и был взят в долг – напрокат – рояль. Кроме того, было взято в долг все, что требовалось <для такого случая> для платного буфета, в особенности было изобилие шампанского. Были разосланы многочисленные приглашения, написанные от руки, на костюмированный вечер в подвал «Бродячая собака», и в результате явилась шикарная публика, которая очень скоро опустошила буфет. Произошло то, что нужно было устроителям – сколотить новую сумму денег для дальнейшего существования «Бродячей собаки». Пока шли всевозможные литературные, музыкальные, сценические импровизации: за буфетом в маленькой комнате стояла очередь представителей магазинов, с которыми, по мере поступления денег, тут же и расплачивались. Первой доходной статьей был у нас буфет, потом пошли платные концерты, спектакли, литературные выступления и т. д. Мебель состояла из наскоро сколоченных столов и скамеек и тоже наскоро сколоченная самая примитивная сцена. Я помню режиссера Николая Петрова, тогда совсем еще жизнерадостный юноша, исполняющий тут же сочиненные песенки, Хлебникова, мрачно сидящего за столиком в углу, углубленного в проблемы вселенной, Маяковского – завсегдатая, грузного, вечно юного, бичующего, остроумного и неутомимого <в литературных выступлениях> во всех затеях «Бродячей собаки». Незабываема декламация Маяковского. Если многим тогда <жаловались> был Маяковский непонятен в чтении, то в декламации своих стихов Маяковский был настолько ясен и четок, что иногда казалось, что он с публикой разговаривает, ясно и четко ей рассказывая. Я помню, как Маяковский раз привел в «Бродячую собаку» Алексея Максимовича Горького. Я сидела напротив входных дверей. Я помню, как в квадрате низкого входа показалась согнутая фигура Горького с его вечно молодыми глазами, смеющегося его особой солнечной улыбкой, и за ним сияющий Маяковский, который весь вечер не отходил от Горького, ухаживая и прислушиваясь к нему[,] как сын к отцу. «Бродячая собака» в Петербурге утвердилась как первый клуб работников искусств. Выдвинулся и руководитель клуба – Пронин-режиссер. В 1912 году мы с Алексеем Николаевичем переехали в Москву. Знаю, что в дальнейшем «Бродячая собака» переехала в хорошее помещение и превратилась в фешенебельный ресторан с снобическим уклоном. Вся прелесть интимности и изобретательности нашего начинания, конечно, в 2-й «Бродячей собаке» была потеряна [109]109
В другой тетради Софья еще раз рассказывает ту же историю, но с некоторыми лексическими отличиями: «На одном из наших журфиксов был обсужден вопрос об организации какого-то нейтрального места, где бы работники литературы и искусства могли бы встречаться. Короче говоря, об организации интимного своего клуба. Надвигался 1911 год, его канун. Было решено, что в этот вечер и будет организован клуб. Долго спорили о названии клуба и решили, что он должен быть назван „Бродячей собакой“ как символом безденежья и бездомности большинства людей искусства – туда будут ходить, когда идти будет некуда, и в кармане будет туго. Встал вопрос о самом тяжелом – о денежных средствах. Денег, конечно, ни у кого не оказалось. Решили организовать все это предприятие в долг.
На левом углу Михайловской улицы и Михайловской площади сняли в долг сухой подвал с земляным полом. Стены в спешном порядке были расписаны художниками, членами клуба. Кое-как были сколочены столы и скамейки. Вход был со двора, и чтобы попасть в подвал, надо было, наклонив голову, спуститься по нескольким ступенькам вниз. Была наскоро сколочена небольшая сцена.
Как я уже писала, открытие было приурочено к кануну Нового года. Решили устроить сногсшибательный маскарад с буфетом. Содержимое буфета тоже взяли в долг. Съехалась масса гостей, которые в деньгах не нуждались, и буфет вскоре был очищен. Получилась такая картина: в соседней комнатке с буфетом набились все те, у которых взято было в долг. Расплата с заимодавцами шла по мере продажи в буфете и впускных билетов. На эстраде шел концерт, организованный из экспромтов членов „Бродячей собаки“. Открытие дало возможность расплатиться с кредиторами, и еще осталось на настил деревянного пола.
Выступления писателей были почти ежедневными. Помню частые выступления Маяковского, который имел в „Бродячей собаке“ благодарную аудиторию. Помню Хлебникова, мрачно сидящего в углу, парящего в облаках председательства мира. Однажды пришел Маяковский с Максимом Горьким. Помню его согбенную гигантскую фигуру и его искрящиеся улыбкой глаза, когда он спускался в подвал. Его, конечно, сразу окружили писатели, а Маяковский не отрывал от него влюбленных глаз.
Как и везде, так и в „Бродячей собаке“ Алексей Николаевич был неизменно веселый собеседник, инициатор всяких затей, человек, влюбленный в жизнь, в радость жизни. Когда же мы возвращались домой, он всегда делался сосредоточенным, задумчивым, ушедшим в себя и, возвращаясь домой, неизменно делал заметки в своей записной книжке» (Дымшиц-Толстая рук. 3: 3–4).
[Закрыть](Дымшиц-Толстая рук. 2: 1–5).
Горький вернулся в Россию в 1913 году, когда трехсотлетие дома Романовых было отмечено политической амнистией, а познакомился с Маяковским в августе 1914 года, когда поэт с его помощью пытался избавиться от призыва; побывать вместе в «Собаке» они могли между августом 1914-го и мартом 1915-го, когда «Собака» была закрыта полицией за карточную игру. Софья, разошедшись с Толстым летом – осенью 1914 года, стала чаще бывать в Петрограде у родителей и, по всей вероятности, видела этот эпизод в один из приездов.