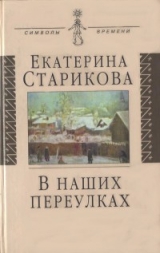
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Так же точно с ходу, без замедления оказалась наша мама летом 1932 года в центре волковской жизни, гораздо быстрее и проще, чем, увы, получалось это у нашего отца. Она завоевывала симпатии прежде всего с позиций просветительских. Рассказывала молодежи о Москве, сочувственно поддакивала сетованиям мужиков на новые порядки, учила Анну Федоровну новым для той городским блюдам сверх каждодневных щей, похлебки и каши: летом в деревне мяса не ели, разве что к большому празднику зарежут курицу и сварят лапшу.
С приездом мамы быстро восстановились наши связи с Ландехом, прерванные было на время страды. Мама ходила в гости к Колобовым, в Ушево, к акушерке Ольге Дмитриевне – приятельнице бабушки Марьи Федоровны. После жизни полевой, замкнутой в своих неотложных заботах, отгороженной от села зубчатой стеной леса, мы снова оказались причастными к миру более высокой цивилизации с ее сверхутилитарными интересами – хотя и в пределах одного Нижнего Ландеха. Но важны ведь не масштабы, а принцип.
По воскресеньям, когда медный гул ландехского соборного колокола доносился из-за леса до нашей избы, Макар Антонович, Анна Федоровна, Саня и Павел, непривычно принаряженные и чинные, шли в церковь. Иногда за ними заходила по дороге из дальней деревни старшая и замужняя дочь Одуваловых Клавдия. Она мне казалась немолодой женщиной, хотя вряд ли ей было больше тридцати, но очень уж она была замучена постоянным трудом. Мы с Алешей стояли у ворот и смотрели, как удаляются в сторону ландехского леса бабушкина большая, чуть ли ни до земли, темная шаль, черная кружевная косынка Клавдии и картуз дедушки Макара, принаряженного в синий парадный пиджак. Следом за старшими спеша догоняли их розовый газовый шарф Сани и блестящая сатиновая косоворотка Павлушки. Форма праздничной одежды в деревне была строго регламентирована возрастом и семейным положением.
Папа, видимо, не разрешал водить нас в церковь, и до приезда мамы этот запрет действовал. Но вот приехала мама, и все переменилось: мы стали полноправными участниками воскресных торжеств. Правда, я не помню, чтобы мы отстаивали молебны, но помню лесную дорогу, общую со всеми отправляющимися в церковь, чинную толкотню на паперти собора, помню поразивший меня обычай волковских девушек идти в церковь босиком, неся через плечо новенькие туфли, и лишь перед входом в церковь обувать их.
Но особенно памятны мне два августовских посещения Ландехских церквей.
Одно из них было в годовщину смерти бабушки Марьи Федоровны. Мы шли лесом и селом все вместе – и старые, и малые. В маленькой кладбищенской церкви долго служили панихиду, и нам было велено ее отстоять. Потом нас, детей, причащали, и Алеша три раза становился «в очередь» за ложечкой сладкого вина, пока батюшка не сделал ему замечание к стыду мамы, не заметившей шустрости пятилетнего сластены. Чинно и спокойно мы подошли к бабушкиной могиле, обложенной свежим дерном. Женщины деловито положили в сторону какие-то узелки. И вдруг они втроем – Анна Федоровна, Клавдия и Саня – бросились ничком на могилу, распластавшись по земле, и страшными, пронзительными голосами закричали, запричитали, зарыдали: «Да на кого ты нас, сирот, оставила, зачем покинула – сестрица, тетенька, бабушка…» Этот плач-импровизация, где каждая из плакальщиц щеголяла одна перед другой изобретательностью в выражениях скорби и любви, продолжался долго, пока женщины вконец не обессилели. Но вот сначала замолкла, замерла и поднялась Анна Федоровна, потом – Клавдия, за ней – Саня. Деловито развязали узелки, вынули из них яйца, хлеб, огурцы, миску с кутьей и пригласили нас, испуганно стоявших вокруг могилы, помянуть бабушку и свекровь, нашу дорогую покойницу. Переход от неистовых рыданий к хлопотливой заботливости был неожиданен и отраден, как чудесный возврат к жизни. Мы с удовольствием закусили, с недоумением вспоминая только что разыгранную перед нами сцену. Разыгранную? Безусловно! Но можно ли сомневаться в искренности скорби и любви хотя бы Анны Федоровны, обожавшей старшую сестру? Древний обычай вводил в строгие рамки стихию эмоций, и давая им выход, и ограничивая во времени их власть над обыденным исполнением жизненного долга. Так думаю я сейчас, ярко видя перед глазами всю эту сцену на зеленом сельском кладбище и в то же время вспоминая ее так, словно она была и не при мне, а в какой-то иной жизни. Да и то сказать, много лет прошло.
Другой поход в Ландех был тщательно подготовлен. Ему предшествовали долгие разговоры, вздохи, опасения, пересуды. Собственно говоря, подготовка к нему началась в одуваловском доме с самого нашего приезда, когда там только увидели слабенькую Лёлю, только услышали, как много она успела переболеть за свои два с половиной года, и узнали, что она одна из стариковских детей осталась некрещеной. Анна Федоровна скорбно вздыхала, глядя на девочку, предсказывая ей тяжкую судьбу из-за нерадивости родителей. Папа стойко не обращал внимания на эти вздохи. Потом жали и убирали хлеб, не до того было. Но вот приехала мама, и тут дело пошло на лад: она быстро дала себя уговорить, что ребенка надо срочно окрестить, хотя бы из соображений ее благополучия и здоровья, если уж в Москве вовсе иссякли христианские чувства и забыты самые святые обычаи. Маме такой декоративный спектакль с оттенком оппозиционности был по вкусу. Говорю об этом без всякого осуждения, лишь, может быть, с улыбкой, потому что, честное слово, чувствовала и тогда разницу в истовом отношении к готовящемуся событию со стороны волковских родственников и маминым веселым ожиданием. Они священнодействовали, она развлекалась экзотикой ситуации. Да простит мне эту детскую зоркость моя мать: не став актрисой, она всегда оставалась натурой прежде всего артистической.
В 1932 году нового креста не достать было никакими усилиями. Решено было, что новообращенной отдаст свой крест ее будущий крестный отец, ее двоюродный дядюшка Павел Одувалов. Мне тогда показалось, что семнадцатилетний Павлушка с радостью согласился на такую жертву: ни при каком другом условии отец не разрешил бы ему снять с шеи крест. Но вот его крест на новом шнурке – большой, темный, медный, не золотой дворянский, как были у нас с Алешей, этот в торгсин не снесешь. Готова и крестильная рубашечка с прошивками и крестильная простыня с кружевами – их приготовила Саня. Договорились с ландехским батюшкой, назначен день.
Мы принаряжены, причесаны, обуты. Непривычно тесно в туфлях ногам: они два месяца уже топают по полям и лесам, по дорогам и тропинкам без обуви. На Алеше – белая рубашечка с маленькими якорьками, на Лёле – платьице из той же материи. Выбора в мануфактуре нет, шьют из того, что удалось добыть, а ткани выпускают чаще всего с производственной тематикой: трактора, фабричные трубы. Мама радуется: якоря – более пристойно, да и не очень они заметны. Мы с Алешей берем Лёлю с двух сторон за руки и весело бежим по лесной, плотно утоптанной тропе. За нами – «крестные», Павел и Саня, за ними – Макар Антонович и Анна Федоровна. Мама, как и положено, остается дома.
Крестить Лёлю будут в соборе. Он виден уже с середины нашей дороги: вдруг еле заметный ее поворот и в далекой лесной перспективе появляется белый куб с пятью симметричными главами, а рядом высокая коническая колокольня. И теперь всю оставшуюся дорогу собор будет перед нашими глазами, постепенно вырастая и вырастая в размерах. Вот уже блеснули его высокие узкие окна в три этажа, вот уже можно рассмотреть и колоннаду его фронтона.
Ландехский собор построен в конце XVIII века и сочетает в себе элементы и древних владимирских построек, и типично классические элементы – колонны, виньетки. Он громаден по сравнению с окружающими деревянными домами. Кто, на какие средства отгрохал в лесной глуши такое мощное сооружение? Увы, память об этом не сохранилась, как ни расспрашивала я потом: все стерто, все забыто, все кануло в Лету. Только вопреки очевидным фактам в народе считают почему-то, что поставлен собор Дмитрием Пожарским в честь победы над поляками. Вот так вот: ландехских грамотеев нисколько не смущают даты на мемориальной доске, укрепленной когда-то на нем: 90-е годы XVIII века. Но, может, стояла на этом месте церковь, построенная и впрямь в честь исторического события? А когда она обветшала, построили на ее месте собор? Папа давно уже обратил мое внимание на великолепие деревянного резного иконостаса четырехметровой высоты – это гордость Нижнего Ландеха, работа его собственных мастеров. «Вот как в старину у нас умели!» – приговаривал папа. В это будничное утро собор пуст и можно хорошо рассмотреть и затейливую золоченую резьбу, и множество икон, и церковную утварь.
Пока я рассматриваю непривычное пустое помещение церкви, в нее вносят купель – красивую чашу на подставке, украшенную накладным серебром и медальонами с изображениями святых. Павел несет ведро горячей воды и тщательно смешивает ее в купели с холодной: мама строго велела проследить за температурой воды и жалела, что не привезли с собой для этого случая градусника для ванной. «Это я буду купаться в такой хорошенькой ванночке?» – звонко разносится под куполом голос кротко молчавшей до сих пор Лёли. «Ты, маленькая, ты, мой ангел, кто же еще?» – взволнованно шепчет Анна Федоровна. Собравшиеся у входа посторонние старухи вытирают глаза кончиками своих головных платков. Лёлю раздевают и сажают в купель по грудь в воду действительно, как в детскую ванну. Священник читает молитву. «Ах, какая теплая водичка!» – радуется Лёля и хлопает ладошками по воде. «Не брызгай, не брызгай», – тихо внушает ей Саня. Но вот новообращенная, завернутая в нарядную простынку, уже на руках у крестной, чинно шествующей рядом с Павлом вокруг купели вслед за батюшкой: в поднятой руке у него распятие. «Заверните мне, пожалуйста, получше ножки, а то дует!» – снова слышится сквозь молитвы звонкий Лёлин голос. Старухи у входа плачут навзрыд: «Ангел, ну чистый ангел!» – «Видишь, большевики в Москве крестить детей не разрешают, вот внучку покойницы Марьи Федоровны к нам крестить привезли». – «Слава Богу, слава Богу, виданное ли дело: ребенок вон как уже говорит, а некрещеный».
Простой и веселый обряд закончен. Мы снова бежим по лесной дороге обратно в Волково, обсуждая все обстоятельства необычного Лёлиного «купания». Все довольны. Только папа в Москве, услышав наш рассказ об этом событии, молча покачает головой. Но он уже привык, что все в этом доме делается не по его воле.
6
Тем временем в избе по вечерам стали зажигать висящую над столом керосиновую лампу. Часто моросит дождь, и утром жар печи стал казаться уютным. Не так манит улица, и все дольше хочется посидеть на широкой гладкой лавке у запотелого окошка, глядя, как бабушка возится со своими ухватами, горшками и крынками.
С приездом мамы в Волково я вынуждена вспомнить, что я школьница, что осенью пойду уже не в нулевой, а в первый класс. Мама не поленилась привезти с собой в деревню новенький клеенчатый портфель для меня – это и подарок, и напоминание. Мама догадывается, что я за лето не видела ни одной книги, и быстро кладет конец моей воле. Мама еще не стала учительницей, но педагогическая жилка у нее в крови. Она не только заставляет теперь меня читать и писать, но еще и собирает со мной вместе гербарий: за длинное лето я забыла и это задание. Большинство трав давно отцвели, и мы ходим с мамой по мокрому и глухому лесу в поисках разных образцов мха. Здесь его великое разнообразие – от ярко-зеленого до серебристо-голубоватого, от тонких высоких ниточек до плоско стелющихся по земле ветвей. Босая нога то утопает в мягких моховых подушках, то скользит по сосновым корневищам, покрытым седым лишайником. И еще мы с мамой рвем вереск. Это уже признак, что мы скоро уезжаем. Мы всегда увозили из Ландеха в Москву вереск, его букет всю зиму стоял на нашем дворянском секретере. Повезем с собой вереск мы и в этот раз. Только не знаем, что в последний. И поедем мы по-старому, как когда-то, прямо в Вязники на лошади. Макару Антоновичу удалось выпросить в колхозе лошадь на целых двое суток – туда сутки и обратно сутки, два раза по семьдесят верст болотом и бором. Все как когда-то, только с нами уедет в Москву и Саня.
Я не слышала, как сговорились взрослые об ее отъезде. Я с восторгом слышу только окончательное решение: Саня едет с нами. То ли на зиму, то ли навсегда? Как Бог даст! Фрося выходит замуж и уходит от нас. Вот Саня и займет пока ее место, будет оставаться с нами, пока мама на работе, помогать ей по хозяйству. Анна Федоровна плачет. Макар хмурится и сердито ворчит: «Ну, и здесь теперь ей делать нечего. Что здесь-то высидит?» Саня волнуется, она никогда не была еще в городе, но она, как всегда, смела и решительна.
И вот снова лошадь у наших ворот, снова приторачиваются к телеге плетеная корзина с замочком, папин рыжий фибровый чемодан и в придачу Санин сундучок. Снова кладется на телегу сено, стелются сверху одеяла, кладутся подушки, и мы, дети, забираемся в это теплое гнездо. Мама, Саня и Фрося пойдут пешком с телегой рядом, подсаживаясь на нее по очереди отдохнуть. Макар вскакивает на телегу, берет в руки вожжи: «Ну, с Богом!» Рыдает и крестит нас Анна Федоровна. Мы уезжаем из Волкова. В последний раз будут глядеть на нас троих вместе холодные августовские звезды сквозь верхушки вековых боровых сосен, последний раз блеснет на рассвете серым блеском таинственное озеро Кщары с пустым и заколоченным на его берегу постоялым двором, последний раз мы проедем этим долгим лесным путем. Больше уже не станут так ездить в Ландех, старые пути закроются, зарастут, станут недоступными без лошадей, другие пути пролягут, другие люди будут бойко шнырять по ним на грузовиках, автобусах и попутных легковичках. Но мы ничего этого не знаем. Мы просто едем вековым бором, как ездили с самого рождения. Скрипит телега, фыркают лошади, щелкает Макаров кнут, мама подбадривает уставших девушек. Мы едем в Москву, едем домой, к примусам нашей шумной квартиры, к нелюбимой школе, к папе.
С Курского вокзала на трамвае по чистенькой, только что политой, еще совсем летней Москве мы приехали домой так рано, что застали отца еще дома. Среди неожиданно свежевыбеленных, громадно-пустынных стен нашей комнаты со следами только что оконченного самодельного ремонта, уничтожившего, видимо с гигиеническими целями, истоминские, «кабинетные» темно-зеленые обои, папа сидел в белоснежной рубашке, выбритый, элегантно, как принц, закинув ногу на ногу, и пил чай в прикуску с куском белого хлеба, держа тонкий стакан в своей большой суховатой руке. Это был его обычный завтрак. И с того утра последнего дня августа 1932 года вид тонкого стакана на блюдечке со свежезаваренным, но не очень крепким, желтеньким чаем, кусочки мелко наколотого твердого сахара и ломоть белого хлеба остались для меня знаком отцовского одиночества, его аскетических привычек, его верности обычаям «владимирских водохлебов».
1975 г.
ТРИ ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ В ВОЛКОВО
Так оборвала я записки о своем отце в 1975 году, почувствовав, что отклонилась от «темы». Я слишком затянула рассказ о нашем волковском лете тридцать второго года, да и слишком идиллическими оказались мои воспоминания по сравнению с тем, что я знаю о деревенской драме той эпохи. Но была я мала, чтобы понять ее смысл, да и унижения Макара Антоновича прошли не на моих глазах, а раньше. Помню какие-то бурные, если не сказать истеричные деревенские сходки, пугавшие меня, помню запертые ландехские лавки (их было когда-то в селе две), помню заколоченный каменный дом куда-то сгинувшего лавочника Белова. Но к своим восьми годам я и в Москве уже привыкла, что вокруг многое рушится, круто меняется уклад жизни, а люди внезапно исчезают. И летом 1932 года наслаждалась тем, что мне казалось прочным. Ландехский дом, правда, стал чужим, а вот волковский, куда мы раньше только хаживали в гости, превратился в родной. Таково было мое тогдашнее ощущение деревенской жизни, а сочинять и обобщать здесь я не хотела и не хочу. Что видела, то видела. Это были осколки того ландехского мира, который любил наш отец. Вот почему после двух десятилетий перерыва я все-таки решила записать именно в воспоминаниях об отце и впечатления о наших последних поездках на его родину.
Еще три раза за свою жизнь я побываю в Волкове – в 1941, 1945 и в 1975 годах, два раза с отцом, и один, последний раз, с матерью. И каждое из этих путешествий отмечало критическую точку в судьбе – в общей или личной. Каждый раз туда – в Ландех, в Волково, на отцовскую родину тянула нас неудержимо какая-то внутренняя сила, надежда восстановить связь с чем-то важным, удостовериться, что она еще существует, что она не выдумана. И каждый раз другая сила, центробежная сила российской жизни, выбрасывала нас из ландехского мира с ощущением конца, невозможности соединить навсегда разъединившееся.
1
Поездку в августе-сентябре сорок первого года, нашу краткую «эвакуацию» из Москвы, наше бегство от немецких бомб я попыталась описать в рассказе «Чужие». В нем почти все факты сохранены, повторять мне их не хочется, только там для простоты не было упомянуто, что, кроме отца, Алеши и меня, в путешествии участвовали папина жена Анна Ивановна и ее дочь, двенадцатилетняя Галя. Кто-то из моих родственников читал этот рассказ и нашел его, как я поняла, «бледным». В свое оправдание могу сказать, что, кроме самой меры дарования и неопытности в беллетрических жанрах, была там и сознательная задача «бледности», блеклости. Как-то году в восьмидесятом я пришла из Дома кино, огорченная ничтожностью какого-то польского фильма, и вдруг вспомнила… Как через толщу воды увидела: перед окнами Одуваловых на зеленой траве крошечную белую часовенку, поставленную когда-то в честь мученика митрополита Филиппа, и перед ней три молящихся чужих солдата в конфедератках, один стоял на коленях, и девочку, пораженно смотрящую на них в окно… Я хотела в том давнем рассказе передать смутность воспоминания и свидетельствовать о бывшем. Свидетельствовать о встрече с пленными поляками из тех, кто при нашем разделе Польши с Гитлером были распиханы по разным лагерям. Тадеуш (имя подлинное) был выходцем из Южского лагеря. Но заголовок рассказа «Чужие» имел по замыслу двойной смысл: чужие в русской деревне – поляки, но чужими оказались и мы, горожане, москвичи, исторгнутые с родины отца не в силу враждебности к нам, а в силу объективных обстоятельств, разных укладов российской жизни: в том глухом краю для нас не нашлось ни работы, ни хлеба.
В моем рассказе не было впечатлений от нашего путешествия из Москвы в Волково и обратно, давшего нам при всей краткости и благополучном исходе остро ощутить свою брошенность в громаду и хаос страны, сдвинутой войной в неизвестность. Стоит упомянуть, что из Москвы мы уезжали в день, когда впервые стало официально известно о смыкающемся кольце немцев вокруг Ленинграда. Но еще драматичнее была историческая ситуация при нашем возвращении в Москву через месяц.
Как и предполагал Макар Антонович, я не смогла идти из Волкова в Южу в «прюнелевых», как тогда еще говорили, туфлях. И как только скрылся за поворотом дороги последний поклон бабушки Анны Федоровны, скинула туфли с ног. Так и отшагала босиком тридцать километров сначала по плотному утреннему инею, а потом по густой слякоти. Ноги ломило от холода, и я шла очень быстро, далеко обгоняя нагруженную лошадь, а потом возвращалась к ней назад. Время от времени, взглянув брезгливо на мои красные пальцы, Макар Антонович коротко бросал: «Влезай», указывая кнутовищем на телегу. Я засовывала ноги в сено, грелась и отдыхала, а затем, уже без всякого указания спрыгивала с телеги, уступая место кому-нибудь другому из шагавших с ней рядом, и снова почти бежала по лесной дороге между заполненными водой колеями. То и дело приходилось перешагивать громадные подберезовики. В ту осень их некому было собирать. Кончался лес, и тогда по обе стороны дороги молчали бесконечные болота. На всем пути мы не встретили ни одного человека.
В Юже Макар Антонович устроил нас в доме своего свойственника, свекра старшей дочери, а сам, напившись непременного чая из самовара, отбыл обратно в Волково. В этом крепком, бревенчатом доме, пропитанном масляной краской (хозяин был плотником, и краска ему, видимо, доставалась даром), мы прожили пять дней: никак не могли уехать. Надо было попасть все на тот же паровик узкоколейки, которая по-прежнему одна соединяла Южу с пристанью на Клязьме. Поезд ходил раз в сутки, но расписания у него не было. Четыре раза мы перетаскивали свои неподъемные тюки (ведь собирались переждать в деревне войну) из дома на станцию и обратно, каждый раз узнавая, что рабочий поезд или уже ушел, или сегодня его вообще не будет. В доме плотника нас щедро кормили пшенной кашей с льняным маслом, а на ночь бросали нам на чисто блестевший крашеный пол овчинные полушубки и подушки в качестве постели. Но в сорок первом году долго принимать гостеприимство было совестно. В очередной раз на станции мы прочно уселись на свою поклажу с твердым намерением с нее не вставать пока не уедем.
На всю жизнь в мою память врезалось одно незначительное впечатление того суточного южского сидения. Перед самым предрассветным прибытием долгожданного поезда на станции появились две женщины с девочкой – видимо, здешние, они-то знали, когда можно ждать поезда. Как заботливо эти женщины пристроили на единственное свободное место на лавке девочку! Она была почти моя ровесница, может, года на два моложе. Поверх пальто девочка была укутана пушистым пуховым платком, из-под которого весело и беспечно смотрели большие серые глаза, а на ее ногах, несмотря на то, что был только сентябрь, уже были надеты в дорогу аккуратные валеночки с калошами. Женщины то и дело что-то на ней поправляли и о чем-то ее спрашивали. Всю войну потом я вспоминала неведомую девочку. В моменты особенно острого голода и невыносимого холода я думала: а вот той девочке наверно сейчас тепло и сытно. И воображала, какая рассыпчатая картошка стоит на столе в ее прочном натопленном доме. А главное, валенки и платок, платок и валенки.
На пристани мы довольно быстро попали все на тот же «Робеспьер», бегающий по-прежнему по Клязьме. Выждали, когда выгрузят с него раненых – на костылях, с палками, на носилках, – и втащили свои тюки по трапу. Конечно, «Робеспьер» за девять лет пообтрепался и потускнел, и ни о каких каютах не могло быть и речи. Капитан, посмотрев на папу и нас, детей, тут же помог нам расположиться напротив трапа на медном листе, отделяющем машинное отделение от нижней палубы. По старой волжской традиции это считалось самым почетным и удобным местом для бескаютных пассажиров: там было тепло. Мы согрелись и задремали.
В Вязниках – снова нанятая телега, снова тюки, снова вокзал. Но там нас еще ждало пугающее известие. С завтрашнего дня, с 22 сентября, запрещается въезд в Москву без пропусков: немцы стремительно двигались на восток. Билетов в Москву уже не продавали. Только до Коврова. Мы доехали до Коврова. Снова вокзал, уже переполненный эвакуированными. Все стремятся из Москвы на восток. Одни мы – на запад. Тюки, мешки, чемоданы. В закутке, сооруженном из них, по полу ползают грудные дети. Билетов нет. Папины скулы вздулись, а рот сжался. «Ничего страшного, – утешала я его. – В Коврове – военные заводы. Мы с Алешей устраиваемся на завод, нам дают общежитие…» – «Ну что ты говоришь! Да и Алеше только четырнадцать», – устало перебивает меня папа. И уходит. И приходит через час с билетами до Владимира. Владимир – почти Москва, почти дом. Все успокаиваются.
Успокоились зря. Во Владимире билетов на запад вообще не продавали. Все. Мы отрезаны. Ехать некуда. Ночь и бессилие. Однако, местные жители советуют: идите на междугороднюю автобусную станцию, говорят, автобусы в Петушки еще ходят. Автобусная станция на противоположном от вокзала конце города. Папа уговаривает каких-то оборванцев перетащить туда самые большие наши тюки. Идем за оборванцами, сами тоже нагруженные, через город. Идем по крутой тропинке около самой кремлевской стены. Ноги шагают машинально, я полусплю-полубодрствую. И Владимир, впервые тогда увиденный, предстал фантастической сказкой: осеннее черное звездное небо, и в нем – белые соборы, белый кремль.
Очнулась я от полусна только при виде громадной беспорядочной очереди к закрытому окошку автобусной кассы. Новое препятствие! Панические слухи пробегали по очереди то и дело: немцы все ближе к Москве, автобусы идут сегодня последний день, въезд в Москву без пропуска уже завтра будет невозможен. Когда рассвело, состоящая почти из одних деревенских женщин толпа, сбивая очередь, ринулась в беспорядочной панике к открывшемуся окошечку кассира. Продав несколько билетов, женщина-кассир так же истерично, как и толпа, стала кричать, что в таком беспорядке она не будет продавать билетов, и захлопнула окошко. Бабы завыли и еще теснее у него столпились. И тогда наступила одна из самых героических минут нашей с братом юности. Я громко крикнула в толпу: «Разберитесь по порядку, иначе никто не уедет!» Меня не слушали, продолжая отпихивать друг друга от окошка. И тогда я скомандовала: «Алеша! А ну, откидывай их всех!» И мой брат, как лев, бросился в толпу женщин и, хватая их за плечи, с силой стал отбрасывать их от окна. Вот когда пригодился наш бесконечный предвоенный волейбол и упорные упражнения брата на турнике. А я кричала: «Разберитесь по очереди и замолчите!» За спиной какой-то голос почтительно прошептал: «Смотри, как там парнишка зверствует. Молоденький». И в ответ другой голос: «А разве с нами по-другому можно?» Я заметила в толпе три-четыре мужских фигуры и обратилась к ним: «А вы что стоите? Помогите мальчишке!» Мужчины словно очнулись, пробрались к окошку и загородили его с трех сторон своими спинами. Толпа вдруг успокоилась и выстроилась в очередь. Мы заняли в ней свои места. Окно кассы открылось. А я тогда поняла, что с толпой можно справиться только силой и непререкаемым авторитетом, за которым стоит внутренняя уверенность в своей правоте.
Когда подошла наша очередь и папа попросил у кассира пять билетов, она ответила, что на ближайший автобус осталось только три, а билеты продавались только на ближайший, далеко не рассчитывали. Папа растерянно оглянулся на меня, и я властно сказала ему: «Бери три». Он, как под гипнозом, взял, и окошечко захлопнулось. Еще более растерянно он сказал мне: «Что же нам делать с тремя билетами?» Я разъяснила: «Ты, Анна Ивановна и Галя уезжаете и забираете все вещи. На всякий случай. Мы с Алешей приедем следующим автобусом». – «Вы останетесь одни?!» – «Не страшно, – жизнерадостно ответила я. – Мы же первые в очереди». Ничего другого уже и не оставалось делать. Автобус стоял у дверей станции и наполнялся народом. Алеша помог отцу погрузить тюки. Я прочно заняла место у самого окошка кассира, не уступая ни на минуту завоеванной позиции, хотя мы навели такой порядок и заслужили такое уважение очереди, что о посягательстве на наши права и речи не могло быть. Автобус отошел, и Алеша присоединился ко мне. Окошко открылось только через два часа, но они нам с братом показались блаженством: мы первые и никаких вещей! И в самом деле мы благополучно получили свои билеты и с ощущением заслуженного отдыха откинулись на спинку сидения еще одного подошедшего автобуса. Никакие страхи и сомнения не тревожили наши юные души. Мы еще не знали, что такое война и Россия. Автобус по дороге сломался. Около часа шофер озабоченно возился под ним. Мы и тогда не испытали страха: крыша над головой, удобные сидения, законные билеты – все это давало нам чувство незнакомой уверенности. Автобус и вправду благополучно поехал дальше среди вечереющих пустынных полей. Сто километров были преодолены, и мы подкатили к станции Петушки, тогда еще ничем, кроме воровства, не прославленной. И тут я увидела на ступенях вокзальчика отца. Никогда не забуду его лица: оно, неузнаваемо исхудавшее за эти часы, с обтянутыми скулами, все было обращено на дорогу, на автобус, на его двери, наконец на нас, соскочивших с видом победителей на землю. «Живы? Скорее, скорее, поезд на Москву – через полчаса и вообще последний!». Мы кинулись, как отдохнувшие молодые звери, на свои тюки и выволокли их на платформу. Поезд и в самом деле скоро пришел. Он был почти пустой. Никто не ехал в Москву, все – из нее. Поезд был дальнего следования, с откинутыми верхними полками, на которых мы с Алешей тут же растянулись и заснули, не чувствуя ни жесткости, ни холода. Нас разбудили уже в Москве.
Я не помню, как, на чем мы доехали до дома. Это было неважно. И пешком бы дошли. Мы были в Москве, мы вернулись. Здесь была мама, сестра, абажур над столом, наш древний секретер, ландехская ширма… Под босой ногой – нас гнали мыться хотя бы и холодной водой – гладко и прочно ощущался наш дивный паркет – звезды из ромбов. Окна в нашей комнате, разбитые взрывной волной еще в июле, уже были зашиты фанерой, но так казалось даже уютней, укромней от бесконечных пространств нашей родины.
Я, может быть, слишком подробно описала нам-то памятный, но в масштабах совершающихся событий ничтожный эпизод по нескольким причинам.
Во-первых, отец. В тот миг, когда я увидела его на ступенях станции Петушки, острая жалость пронзила мне сердце, но одновременно и легкое недоумение: как ты мог оставить своих детей в непредсказуемости российской пустыни и хаоса войны? Сама же его уговорила и сама же в душе… нет, не упрекнула, а удивилась его слабости.
Второе впечатление от этого дня нашего возвращения – удивление перед порядком, наведенным в этой аморфной стране жесткой сталинской рукой. Армии отступают, немцы рвутся к Москве, миллионы двигаются лавиной на восток, а автобус Владимир-Петушки ходит по расписанию, и билеты на него продаются за простые деньги (туда бы сегодняшних королев бензоколонок!), и перестанет ходить только, когда прикажут, и поезд, хоть и последний, но пришел вовремя. И пропуска в Москву будут завтра, а сегодня – обыкновенный контролер. Удивительно. Из нашего сегодня особенно удивительно (пишу эти слова в 1994).
И, наконец, последняя третья причина, почему я подробно остановилась на этом эпизоде. За месяц нашего путешествия мы повзрослели. Приехали в Волково детьми, бездумно надеющимися на родителей и родственников: они все решают. Вернулись в Москву людьми, надеющимися только на себя. На всю жизнь – только на себя. Путешествие сорок первого года было первым уроком. Потом этой науке нас будет четыре года учить война. И выйдем мы из нее повзрослевшими прагматиками. Юности не было. Чтобы выжить, надо было усвоить жесткие правила предстоящей нам жизни. Весь народ их тогда усваивал, и весь вышел из войны другим. Дети – в первую очередь. Романтика – самого разного рода романтика – осталась за чертой сорок первого года.







