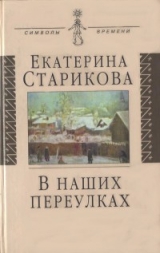
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Вижу нас с мамой в кабинете врача в детской поликлинике на Большой Молчановке: кабинет занимает высокий светлый эркер пятиэтажного дома, облицованного, как многие «доходные дома» начала века в наших переулках, как и наш дом, светлым кафелем. В июле 1941 года с крыши нашего дома мы будет определять силу окрестных пожаров по отблескам пламени на кафельных стенах детской поликлиники. А в 1936 году доктор там рассматривает на свет снимок моих легких. «Ребенка нужно везти в Крым. И, конечно, хорошее питание. Очень хорошее», – внушает врач маме. Мама плачет. «Почему вы плачете?» – строго спрашивает доктор. «У меня трое детей. Я не могу отвезти ее в Крым». – «Но зачем же плакать? В конце концов, отвезите ее просто в деревню, на свежий воздух. Пусть ест регулярно пять раз в день. И два раза в день – отдых в кровати. Полностью раздеться, как на ночь. Тело человека только так отдыхает. И перестаньте плакать. Дети с такой грудной клеткой не умирают».
Хотя я по-прежнему хочу быть больной, меня, конечно, успокаивает то, что я не умру, а маме в общем-то не надо плакать. Но, увы, я и злорадствую: поплачь, поплачь, теперь ты поплачь.
Какие болезненные искажения вносят в детскую психику семейные драмы! Беда не столько в ранних страданиях, но в рожденном ими эгоизме. Я точно знаю, что весной 1936 года исчезла та самоотверженная девочка, готовая лечь костьми за своих близких, а появилось другое, очень двойственное, замкнутое существо, знающее, что будет правильно лечь костьми за близких, но отказавшееся от полной, безоглядной самоотверженности. Меня не пожалели, так и я не обязана всех жалеть. Нет, я, конечно, вас пожалею, но и себя не забуду. Мне-то рассчитывать не на кого. Вы моих страданий не знаете и никогда не узнаете. Я отворачиваюсь от ваших страданий.
Я не могу, конечно, ручаться, что в двенадцать лет я так отчетливо сознавала перемену в собственной психике. Может быть, такая перемена произошла в течение всех лет нашей семейной драмы. Но началась эта перемена во мне в январе тридцать шестого года. Это точно.
Я по-прежнему плохо спала и чутко прислушивалась к ночным разговорам родителей. Казалось, все было мирно и покойно между ними. Значит, может быть и так? Мама говорила, лежа в постели, папе: «Ты заметил, какой хорошенькой становится наша младшая дочь? Какие глаза? А ресницы!» Папа отвечает: «Да и старшая ничего». Мама соглашается, но с оговоркой: «Ничего. Зубы выросли красивые, улыбка хорошая. Но красок не хватает». – «Она же больна», – защищает меня папа. Я же мотаю на ус: красок не хватает, а зубы красивые. Сама себя я ощущаю несчастно-некрасивой: высока, худа, бледна, косички тоненькие… Вот разве что зубы? Я начинаю их чистить три раза в день.
17
Последнее наше общее семейное лето, лето 1936 года, как ни странно, было радостным и праздничным. С нами в Головково сначала приехала Наталия Алексеевна Маклакова с мальчиками, где-то возле них поселили Андрея Туркова, недавно лишившегося бабушки (впрочем, Андрея скоро отправят в экзотический для нас Артек), в том доме, где мы жили в тридцать пятом году, теперь обосновалась Анна Ивановна Волкова с семилетней дочерью Галей, мы же сняли совсем другую избу, где ничто не напоминало о прошлогодней грусти.
Я приехала в Головково слабой и по-прежнему соблюдавшей режим тяжело больной. Но попробуй, соблюдай его в деревне! Чем здесь кормиться лишний раз, когда и обыкновенный обед часто сварить не из чего? Нас спасало хозяйское молоко. Неизменная глиняная крынка молока сопровождала наши скудные трапезы. Я к тому же ровно в пять часов вечера лезу в подпол и достаю оттуда противное месиво из сала, меда и какао, и, разведя его горячим молоком, с отвращением, но послушно глотаю жирную приторную жидкость. Она должна спасти мои легкие. Я и не подозреваю, с какой завистью смотрят на мое пойло младшие дети! Узнала об этом совсем недавно.
В первые дни в Головкове мама еще говорит мне: «Пойди и приляг на сеновале». Но не будешь же, как велел врач, каждый раз снимать с себя необременительный сарафанчик при настежь открытой двери сарая? Из экономии мы снимаем избу очень бедную. Зато крайнюю в деревне. Зато прямо за домом – поле, а за ним густой еловый лес, зато вниз от сарая – луг, спускающийся к ручью, зато через дорогу от дома – церковь и кладбище. Не так уютно, как было в Сертякине, но кругом простор и воля. С ветхого крыльца избы далеко-далеко все видно, и по вечерам мы следим за редкими поездами: они, словно вереница муравьев, прочерчивают своим движением прямую линию за лугами на горизонте. Вот прошел вечерний на Ленинград, а вот местный, дачный, на Клин, на нем под выходной приезжает к нам папа. Мама же любит провожать взглядом далеко за полночь ярко освещенную Красную Стрелу. Мама, знающая наизусть Пушкина и Достоевского, никогда не была в Ленинграде. Поехать туда – ее невыполнимая мечта, она осуществится только в старости. Да и где они бывали, наши бедные родители!
Лето тридцать шестого жаркое и сухое. Через несколько дней по приезде мы совсем перебираемся из душной избы спать на сеновал. Вымоем ноги в ледяной Истре, плеснем из нее же в лицо, сунем загрубелые, постоянно босые ноги в непривычные жесткие туфли и гуськом, по росистому лугу, устланному полосами вечернего тумана, идем в наш сарай, где расстелены на сене постели. Как сладко засыпать, глядя на звезды через разрушенную крышу другой половины нашего ветхого убежища!
Не прошло и двух недель деревенской жизни, как я почувствовала себя другим человеком. Однажды я вдруг вскочила на оставленную в поле пустую распряженную телегу и стала на ней отплясывать. И услышала, как мама тихо сказала Анне Ивановне: «Кажется, она поправляется…» А я просто поправилась.
Мне кажется, что я была уже здорова к 18 июня. Был очередной выходной день, было солнечное затмение, и умер Горький. В то утро папа привез из Москвы известие о смерти Горького. Вот я и запомнила дату. Папа же закоптил нам тогда стеклышки (использованные фотопластинки), чтобы глядеть на солнце. Мы все стояли на лугу за домом и смотрели на небо. «Вот и солнце скорбит о Горьком», – вздохнув, сказал папа. «Ты лучше бы оплакал своего любимого Бухарина, кажется, приходит время это сделать», – тихо заметила мама и обидно засмеялась. Папа промолчал.
На том же лугу, где мы наблюдали затмение солнца, в день маминых именин был поставлен и накрыт стол. В гостях были Наталия Алексеевна, Николай Николаевич и Анна Ивановна. «Бывшие» куда-то совсем сгинули, их у нас теперь не видно. Праздник проходил чинно, по-семейному. Вот поднялась из-за стола Анна Ивановна в своем лилово-сиреневом маркизетовом платье с воланами. Оно так идет к ее серым выпуклым глазам. И тут же вышел из-за стола вслед за ней наш отец, уговаривая ее остаться. Он в белых брюках, белой рубашке и белых парусиновых туфлях. Он держит Анну Ивановну за локоть. Ветер, полевой теплый ветер, треплет их пышные волосы. «Посмотрите, какая прекрасная пара!» – восклицает мама. Пара и в самом деле недурна, но зачем она так? Мне не нравятся ни мамины слова, ни ее тон, искусственно-оживленный.
После обеда затевается общая игра. И взрослые, и дети по очереди прыгают через сцепленные руки двух сидящих на траве «водящих». Не помню, как называлась такая игра. Когда приходит моя очередь прыгать через сцепленные руки мамы и Николая Николаевича, я, добежав до преграды, резко останавливаюсь и сворачиваю в сторону. «Почему ты не прыгнула?» – спрашивает мама. «Не хочу», – дерзко отвечаю я. И она оставляет мою дерзость без внимания! Разве в каком-нибудь другом случае такое было бы возможно? Я и торжествую свою независимость, и чувствую укол в сердце: она не смеет сделать при всех мне замечание? Больше у нас в деревне Николай Николаевич не появляется, и я забываю о нем.
Просто ли я поправилась в Головкове или еще стремительно повзрослела? На моем красном сарафанчике, в котором я прохожу все лето, впервые на груди сделаны выточки, крошечные выточки, но я горжусь ими. А на загоревшей руке я ношу мамин серебряный «турецкий» браслет. Так и сгинет он куда-то в то лето с моей тонкой детской руки.
Двенадцать лет – перелом в жизни девочки, прощание с детством, расставание с полной независимостью от родителей. Я вдруг как бы сказала себе: у вас своя жизнь, у меня – своя, я не хочу больше страдать вашими страданиями. Ничего такого я, конечно, не говорила и самой себе. Но вдруг пришло ощущение внутренней свободы. Или я просто устала от тайных горестей? Я захотела просто жить. Жаркое праздничное лето способствовало такому желанию.
По прихоти мамы в то лето наша семья неожиданно пополнилась. Однажды мама вернулась из очередной поездки в Москву не одна, а с моей одноклассницей Тамарой Сучковой. «Вот, привезла к нам пожить. Куда ее денешь?» – просто сказала мама, нисколько не озабоченная ни умножающимися расходами, ни мнением на этот счет папы. Ее никогда в ту эпоху ни то, ни другое не тревожило. А как только мы с ней остались в избе вдвоем, рассказала, как нашла Тамару в ее Большом Каковинском, сидящей на приворотной тумбе и горько плачущей. Только что выслали ее мать из Москвы, а семнадцатилетняя ее сестра взяла да уехала в деревню к родственникам, не пожелав взять с собой Тамару. «Что же мне было делать? Не оставлять же ее одну на улице? Пусть поживет у нас немножко», – заключила свой рассказ мама. Это «немножко» затянулось лет на пять.
С Тамарой я училась вместе с первого класса, а со второго эта крепкая румяная рыжеватая девочка стала заходить к нам «за книжкой». Нам из школы было по дороге. Собственно, это одно нас и объединяло. Я не помню, чтобы она читала взятые у меня книги и как-то на них отзывалась. Но заходила неизменно за следующей. Как-то и я, миновав свой переулок, зашла домой к Тамаре. Очень удивил меня ее дом. Не сам дом, его-то я знала всегда, знала даже, что он – единственный, сохранившийся в окрестностях от пожаров 1812 года. Так ли это было или не так, но такова была местная молва. Может быть, на втором этаже этого ветхого строения, где жил в то время известный артист Вечеслов («сам Вечеслов!» – гордилась Тамара), и сохранились какие-то привлекательные следы старины, но Тамара-то жила в подвале, лишенном каких-либо особых примет.
Когда я впервые вошла в ее низкую, с двумя утопленными в землю окнами комнату, меня поразила ее бедность. Бедность и чистота. В комнате стояли две железные кровати, застланные лоскутными одеялами, у окон – квадратный стол, покрытый клеенкой, и два простых табурета. Я сразу отметила непривычное: живут чуть ли не впятером, а кровати – две. Где же они все спят? Еще в комнате был комод, на нем белая вязаная салфетка, а на той – дешевая стеклянная вазочка и две книги. Над комодом же к стене был прикреплен бумажный китайский веер, какими торговали в дни нашего раннего детства на Смоленском рынке. Рынка уже не было, не было и китайцев, а вот веер здесь сохранился. Но самым удивительным в этой комнате показался мне в мои восемь тогдашних лет способ резать хлеб. На столе стояла глубокая тарелка, полная мелко нарезанного хлеба разных сортов. Кусочки были квадратные, прямоугольные, треугольные. Почти такие, какими были папины «прянички», но здесь они еще отличались и цветом: черные, серые, белые.
Придя домой, я поделилась с мамой приятным впечатлением от посещения Тамариного дома и особенно от странного способа резать хлеб. Мама грустно усмехнулась и спросила: «Неужели ты не догадалась, что это за хлеб? Это же довески, которые подают тете Паше у нашей булочной. Милостыня». – «А при чем тут тетя Паша?» – спросила я. «Так она же – Тамарина мама. Только не надо об этом говорить с Тамарой». Я знала страшную пьяную нищенку с синим опухшим лицом, выклянчивающую у булочной копейки и кусочки, знаменитую в окрестностях Смоленского рынка тетю Пашу. И она Тамарина мама?
Я сама в этом убедилась, зайдя еще раз к Тамаре. Тихая и кроткая – а не буйная, как на улице, – тетя Паша встретила нас на пороге уже знакомой мне комнаты и заискивающе стала приглашать меня приходить к ним почаще. Когда она не пила, она была доброй женщиной и беспокоилась о своих девочках, Вале и Тамаре. А еще у нее был совсем взрослый сын Юра, и он тоже жил тогда в той же комнате. «Знаешь, хвасталась Тамара, – у нас у всех разные фамилии. И у меня, и у Вали, и у Юры. Потому что у нас у всех разные папы». – «А где же все они?» – спрашивала я. «Все умерли», – с веселым торжеством отвечала Тамара.
В 1936 году в Москве шли политические процессы, Сталин сводил счеты со своими потенциальными соперниками по партии. Но одновременно столицу очищали и от морально сомнительного элемента. Вот и выслали внезапно тетю Пашу. На три года. И кто же еще, кроме нашей мамы, взял бы к себе дочку местной нищенки, чтобы по всем заветам русского гуманизма разделить с ней тощий кусок хлеба своих детей?
Впрочем, Тамара была взята не совсем полностью в наш дом. Мама организовала через школу опекунство над Тамарой ее соседки, доброй тети Лиды. И ночует Тамара в своей комнате. «Надо же ей сохранить право на жилплощадь», – печется наша мама – не о своем благе, о благе… ближнего? или не ближнего, а постороннего? Сложный вопрос. Во всяком случае, в восемь утра Тамара уже у нас. Мы вместе пьем чай с хлебом – таков наш завтрак, вместе идем в школу, мы сидим за одной партой, вместе обедаем у нас, делаем уроки все за одним столом, ужинаем и только в десятом часу Тамара уходит к себе. Юра уже женился и не живет с девочками, а скоро он вообще уедет сражаться в Испанию. Валя работает. Но содержат Тамару мои родители. Мы, дети, немножко завидуем ей: по вечерам Тамара ведет какую-то отдельную от нас жизнь. И потом у нее есть крошечная пенсия, на которую она довольно ловко покупает кое-что из одежды. Одета она всегда лучше меня. Мне же не дозволяется обращать внимания на такие пустяки, мы должны быть выше подобных мещанских интересов. Я не знаю и никогда не узнаю, как папа относился к Тамаре и к ее присутствию в нашем доме.
Однажды, уже в глубокой старости, во время какого-то нашего разговора наедине, мама неожиданно спросила меня: «Я была не права, когда поселила у нас в доме Тамару?» Молча я глядела ей прямо в глаза, не давая никакого ответа. Она ответила сама: «Наверно, я виновата перед своими детьми». Я думаю, у каждого из нашей семьи были свои особые отношения с Тамарой и каждому из нас она принесла свою долю зла и радости, измерить которую трудно. Да теперь и не нужно. Только без присутствия в нашем доме Тамары наш дом был бы не нашим, а мама – не нашей мамой.
Но летом тридцать шестого года в Головкове Тамара воспринимается только дачной гостьей. С ней весело и просто. Она быстро и без смущения приспосабливается к нашим порядкам, как будет и впоследствии всегда приспосабливаться к любой обстановке.
Весело нам еще и потому, что в избе, где живет Анна Ивановна, поселились два мальчика с матерью: Павлик и Костя Артамоновы. Анна Ивановна учит меня арифметике, ведь я пропустила целый школьный год и в августе мне сдавать экзамены. К концу урока Тамара заходит за мной и мы в щель дощатой перегородки, отделяющей жилье Анны Ивановны от соседского, пытаемся разглядеть новых мальчиков. Пихая друг друга, мы ничего не можем увидеть. Анна Ивановна советует: «Лучше принесите завтра мяч и начните возле дома играть в волейбол. Павлик старше вас на два года, а Костя на два года младше». Как иногда мудры бывают взрослые! На следующий же день, придя с мячом и Алешей, мы уже все вместе играли в волейбол – любимую игру тех лет, способ развлечения, забвения, сближения и выражения разнообразных чувств. Так входит в нашу жизнь еще одно действующее лицо – Павлик Артамонов – тот, кто через пять лет увезет на фронт мою фотографию.
Пока же мы стучим волейбольным мячом, ходим за ягодами и грибами, играем в индейцев – словом, все как полагается, когда в компании старшему четырнадцать лет, а младшей шесть. И еще, когда мама уезжает в Москву, мы до ночи сидим все вместе на сеновале и рассказываем друг другу «страшные истории». Теперь отъезд мамы – не несчастье, а подарок судьбы. В дырявую крышу глядят крупные звезды, от каждого движения таинственно шуршит сено. Душисто, прохладно и уютно. «А ты не боишься идти один домой мимо кладбища?» – ехидно спрашивает Тамара Павлика, когда мы решаем, что пришло время прощаться на ночь. «Ничуть!» – бодро отвечает Павлик и спрыгивает с сена вниз. Мы с Тамарой крадемся за ним по лугу до самого огородного прясла, залезаем на него и наблюдаем, как все быстрее и быстрее движется светлое пятно рубашки, чтобы стремительным бегом миновать кладбищенскую ограду. Все-таки боится! Мы тихо смеемся и идем спать.
И целое лето неясно, кто же больше нравится Павлику – я или Тамара. Кажется, я. Вчера вечером он накинул на мои голые плечи свою фланелевую курточку, когда мы все вместе встречали на полустанке поезд с родителями и я пожаловалась, что холодно. Но нет, кажется, Тамара. Он так хвалит ее голос, а поет она и в самом деле хорошо. Но вот уже в конце августа наша мама привозит в Головково еще одну мою одноклассницу, у которой только что умерла бабушка, а мама целыми днями на службе. И стоило появиться среди нас хорошенькой белокурой головке Лили Брянской, как ответ на роковой вопрос стал ясен: Павлик глядит только на новую для него девочку. А когда мы играли в разбойников в осиновой роще, то первую багряную ветку, добытую как трофей приближающейся осени, пронеся мимо меня, Павлик положил к ногам Лили. Я и через четыре года этого ему не забуду. Я припомню ему эту ветку.
18
Новая школа! Событие мало с чем сравнимое в двенадцать лет. Осенью 1936 года мы все – и Алеша, и я, и Тамара, и Лиля, и Алеша Стеклов, учившиеся в 7-й школе, переходим в школу № 46. Ликвидирован кризис с учебными помещениями! Тридцать шестой год знаменателен открытием в Москве ста новых школ, школ-новостроек. Так мы тогда и говорили с гордостью: мы будет учиться в новостройке! у нас в новостройке не будет второй смены! у нас в новостройке такие широкие коридоры! в наш класс в нашей новостройке никто, кроме нас, не войдет, можно там даже оставлять свои вещи.
Правда, наша «новостройка» к 1 сентября оказалась не готовой. Мы начинаем учебный год в чужой школе, но каждый день заходим во двор дома № 24 по Смоленскому бульвару проверить, как строится наша новая школа: вот уже побелили стены, а вот уже вносят в здание сверкающие свежей черной краской парты…
Пока же очень интересно учиться в помещении бывшей школы № 17, отныне закрывающейся: старинный особняк с колоннами, со скрипучей деревянной лестницей, с большущим тусклым зеркалом на ее площадке. Кропоткинская, дом № 35. Нам кажется, что мы не учимся, а играем в каком-то забавном спектакле в необычных декорациях, особенно, когда в школе время от времени гаснет электричество и в класс вносят зажженные свечи. Или когда во время перемен мы вылезаем из окон и разгуливаем по широкому карнизу между колоннами, а прохожие с улицы с удивлением глазеют на нас.
В этой странной школе преподавала когда-то Анна Ивановна. И живет она рядом во флигеле, в маленькой темной комнатке, дверь которой открывается прямо на лестницу, а окно глядит в стену соседнего дома. Это – бывшая передняя большой квартиры, жильцы которой пользуются теперь только черной лестницей, у Анны же Ивановны нет ни водопровода, ни уборной. Не очень ясно, как она выходит из положения. Нам же кажется, что у нее очень уютно. 5 сентября Анна Ивановна устраивает у себя вечер юных «головковцев». Присутствуем не только мы трое, но и Тамара, и Лиля, и Павлик. Волнующее событие! Первый праздник без взрослых, наш собственный праздник. Анна Ивановна не в счет, она ведет себя с нами как равный товарищ. А угощает нас рижским хлебом с плавленым сыром и крепким чаем с мармеладом. Все из Смоленского гастронома и потому такое свежее и вкусное. Мы же приносим Анне Ивановне букет ярких сентябрьских астр. Отныне эти цветы символ наших осенних праздников, которые будут повторяться ежегодно до самой войны. К традиционному угощению прибавится позднее бутылка странного сладкого вина с названием «Тагоби», больше никогда и нигде нам не встречавшегося.
Переход в новую школу отодвинул от меня семейную драму нашего дома. Я почти забыла о Николае Николаевиче и о папиных страданиях. Мама берет все больше и больше уроков, и мы уже не смотрим такими жадными глазами на каждый кусок хлеба. Наш дом постоянно полон детьми. Как взрослые это терпят? Но терпеть, собственно говоря, должен только папа, мама – первый инициатор этих сборищ. Кажется, ей интересней с детьми, чем со взрослыми. И с детьми она ведет себя как со взрослыми: рассказывает, доказывает, спорит. Спорить есть о чем.
В Москве снова идут политические процессы. Черная тарелка репродуктора включена целыми днями. Мы и задачи решаем под звуки радио, и засыпаем под них. Мы слышим не только детские передачи и сладкоголосое пение Лемешева и Козловского, но и речи из зала суда в Доме Союзов. Слышим мы и мамины комментарии к ним: «Какой фальшивый спектакль! Какая мерзкая белиберда! Как могут взрослые люди серьезно воспринимать подобную чушь? Японский шпион? У него что, своих грехов мало? Судили бы лучше за расстрелы в 21 году». Как сейчас вижу: мама гладит белье на общем столе, папа сидит, закрыв лицо листом газеты, по радио – лживый пафос обвинений Вышинского. Почему-то я сочувствую Карлу Радеку, не могу сейчас сказать, что мне импонировало в его оправдательных речах. Слушаю все, что-то запоминаю, сравниваю с мамиными репликами, с папиным упорным молчанием и крепко усваиваю постоянный урок взрослых: «В школе и во дворе, да и на кухне – ни слова о наших разговорах! Поняла? Если хочешь, чтобы у тебя были родители, – ни слова!» Это-то мы хорошо усвоили.
С переходом в новую школу я стала хорошо учиться и заняла в классе прочное и даже почетное положение одной из первых учениц. Я перестала бояться школы и поняла, что официальную призрачную сторону школьной жизни легко можно отделить от реальной и существенной. Что бы там учителя ни говорили на собраниях, ценят они хорошие ответы на вопросы и хорошие сочинения. И что бы сами ребята ни рапортовали на линейках, большинство из них уважают тебя за решение трудной задачи и верное товарищество. Учись хорошо, но не зазнавайся перед тем, кто учится хуже, помоги ему, объясни, дай наконец списать. Будь равной со всеми, и в школе тебе будет легко. Мне это стало удаваться.
Оглядываясь на те школьные годы, я сейчас с удивлением обнаружила, что, собственно говоря, в нашей новой школе почти и не чувствовалась страшная атмосфера второй половины 30-х годов. Вот сказала: «Что бы там учителя ни говорили на собраниях…» (знаю, что должны были быть соответствующие собрания, да и были, но мы-то в пятом классе почти и не чувствовали их отголосков). И вдруг сейчас поняла, что наша школа № 46 оказалась тогда маленьким островком сопротивления лжи и насилию, господствовавшим кругом. Несколько женщин, заправлявших нашей школой, создали в ней вполне терпимую и гуманную атмосферу.
Директором была у нас Пелагея Павловна Волчкова, женщина вполне простецкая, невзрачной внешности, скорее всего крестьянского происхождения, прямая и открытая. Преподавала она в старших классах биологию и очень неплохо это делала, как я в этом убедилась позднее. Я тогда увлеклась дарвинизмом и даже подумывала, не стать ли мне биологом. Но отвращение к лабораторным работам на органических тканях, особенно ужас перед распотрошенной живой крысой, отвратили меня от стройной логической теории. Не Пелагея Павловна была тому виною. Была она одинока и жила прямо в школе – в новостройках тридцать шестого года были предусмотрены директорские квартиры на первом этаже, прямо у входа.
Наш завуч Евгения Александровна Полтанова, перешедшая одновременно с нами из седьмой школы в сорок шестую, была типичным образцом учителя прежних времен: всегда строгая, но никогда не повышавшая голоса, седая, в темном костюме, исполненная сознания своей высокой миссии педагога. В дуэте с Пелагеей Павловной Евгения Александровна представляла интеллигентное начало и старые традиции. Именно у Евгении Александровны еще в 7-й школе я писала свое первое сочинение и снискала первый литературный успех. Сочинение было на интересную для детей тему: что было бы, если бы дедушка в деревне получил письмо от Ваньки Жукова. Не знаю, на что рассчитывали учителя, но в моем описании все было прекрасно и радостно – подробностей не помню, но хорошо помню счастливый трепет сочинительства и впервые мною пережитое сладкое тщеславное чувство, когда Евгения Александровна читала вслух мое произведение, как лучшее в классе. Наша мама дружила с Евгенией Александровной вплоть до ее смерти (кажется, в 70-х годах?) и знала всю ее обширную семью, населявшую квартиру в Нижнем Кисловском переулке.
Союз директора и завуча, столь непохожих друг на друга, видимо, и создавал в школе нормальную обстановку, где из советских ритуалов выполнялись только самые неотменимые.
Конечно, и в нашей школе были и свои происшествия, и своя экзотика. Так поначалу, когда мы пришли в пятый класс, в нем оказались четыре молчаливых мальчика, дремавших на уроках и совершенно не интересовавшихся ни соседями по парте, ни играми на переменах, ни тем более учением. На их объединяющую общность обращала внимание одинаковая своеобразная прическа: выложенный на лбу завиток. Скоро они исчезли из школы: по этой прическе милиция вычислила членов воровской шайки, где они были подмастерьями, а вожаком – молодой арбатский парикмахер. Так же быстро испарились смазливые девочки с экзотической внешностью – дочери смоленских проституток и китайцев из местных прачечных, плоды нэпманской жизни нашего района. Давно не было ни китайцев, ни прачечных, а вот юные дочери продолжали ремесло своих мамаш. Вероятно, никто в школе из детей не знал этих историй, но наша мама не только всё знала, но и не считала нужным скрывать от нас яркие краски реальности. Позднее появился в нашей школе и правоверный «освобожденный» комсорг, попавший в какую-то некрасивую историю на сексуальной почве. Был и туповатый военрук, учивший нас в коридоре по-солдатски печатать шаг, а во дворе метать гранаты в сторону того домика, где жила графиня Ланская. Мы трепетали перед непреклонным чертежником, даже зная, что он пытается ухаживать за нашей мамой, приглашая ее зайти после уроков в пивную. Она и этого не могла от нас скрыть – изображала перед нами сцену приглашения в лучших традициях Малого театра.
Но не эти отклонения определяли нашу школьную жизнь, а стиль нормального учебного заведения, где учение было на первом месте.
Кроме очень сильных математиков, наши остальные учителя не блистали особенными педагогическими талантами, но были добросовестными хорошими людьми и, воспроизводя обыкновенную школьную рутину, они создавали почву и для систематических занятий, и для веселых дерзких шалостей. Наши учителя были снисходительны к нам, и по крайней мере у двоих из них были основания своей добротой как-то ограждать нас от жестокого времени. У учительницы немецкого языка Евгении Ивановны, и у учительницы русского языка Нины Александровны уже ко времени нашего появления в сорок шестой школе были арестованы мужья. Тихий испуг и грустная терпимость в ярко-карих глазах нашего классного руководителя Нины Александровны Гарф не останавливали нас в изощренных, а иногда и опасных по условиям времени шалостях. Выговаривая мне за преступления целого класса, мама всегда начинала так: «Но ты-то знаешь, как трудно жить учителю. Ты бы могла…» Я это знала, но ничего не могла. Мама, кажется, тоже знала, что школьник не может идти против целого класса, и не очень сердилась на меня. Мои отметки во многом искупали прочие провинности.
Будничная школьная жизнь протекала на фоне праздничного зарева, охватившего всю страну: подготовки к столетию со дня гибели Пушкина. Чествование национального гения должно было заслонить мрачность впечатлений от политических процессов, блеск торжеств слепил глаза современников, расширенные страхом, стихами глушил слух, уставший от постоянных угроз. Слова Пушкина, портреты Пушкина, иллюстрации к произведениям Пушкина заполняли газеты, журналы, радио, кино, стены школ, театров, музеев. Обложки школьных тетрадей украшались изображениями Вещего Олега со щитом и мечом в руках, дуба у лукоморья, вместо обычной таблицы умножения – «Товарищ, верь, взойдет она…» Мы все участвовали в этой безмерной вакханалии. Вот тогда-то мама и готовила постановку оперы Кабалевского «Сказка о царе Салтане». Вот тогда-то и появился в нашей школе новый мальчик, ставший тут же знаменитостью: у Роберта Медина было в то время розовое лицо херувима и копна пшеничных прямых волос, выделявших его в толпе коротко стриженных школьников. Было известно, что этот мальчик уже снимался в настоящем кино, потому-то у него такие длинные волосы, а тут еще его назначили на роль царевича Гвидона в спектакле, который прославился на весь район.
Лишенная актерских талантов, я же только живописую акварельными красками пушкинские сюжеты. Мои произведения красуются на стенах школы среди прочих, а одна иллюстрация даже попадает на общегородскую выставку детских рисунков, посвященных Пушкину: крепостная башня в стиле «Айвенго», в окне ее – девица в сарафане и кокошнике, наподобие тех, в какие я недавно обряжала своих кукол, а на раму окна опирается лапами громадный зверь, с большим трудом и старанием срисованный из «Маугли» с иллюстрациями Ватагина.
В темнице там царевна тужит,
А серый волк ей верно служит, —
вот что должна была изображать эта картинка.
Бедный Пушкин! Мы так любили его, по-домашнему, по-детски любили. И вот его выволокли на площадное торжище, и он пошел в ход разменной монетой. И мы участвуем в этом нечистом карнавале, входим в него с восторгом, а выходим с отвращением. К середине тридцать седьмого года я уже не могла слышать имени Пушкина и надолго перестала его читать. Я только после войны к нему вернулась.
И все-таки тридцать шестой год, начавшийся для меня так трагично, кончился почти счастливо. Я выросла и, казалось, освободилась от груза семейных бед. Но это казалось недолго.
19
К весне тридцать седьмого года выяснилось, что наша семья почему-то не может в это лето снять дачу и что всем нам придется провести его врозь. Лёлю и Алёшу берут к себе «старики Краевские» на Косую Гору, меня же приглашает к себе тетя Лёля в Тамбов. Перспектива одной ехать в какой-то Тамбов, известный только по лермонтовской казначейше, настолько заняла меня, что я не задумалась, почему мы не можем снять дачу и тем более почему многие наши родственники оказались вдали от Москвы. Меня больше занимало то обстоятельство, что я должна буду уехать от дня рождения Павлика Артамонова. В июне ему должно было исполниться пятнадцать лет, и все мы, дети, были приглашены на Абельмановскую заставу, казавшуюся нам не менее экзотичной, чем Тамбов. До сих пор только Павлик ездил к нам на Арбат по праздникам. Мне хотелось и в Тамбов, и на день рождения к большому мальчику.







