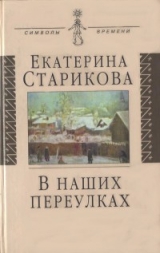
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Так я, кстати, впервые узнала, что мама следит за нашими дневниками.
Когда в то лето я начинала тосковать по лесам и полям, я отправлялась к маминой сестре Елене Михайловне за город. Тетя Лёля с двумя детьми и Наташа Владыкина с десятимесячным Колей снимают летом сорокового года избу на станции Хрипань по пустынной тогда ветке железной дороги, идущей на Шатуру. Там меня не ждет никакое подходящее общество. Женщины бесконечно кормят своих малышей и возят колясочки с ними среди редких сосен вокруг дома. Но по другую сторону железной дороги довольно дикая еще природа: леса, болота, вырубки. Я тихо встаю в пять утра, никого не бужу и, привязав крынку к поясу платья, углубляюсь в лес. Брожу часов до десяти, набираю полную крынку малины и возвращаюсь к общему завтраку. У тетки в ту пору туго с деньгами, и она откровенно радуется даровому угощению: можно есть малину с молоком, можно сварить детям кисель. Я не чувствую никакого стеснения в этом доме: безденежье – дело привычное, а что я здесь никому не мешаю, я уверена.
Однажды к вечеру при мне приехал на дачу муж тети Лёли Александр Николаевич с каким-то своим знакомым. Оба были очень веселы и привезли с собой кучу свертков с угощениями: копченые рыба и колбаса, паштет, вино, пирожные, фрукты… «Откуда все это, Сашка?» – удивилась тетя Лёля. «Из гастронома». – «Но откуда деньги?» – «Я же получил премию на Сельскохозяйственной выставке. Вот она – премия». «Вся премия?» – «Ну, почти». – «Ты сумасшедший, я думала, мы проживем на нее месяц». «Проживем как-нибудь месяц и без нее», – весело парировал Александр Николаевич. В 1941 году в последнем своем письме из-под Вязьмы он напишет, что нет ничего вкуснее грибов, сваренных на костре без соли. Значит, раньше, чем умереть, он будет голодать. А я, слушая, как тетка читает вслух это его письмо, думала: как хорошо, что он не экономил свою премию, как хорошо, что был этот маленький пир на шаткой деревенской терраске.
По случаю гостя, оставшегося ночевать в тот памятный мне вечер в Хрипани, «моя» кровать занята и мне выдают кожаный спальный мешок на гагачьем меху (откуда такой взялся?), сооружение роскошное и для холода непробиваемое. Я бросаю мешок на лужок перед домом, прямо на вечернюю росу, затягиваю у горла шнурок и гляжу на звезды. Более удобной позиции для этого занятия, кажется, нет. А вот солнце будит меня слишком рано. Но мне-то снова пора за малиной.
Когда мне становится скучно, когда надоедают одинокие прогулки, я внезапно уезжаю в Москву. Полустанок рядом с домом, а я наслаждаюсь только что обретенным правом взрослого человека самому решать, где ему быть. В Москве пусто, пыльно и жарко. Но иногда по вечерам папа водит нас с Алешей, давно вернувшимся из лагеря, в летний театр Красной Армии на оперетты. Нам всем очень нравятся и «Сильва», и «Веселая вдова», и прекрасный парк, и множество затянутых в ремни молодых военных. Папа моложав, а я высока, он держит меня под руку, мне приятно представлять с ним «пару». К тому же впервые за многие годы мне сшили новое летнее платье и купили лаковые сандалеты на маленьком каблуке. Нет, конечно, не просто купили, где их так вот купишь? Это какие-то сапожники из Кимр приезжают в Москву со своими кустарными изделиями и продают «по знакомству». Мама целое лето дает частные уроки и может позволить себе роскошь приобрести и мне и себе обувь. После всех обносков, в которых я всегда щеголяла, мой наряд мне кажется роскошным.
И еще в то лето в Москве идет на экранах «Большой вальс». Событие незабываемое. И взрослые, и дети опьянены бесхитростной американской мелодрамой и бездумной музыкой Штрауса. Происходило какое-то всеобщее помешательство. Как непривычна была для нас просто любовь, просто музыка – без идеологии, без агитации за что-то! Мы оказались благодарными зрителями. Посмотрев впервые фильм (а мы его смотрели потом не раз), я и Нина Ашмарина долго сидели на подоконнике всё в той же кухне, не зажигая света. В открытое окно глядела полная луна, теплый ветер шелестел уже подсыхающими листьями нашего старого тополя.
Было это до или после захвата Бессарабии? Не помню, но отчетливо представляю себе жаркий день сорокового года: я лежу на кровати полураздетая и слушаю радио. Из нашей черной картонной тарелки доносятся победные реляции о еще одном торжестве сталинской национальной политики и дружбы народов. Мне стыдно. Я плачу. Никого нет дома, и я могу не сдерживать своих чувств. Я окончательно и бесповоротно не приемлю политики насилия и лжи. И это уже навсегда.
После Польши и Бессарабии «присоединение» осенью Прибалтики не произвело уже на меня большого впечатления. То было логическое продолжение всего остального, что «они» творили в своем безумии. Не очень подробно следя за событиями Второй мировой войны, я в то же время остро ощущала гибельность пути нашей страны, неизбежность заслуженной катастрофы. Такое просто не могло, не должно было остаться безнаказанным. Я верила своим чувствам.
К тому же мучилась, справедливо полагая, что вряд ли Нина разделяет мои чувства. По моим тогдашним понятиям мое молчание о таком для меня важном было несовместимо с той идеальной дружбой, которая, казалось, нас соединяет. Мечтать у открытого окна вместе, писать друг другу исповедальные письма и при этом думать врозь? И вот я прибегаю еще раз к эпистолярной исповеди. Я подробно пишу, почему я не люблю, как все вокруг, Сталина и не принимаю его политики. Так и пишу, без всяких эзоповых уловок и умолчаний. Я пытаюсь объяснить Нине, почему я считаю нечестным перед ней скрывать свои мысли. Я захожу в комнату к Ашмариным, когда там никого нет, и кладу письмо на Нинин столик. Сколько раз впоследствии я с ужасом вспоминала свой поступок! Чьи молитвы услышал мой ангел-хранитель и спас меня, нас всех от самой страшной кары эпохи? Ведь знала, все знала об арестах, тюрьмах, лагерях, об опасности лишнего слова, просто анекдота, а что натворила? Может быть, слишком часто слышала призывы к молчанию, слишком привычны были предупреждения о грозящих бедах? Во всяком случае я это сделала, я кинула вызов судьбе, словно испытывая, а стоят ли все-таки чего-то такие вещи, как дружба, доверие, искренность. И судьба на этот раз выдержала экзамен. А вернее, Нина Ашмарина его выдержала. Я ведь быстро опомнилась. Я очень испугалась. Я ждала последствий безумия. А Нина оказалась и взрослее, и умнее меня. Она просто не сказала в ответ на мое письмо ни слова. Никогда. Она молчала. Не демонстративно, не с каким-то скрытым смыслом, а просто игнорируя мои глупости. Она вела себя так, словно ничего не произошло, ровно и просто.
Но наша дружба на этом кончилась. Мне трудно уже было запросто забегать к ней в комнату. Я не могла откровенничать с ней о всяких личных переживаниях, умалчивая о тайне, нас связавшей и разделившей. Поняв, что страшных последствий от моего безумия, кажется, не произойдет, я все-таки отстранилась от Нины. Мы остались добрыми соседями, расположенными друг к другу сверстниками, но не больше. У нас еще будет несколько сближений – в самом начале войны и в ее конце, но ничего похожего на пламень чувств сорокового года уже никогда не возобновится. И я навсегда благодарна Нине за ее взрослый ум, за спасение нашей семьи. Но дорого дала бы узнать, что она-то почувствовала, получив такое письмо, как решила эта правоверная комсомолка его не заметить, о чем думала, читая его. Я никогда этого не узнаю. Время упущено. Да и подозреваю, что Нина и сейчас сделала бы вид, что никакого письма не было. Впрочем, ей уже не до старых писем. Она давно лежит, не вставая, мучаясь страшными болями, и спрашивает нашу Лёлю как врача: «А это долго может еще длиться?»
29
Последняя предвоенная зима внесла некоторые изменения в наш бытовой уклад. По моему настоянию и с помощью моих уговоров мама решилась наконец расстаться не только с не любимой всеми нами домработницей Верой, но и вообще в принципе отказаться от института прислуги. Я доказала маме, что нам будет проще и выгоднее самим вести хозяйство, что все мы выросли и сумеем справиться и с едой, и с бельем, и с уборкой. Подтолкнули маму к окончательному решению сплетни соседей, доносивших, что Вера тайком готовит для себя пищу отдельно, на наши деньги, но куда более вкусную и питательную. При изгнании Веры мы, дети, не присутствовали, а торжествовали все одинаково. Как просто! Зачем мы терпели рядом с собой чужого, не любящего нас человека? Я старалась, как могла, взять на себя основную тяжесть хозяйственных забот, но, по правде говоря, не помню, чтобы они меня очень уж обременяли. Быт наш был прост и непритязателен. Я постепенно становилась в доме чуть ли не хозяйкой и даже распорядительницей семейного бюджета. «Мама, давай мы будем жить, не делая долгов? Обойдемся. Надо только вовремя считать оставшиеся деньги». И стали обходиться. Наученная унижениями детства, я никогда в жизни ни у кого не брала денег в долг. И, кажется, все мы трое – с братом и сестрой – так жили.
Вторым новшеством предвоенной зимы был уход из школы Тамары. Уже в восьмом классе она стала плохо учиться, и перед девятым мама набралась мужества с ней объясниться: раз не хочешь учиться, иди работать и живи самостоятельно. Я и этого разговора не слышала, мама только мне о нем сообщила. А Тамара уход из школы приняла с облегчением. Она тут же устроилась работать чертежницей, чертила она и в школе прекрасно. К этому времени ее старшая сестра вышла замуж, а мать вернулась из ссылки. Они остались в комнате вдвоем.
А в наших привычках уход Тамары из школы почти ничего не изменил. Так она приходила к нам после двух или трех часов, а теперь стала приходить после шести. Вечерний чай все равно пили все вместе, все, кто находился к этому времени в нашем доме. У нас по-прежнему постоянно толпился молодой народ. Правда, отпал Павлик, почти исчез Роберт, но со школьными друзьями, кажется, мы еще больше сблизились: все те же совместные занятия, все те же разговоры, все те же прогулки вечером по Арбату.
Конечно, мы стали другими. Мы выросли.
Мы уже думали о своем будущем. Тамара мечтала только о театре. Дима склонялся к чему-нибудь техническому, хотя, впрочем, хорошо рисуя, не исключал для себя и архитектуры. Оба Алеши явно выделялись математическими способностями. Ясно было, что судьба Андрея Туркова – литература. Маленькая Лёля уверенно знала, что будет врачом. А я? С упоением и ежедневно я писала и писала свой дневник, описывая и школьные происшествия, и впечатления от книг, и свое отношение к политическим событиям. Я с взволнованным чувством прочитала «Волшебную гору» Томаса Манна, вряд ли понимая смысл романа, но догадываясь о неведомой мне до сих пор изысканной тонкости мысли. Однако, по моде тех лет я не исключала из возможностей своего будущего и чего-нибудь более мужественного и героического, чем литература. Дальние путешествия еще совсем по-детски манили меня, и я подумывала, не податься ли мне в геологи. Этого не исключал для себя и Алеша Стеклов. Я ли подражала ему в своих мечтах, он ли мне? А пока обнаружилось, что он не только любит поэзию, но и сам пишет стихи. Писал их и Андрей Турков. Оба мальчика просвещали меня чтением стихов – не своих, нет, а любимых поэтов.
Надо признаться, что наш с Андреем поэтический вкус был очень консервативен. Нас совсем не коснулось типичное для тех лет увлечение Маяковским. «Тихонов, Сельвинский, Пастернак» – это было не про нас. Мама в годы своей богемной юности, конечно, посещала модные в те времена выступления поэтов и любила рассказывать нам о грубых и остроумных репликах Маяковского, о скандальных появлениях на эстрадах Есенина с Мариенгофом и т. п., но рассказывала о поэтах того времени всегда в ироническом тоне. Политические взгляды, господствовавшие в нашем доме, отстраняли меня от советской литературы. Конечно, все мы читали тогда «Школу» Гайдара, «Республику Шкид» Кассиля и еще несколько общеизвестных и популярных книг. Но, в общем, я не знала советской литературы. И мой выход на поприще критики современной литературы был обусловлен и трагическим, и легкомысленным совпадением ряда случайностей.
Совсем другое увлечение ознаменовало для нас последнюю предвоенную зиму. Это, кажется, я узнала случайно, что в Третьяковской галерее есть платные искусствоведческие кружки. Рубль с человека и не менее шести человек в группе, занятия раз в неделю. Я загорелась заманчивой идеей и уговорила нашу компанию плюс еще кого-то из класса записаться в такой кружок. Ах, какое это было для меня счастье! Каждую неделю в пять часов я стремительно пересекаю Арбат, бегу по Денежному переулку, из Глазовского появляется Лиля, Алеша уже заранее вышел из своего дома, на Кропоткинской стоит Дима, а там всей гурьбой вниз к Москворецкому мосту, через пустынную Болотную площадь и прямо в Лаврушинский. Открытие нового взгляда на знакомые картины объединилось для меня с путешествием в галерею – любимые переулки, строгая Кропоткинская, вид с моста на Кремль – все вместе входило в ощущение эстетического праздника.
Нам очень повезло с руководительницей кружка. Она научила меня не только наслаждаться картинами, но понимать, что они есть результат мысли, усилий и умения художника. Мне стыдно, что я не помню ни фамилии, ни имени руководительницы. Да и длилась эта искусствоведческая эпопея недолго. В течение, кажется, пяти или шести занятий наша руководительница стремительно провела нас по всем векам русской живописи – от икон до Врубеля. И тут же вслед за коротким общим обзором нам было дано задание: выбрать себе по вкусу картину и дать ее анализ в письменной форме. Почти шесть десятилетий прошло с тех пор, а я помню наш тогдашний выбор: «Иван Грозный убивает своего сына» – Алеша, «Иван-царевич на сером волке» – Дима, «Мостик через пруд» (кажется так?) Левитана – Лиля, «Девочка с персиками» Серова – я. А написать мне пришлось оба последних сочинения. Лиля, только приступив к работе, тут же опустила руки. Старательная отличница в классе, она оказалась лишенной свободного воображения. Мальчики больше напирали на драматизм выбранных сюжетов. Я же упивалась описанием «колорита» и «фактуры», щедро используя только что подхваченные на занятиях новые для меня термины. И мое вдохновение нашло отклик: оба моих сочинения были отмечены как лучшие. И тут наша группа распалась. Лиля страдала от уязвленного самолюбия после поражения. Диме надоели эти занятия, и он просто не вышел из своего Еропкинского переулка перед очередным занятием. Алеша, как всегда, молчал, но послушно выходил мне навстречу. Я дважды заплатила за непришедших рубли, чтобы продлить существование кружка. Но где мне было взять эти рубли? И мое счастье кончилось. Регулярно ходить в Третьяковку теперь мы стали с Андреем Турковым, но вкусов своего скрытного брата я так тогда и не узнала.
Нам все более остро были нужны карманные деньги. С удивлением и завистью я смотрела, как отец Стекловых в вечер получения заработной платы торжественно вручает сыновьям некую определенную сумму, очень небольшую, зависящую от возраста каждого из них. Но с этого момента они могли совершенно самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Я никогда не имела такой возможности.
С класса седьмого я пыталась заработать их сама. Через маминых друзей-учителей мне нашли частные уроки. Но, кажется, мой педагогический опыт был плачевен. Прекрасно помню свой позор с арифметической задачей, когда мой маленький ученик с умными, все понимающими глазами иронически наблюдал мои муки растерянности и насмешливо заглядывал из своей комнаты в переднюю, откуда я пыталась незаметно для него позвонить по телефону все тому же Алеше Стеклову с просьбой о помощи в решении этой каверзной задачи. После этого случая я отказалась от урока в Денежном переулке. С алгеброй было легче, и я стала давать уроки какой-то девочке из только что выстроенного энкаведешного дома, отгородившего высокой стеной наш школьный двор от Смоленского бульвара. Дом был удивителен тем, что в нем все квартиры были отдельные. Все! Но больше запомнились мне уроки всё той же алгебры какой-то девочке, жившей на Кропоткинской. Мне заранее было известно, что родители девочки сгинули где-то в лагерях, воспитывают девочку бабушка и дедушка, а еще с ними живет ее дядя, сумасшедший музыкант. Он помешался, когда и его арестовали, хотя скоро выпустили. Аресты меня уже не очень-то волновали, привыкла, а вот сумасшедший музыкант – это было романтично. Оказалось, что и заниматься мы должны в его комнате! Но помешательство дяди проявлялось для меня только в том, что он безмолвно выходил из комнаты, как только мы в ней появлялись. Зато сама комната! Громадный рояль посредине, узкая аскетическая тахта в углу и крошечный круглый столик, свободно передвигавшийся в любое удобное место вместе с высоким торшером под кружевным абажуром. Всё это было довольно потертое и потрепанное, как я сейчас вспоминаю. Но я никогда до того не видела торшеров, а узорчатые тени на потолке от старого кружева так пленили меня, что я больше смотрела на потолок, чем в задачник. Чем кончилась и эта попытка педагогических заработков, не помню.
В предвоенную зиму сорокового – сорок первого года мы все стали частыми посетителями дома Стекловых. Если наш шумный безалаберный дом влек наших друзей непринужденной свободой, то дом Стекловых привлек всех нас размеренным порядком и уютом, которых мы были лишены, а, видимо, мы уже нуждались в каких-то более «красивых» формах существования.
В отличие от всех нас Стекловы занимали не одну, а целых две больших комнаты в пятикомнатной квартире. Их комнаты были разделены передней, в одной из них обитали два брата Стекловы вместе с бабушкой, в другой – их родители. Маленькими школьниками мы заходили обычно только в комнату мальчиков, где стояли три кровати, большой стол, покрытый светлой клеенкой, на одном окне висела клетка с птицей, на подоконнике другого находился аквариум с рыбками, на письменном столе круглился глобус, а на стенах пестрели большие географические карты. В общем, это была знакомая нам обстановка жизни интеллигентных детей. Но в последнюю предвоенную зиму мать мальчиков Наталия Ивановна стала нас приглашать в «гостиную». Супружеские кровати были и там отгорожены шкафами, а остальная часть комнаты действительно ничем не напоминала наши – эти походные лагеря или дортуары с небольшими вкраплениями остатков старинных мебельных развалин. У Стекловых было пианино, на стенах висели неброские картины, овальный стол был покрыт тяжелой с кистями скатертью, на двух этажерках находилось обширное собрание иностранных словарей (Наталия Ивановна была машинисткой на двух или даже трех языках). Но больше всего нас восхищала низкая тахта с кучей ситцевых, темной расцветки подушек и с крошечной лампочкой под таким же ситцевым самодельным абажуром в углу изголовья. Нам представлялось это верхом уюта и изощренной изобретательности. Подумать только, еще и лампочка над тахтой! И хотя, кроме пианино, у Стекловых не было ни одной дорогой вещи, мы правильно оценили уют спокойной, устроенной, а не случайно сложившейся жизни. Это было нечто иное, чем декорации под старину нашей бабушки Наталии Николаевны в Хлебном переулке. У Стекловых не было никакой «показухи», как станут впоследствии говорить, здесь все было подчинено стройному ритму жизни интеллигентной трудовой семьи, где много работают и хорошо учатся, а потом хотят и умеют уютно отдохнуть. И мы с особым чувством отдохновения забирались на ситцевую тахту, непременно зажигая маленькую лампочку в углу, хотя и не собирались читать. Алеша же садился за пианино и играл нам Шопена. Мы чувствовали себя взрослыми утонченными людьми. Никого из нас, кроме Алеши, не учили музыке, хотя мои подруги очень хорошо пели. И на концерты нас не приучили ходить. В детстве, как я уже упоминала, раза два в сезон нас водили в Большой театр на оперы, все известные оперы мы знали, тогда это полагалось. А серьезной музыки не знали. И Алешина игра этюдов Шопена была для нас верхом духовной изысканности.
При всё большем сближении с домом Стекловых, я все труднее и труднее чувствовала себя рядом с Алешей. Однажды на уроке литературы Алеша почему-то оказался на одной парте не с Димой, а с Толей Приписновым, тонким верзилой, с которым мы тоже учились в одном классе еще с 7-й школы. Вдруг я услышала шум какой-то возни за своей спиной и обернулась. Мальчики боролись друг с другом, и Толя дергал из рук Алеши вынутую им из кармана записную книжку. Книжка упала на парту, из нее что-то посыпалось на пол, что Толя, смеясь, пытался поймать, а Алеша, покраснев, защищал. Я узнала эти легкие, летучие предметы: то были засушенные фиалки, собранные мною на берегу Киржача и вложенные в Гамсуна. Я забыла их в книге, а Алеша нашел и носил их с собой. Мгновенно поняв ситуацию, я тут же отвернулась с видом внимательной ученицы, поглощенной уроком. Я не хотела понимать ни тайных, ни явных знаков особого к себе отношения. Мы оба боялись обнажить себя друг перед другом. Он – открыть передо мной свое чувство, я – отсутствие его и тем его обидеть. Кто бы из окружающих нас поверил, что мы никогда вдвоем ни о чем серьезном не говорили, никогда не гуляли вдвоем, только вместе с друзьями. Мы так и не узнали друг друга. Ценя и уважая Алешу, дорожа его привязанностью и верной рыцарской службой, я боялась вспугнуть что-то, нарушить давнее равновесие в неравных отношениях. А он? Я не знала и так никогда ничего и не узнала. Я боялась слов и избегала откровенности.
В конце декабря сорокового года мама объявила нам, что в новогоднюю ночь ее не будет дома. Впервые с тридцать шестого года. О радость! Я даже не поинтересовалась, где она будет встречать Новый год. Мы тут же решили устроить свой новогодний праздник. Собственно говоря, он не мог ничем особенным отличаться от нашего обычного времяпрепровождения. Разница была только в том, что и Тамара не присоединилась к нам, найдя более интересное и нам неизвестное общество. Да еще бутылка вина, нами самостоятельно купленная и законное разрешение мамы не спать до глубокой ночи. Алеша Стеклов пришел с аппаратом и фотографировал особо торжественные моменты празднества: вот, держа в руке настольные часы, единственные наши часы, Алеша-брат напряженно смотрит на них, чтобы не упустить момент полночи; вот мы все чокаемся первым бокалом; вот маленькая Лёля одиноко лежит полубольная на тахте; вот Лиля кокетливо выгнула свою хорошенькую фигурку, сидя на стуле, вероятно, перед не видимым на фотографии Димой. Как весело и беззаботно провели мы эту первую ночь сорок первого года! Почему именно в эти месяцы нас всех оставили страхи и тревоги? Почему мы именно тогда впервые за много лет так доверчиво смотрели в будущее? А, может, мы и вовсе в него перестали тогда смотреть, а просто жили молодой своей жизнью? Я долго потом удивлялась этой беззаботности.
30
А через несколько дней после Нового года мы с Лёлей уехали на Косую Гору.
Всю осень Лёля проболела какой-то неясной, так и не определенной болезнью. Месяц лежала в Яузской больнице, куда я и отвезла ее, а вернулась домой в декабре, слабенькая и несчастная. Несчастная еще и потому, что никто из нас не навестил ее в больнице ни разу. Почему? Стыдно признаться, но о ее страданиях детского одиночества я узнала от нее, будучи не просто взрослой, но уже старой. А тогда, занятая собственными ощущениями, как-то не сообразила да и не знала, что в больницах больных навещают. А что думала мама? Мама тем более была занята. Холодный дух нашего пылкого дома дал себя знать в полную меру в этом не замеченном нами эпизоде.
Тем ярче и слаще оказалась для нас зимняя поездка на Косую Гору. Я везла больного ребенка (Лёле шел одиннадцатый год) ко всегдашним нашим помощникам и спасителям – старикам Краевским. И, может быть, в эти морозные дни января 1941 года я впервые сознательно почувствовала ответственность за младшую сестру и привязанность к ней. Если бы она попала в больницу после этих дней, я бы уже догадалась ее навещать. Это же известно, чтобы привязаться к человеку, надо сначала о нем позаботиться.
Зимой мы всегда жили в городе, зимней загородной природы мы не знали. А тут вдруг на нас с Лёлей обрушилось всё великолепие нетронутых январских снегов, янтарных и багряных ранних закатов, сверкающих льдистыми алмазами лунных вечеров. И все это в сочетании с теплым, сытным, гостеприимным домом, с каникулярной беззаботностью, с ощущением новой, открытой для себя привязанности. Лыж у нас не было, я давно выросла из детских, а взрослых никто нам не покупал. Мы с Лёлей ходили пешком по косогорским и яснополянским рощам и полям, выбирая укатанные санями дороги. Ходили и днем, и вечером тем более смело, что с нами увязывалась громадная черно-серая овчарка Стечкиных. Мы упивались синевой неба и темным золотом так и не опавшей листвы дубов. Это была новая для нас красота, мы едва узнавали привычные места в непривычном застывшем и сверкающем наряде. И нежность к маленькой голубоглазой сестре переполняла мое сердце. И еще, конечно, мы бесконечно ели немыслимо вкусную для нас еду. Лёля поправлялась на глазах. Вот что ей было нужно, какая бы ни была у нее болезнь: еда, воздух и забота. Продлив на несколько дней законные каникулы, я возвращалась домой и в школу, спокойная за сестру и полная взрослым чувством ответственности и нужности.
Это чувство не мешало мне в поезде представлять себя немножко Анной Карениной. Дело в том, что на мне было вишневое вельветовое платье. Оно было единственным моим платьем той зимой и, конечно, досталось мне от кого-то в дар и по наследству. В торжественных случаях я пышно украшала его прабабушкиными брюссельскими кружевами, хранившимися в «нашем секретере», в будни кружева снимались. Ну а если ты едешь зимой, одна, в поезде, а на тебе почти бархатное платье, хотя и несколько потертое, кем, как не Анной Карениной, ты себя ощущаешь? И неважно, что душа твоя звенит от радости, что под поезд ты не собираешься бросаться да и Вронского нет. Впрочем, на вокзале меня встречал Алеша Стеклов. Мама послала его в ответ на его бесчисленные вопросы, когда же я вернусь. Но это-то обстоятельство – встреча на вокзале – не играло в моих ощущениях никакой роли. И запомнила я ее только потому, что на эскалаторе в метро Алеша прочитал не известные мне стихи Пастернака:
Февраль… Достать чернил и плакать…
Стихи поразили меня. Я впервые услышала имя этого поэта, а его стихотворение вошло еще одной краской в ту короткую зимнюю сказку.
Так шла для нас последняя предвоенная зима, самая мирная за истекшее десятилетие, давшая нам передышку перед испытаниями. Спрашиваю себя еще раз: почему именно в начале сорок первого года нас вдруг оставили тревоги и предчувствия, давившие и угрожавшие столько лет? Или это только меня они оставили в канун моего семнадцатилетия?
Мой день рождения вместо 28 апреля – буднего дня – праздновали 2 мая. И как-то незаметно уже я, а не мама, оказалась главным организатором и распорядителем праздника. Правда, мама жарила пирожки и готовила салат – необычное прибавление к ритуальному угощению в нашем доме, свидетельствовавшее о некоем повышении достатка. Еще и салат! Но на стол накрывала я, озабоченная главным образом его украшением. Против обычной в этот день копеечной ветряницы, я разорилась на шесть тюльпанов и расставила их попарно в три стакана вдоль всего стола. И про себя решила: отныне это будет цветок моего дня рождения. Я не сомневалась, что праздники будут следовать один за другим, из года в год. А на самом деле, когда состоится следующий подобного рода? Не упомню. Во всяком случае через десятилетия, в иной жизни.
А тогда, 2 мая 1941 года, к нам пришли и «дети» – все наши друзья, и взрослые – наши родственники. Я запомнила, что душой общества за этим довольно скудным (пирожки были сметены в мгновение ока), но безусловно веселым столом был Александр Николаевич Владыкин. А, может быть, потому моя память из всех тех лиц, не разделенных ни на капельку возрастными преградами, выхватывает лысину, усы и забавные россказни Александра Николаевича, что этот светлый и холодный весенний вечер был последним, когда мы его видели?
И еще одно предвоенное впечатление. Уже после экзаменов, незаметно и успешно, как привычное дело, сданных нами, после того как Лёлю уже отправили на Косую Гору, Алеша Стеклов предложил съездить за город, в его любимые Лепешки – деревню где-то по Северной дороге, куда надо было добираться от станции Софрино по узкоколейке на паровичке. И утром 12 июня мы вчетвером – два Алеши, Тамара и я – отправились в неведомые большинству и, вероятно, прекрасные Лепешки. Зайдя в деревне к стекловской бывшей хозяйке и выпив в ее избе крынку молока, мы углубились в лес в поисках какого-то таинственного озера, известного Алеше. И нашли его. И украсившись венками из июньских цветов, целый день катались по нему на хлипком плоту, время от времени застывая в забавных или красивых, как нам казалось, позах, чтобы быть запечатленными фотоаппаратом Алеши Стеклова. (По надписям на фотографиях и сохранилась дата путешествия.) А уже в сумерках забрались опять в чащу леса, разложили там громадный костер и решили провести около него всю ночь.
И тут наступило для меня какое-то непонятное состояние. Я почувствовала, что все чего-то ждут от меня, что мой брат и подруга слишком часто удаляются от костра, я поняла, что они хотят оставить нас с Алешей вдвоем. И как только я это поняла, кончилась счастливая легкость этого яркого дня. Я сердилась на подругу, на брата, я замолчала, замкнулась. Полыхание костра не радовало, предстоящая ночь казалась невыносимо долгой. И скоро я предложила отправиться на станцию. Алеша Стеклов сник и замолчал тоже. Но и на полустанке, где нам пришлось бесконечно долго ждать паровичка, и на платформе, куда должна была прийти первая электричка следующего дня, брат и подруга всё уходили и уходили от нас, оставляя нас вдвоем, а мы всё молчали и молчали. И только в чистеньком звонком трамвае, мчавшемся по умытой рассветной Москве, все почувствовали облегчение и вновь стали громко и весело обсуждать замечательные подробности прошедшего дня. Я несколько опасалась гнева мамы за наш столь необычно поздний или, напротив, ранний приезд. Но когда мы с ворохом цветущей поздней черемухи (она будет в том году цвести и когда уже начнется война) ворвались в нашу спящую квартиру, мама не только не сердилась на нас, но встретила ласковыми словами: дескать, нисколько не беспокоилась, чего бояться, когда мы со Стекловым. И еще нас ждал сытный завтрак (вероятно, оставшийся с вечера ужин). И эта ласка, и эта забота остались в моей памяти знаком нечастого привета родного дома, о котором я буду с благодарностью вспоминать в иной жизни, на пороге которой мы уже стояли.







