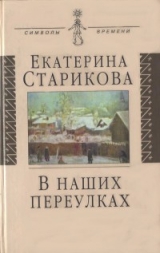
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Ровно в десять мы прощаемся с молодой хозяйкой недолгого нашего пристанища. Володя и Саня подхватывают наши сумки – нам, гостям, ничего не дают поднять – и мы идем на берег озера. На белом песочке и впрямь стоит у самой воды автобус. Да какой хорошенький! Небольшой, мест наверно на пятнадцать и совсем новый. Неужели с папиной родины можно выехать так комфортно? Около автобуса нас дожидаются три москвича инженерного облика, бойкий шофер и какой-то местный житель (сразу видно по обглоданному виду), тоже напросившийся в пассажиры. Саня кидается к нам на грудь и плачет. Я приглашаю Володю приехать как-нибудь в Москву, но он решительно и по-прежнему строго отказывается: «Нет. Не люблю я Москвы. Я один раз там был на экскурсии. Не понравилось. Да и никому мы там не нужны». И смотрит на меня без улыбки. Так и не одарил ни одной. И я запоминаю это отсутствие улыбки как повод для раздумий и покаяния.
Боже мой, по каким кочкам и рытвинам приходится выбираться с берегов Свято-озера на шоссе! Нас бросает из стороны в сторону, хорошо, сиденья мягкие и ручки удобные. А в каком направлении мы едем, понять не могу. Вероятно, в сторону Владимира? Гиблое безымянное бездорожье. Догадываюсь об одном: мы едем мимо лагерей. Колючая проволока, вышки, иногда пройдут солдаты. А потом вдруг в сторону от бездорожья – прямой выглаженный асфальт с дорожным знаком, запрещающим въезд. А, тут еще и военные объекты? Ракеты? Полигон? Аэродромы? Вот во что превратился мой заветный Китеж-град: вместо монастырей – лагеря, вместо леса и болот – черная пустыня, вместо дивных колоколен – ракеты.
У нашего случайного попутчика окружающие нас картины вызывают свои ассоциации. С азартом и гордостью он рассказывает, как в сорок первом году, в декабре, привезли из-под Москвы пленных немцев и как гнали их от Вязников вот до самых этих мест по морозу раздетых, поторапливая поленьями по головам и спинам, – почти никто из них до лагерей не дошел, а трупы их складывали вдоль этой самой дороги и стояли смерзшиеся штабеля из них до самой весны. Пассажиры нашего автобуса слушают рассказ молча, не разделяя патриотического восторга, и не получив поддержки, рассказчик постепенно увядает и умолкает, а скоро и выходит из автобуса. Я никогда о таком обращении у нас с пленными не слышала, знала, что наших гнали и мучили. Душа моя противится размаху разрушения, прокатившегося по дорогим когда-то мне местам, таким, казалось, далеким от войны.
А дорога постепенно становилась чуть шире и глаже. Она не проходит сквозь селения, но, видимо, они где-то близко. На обочинах и перекрестках появляются первые голосующие, просят подвезти. Шофер охотно останавливается, попутчики едут десять-пятнадцать километров и, высыпав перед водителем горстку звонкой монеты, сходят на таком же безымянном перекрестке. Да, счет деньгам тут иной, чем в столице! И шоферы на этом пути непосильных требований к пассажирам не предъявляют. А шоссе стало еще шире и прямее. И тут один из наших москвичей, видимо главный, предлагает: «А не заехать ли нам в Суздаль? И пообедаем, и посмотрим, и отдохнем». Все дружно соглашаются. Оказывается, мы уже совсем близко от Владимира.
Я была однажды в Суздале в ту пору, когда он еще не был прославленным туристским центром, а прозябал заброшенной руиной прежней жизни. Тогда в нем обитало не более трех тысяч человек, церкви стояли обветшалыми и полуразрушенными, а жизнь в городе была деревенской. Интересно посмотреть, во что превратила мода на старину русскую Мекку. Опытный шофер не останавливается в современном туристском комплексе перед городом, а везет нас прямо в центр: так будет и дешевле, и быстрей, объясняет он. В старинной трапезной со сводами мы действительно быстро и сытно обедаем путем самообслуживания и, договорившись встретиться через полтора часа у автобуса, расходимся в разные стороны.
Как была счастлива мама этой нечаянной радостью! Такая отзывчивая на все впечатления бытия и такая неизбалованная жизнью, она умела впитывать в себя все, что носило на себе печать эстетики, истории и поэзии. Вот и в Суздале она оценила не только редкостную концентрацию пестрых, свежевыкрашенных музейных памятников, но и тихое огородное захолустье боковых улочек, и милые полевые дали, видные в их просветы. Как я радовалась, что ей выпала эта удача. И как про себя горевала, что не смогла, не успела доставить такой же радости отцу! Вряд ли он был в Суздале. Да и где он бывал в последние годы жизни? Однажды поехали они с женой в пароходный круиз по Оке и Волге, а в Москве из речного порта взяли даже такси, но не доехав до дома он заметил, что сумма на счетчике стремительно приближается к той цифре, какой исчисляются оставшиеся у него от отпуска капиталы. И пришлось ему, старому, выйти из машины и пересесть со всеми вещичками в привычный троллейбус. Он что-то рассказывал об этом со смехом. Я же печалюсь о той его незадаче и через сорок лет.
Мы же с мамой благополучно сели в наш славный автобус и миновали Владимир, оставив его в стороне: время шло к вечеру, к жаркому светлому июльскому вечеру. И снова пошли знакомые названия на таком знакомом шоссе: Петушки, Покров, Киржач… А шоссе все шире, а от машин уже тесно, а людей по краям дороги все больше, а люди все наряднее и глаже. И голосующие пассажиры давно уже платят не звонкой мелочью, а бумажками. А когда пошли пригороды Москвы, тут мне показалось, что весь наш путь от Свято-озера до автобусной станции Щелковская представляет наглядную схему памятных Володиных слов: Москва высасывает страну. И в самом деле, расширяющиеся шоссе – как трубы, вливающие жидкость в громадный бассейн, выкачивая ее по капли и до капли из скудной почвы окраин, даже из черной пустыни, занявшей место большого болота моего детства.
Чтобы покончить с рассказом о нашем путешествии семьдесят пятого года, упомяну еще одну подробность. На автобусной станции Щелковская мы с мамой должны были выйти: так договорились заранее. И мама уже вышла, а я стала расплачиваться с хозяевами автобуса, вынув из кошелька две двадцатипятирублевых бумажки и не зная, кому их надо вручить. «Начальник», увидев деньги, запротестовал решительно: «Да что вы? Мы не грабители – такие деньги!» Я же объяснила ему, что такова цена автобусного билета, если бы сели в него, скажем, в тех же Вязниках, и попросила его позволить мне хоть так выразить им свою благодарность за все. Он взял деньги и спросил, где мы живем. Узнав, что на Ленинградском проспекте, сказал: «Далековато. Но уж раз такое дело, мы вас довезем до места». И довезли, и вынесли нам вещи из автобуса, и руки пожали. Пишу об этом во времена, когда целой зарплаты не хватит, чтобы довезли тебя до соседней больницы. Что это, только изменившаяся экономика или нравы иные? Неужели они так быстро меняются?
Я могла бы еще рассказать, как поздней осенью семьдесят восьмого года ездила я в Гороховец, в гости к Нине Лебедевой, и как была поражена, когда проснувшись утром в городской квартире, услышала знакомую окающую речь: то Саня моя, узнав о моем внезапном капризе – посетить Гороховец, примчалась повидаться. Как ехала, сколько раз пересаживалась, один Бог знает! Ее-то автобус нигде не ждал. Там, в Гороховце, и видела я в последний раз нашу Саню.
5
В ночь с 25-го на 26-ое октября 1987 года Александра Макаровна Романова погибла. Шел ей тогда семьдесят пятый год, и была тысяча причин ей, – косившей, рубившей, жавшей, копавшей, доившей, постоянно тащившей на себе тяжести, – просто умереть. Но она погибла и погибла удивительно знаменательным образом: ее убил родной, отчий дом.
Как я уже рассказывала, Александра Макаровна давно не жила в том доме, поселившись еще во время войны в чужой избе, отстоявшей от родительской шагов этак на сто. В этом Санином жилье родились две их с Дмитрием Ивановичем послевоенных дочери Аня и Катя, здесь подросла и старшая, довоенная Нина – дочь сгинувшего Семена Романова. В этом «новом» доме к 1987 году прошла уже долгая жизнь. Но сложные, драматические и ревнивые отношения всегда связывали Александру Макаровну с родным домом даже и тогда, когда обоих ее родителей давно не было на свете. Саня была истинная дочь своего отца и по трудолюбию, и по общей одаренности, но и по непокорности. Она отказалась переехать к отцу, когда он болел перед смертью, хотя ухаживала за ним со всем старанием; она отказалась получить этот дом и в наследство, не забывая, как ее попрекали там вторым замужеством при живом муже (Саня обвенчалась с Дмитрием Ивановичем после смерти отца, удостоверившись, что первый муж умер). Но в семьдесят пятом году, собирая вместе со мной землянику на вырубках, Саня вдруг как бы невзначай шепнула мне: «А если бы стали продавать Одуваловский дом, ты бы мне подкинула тысчонку, чтобы собрать деньжат и его выкупить?» Ну, конечно, «подкинула бы», заверила я ее. Но никто не собирался продавать такой прочный и удобный дом. Больше речи о покупке не возникало. А для меня он, и чужой, по-прежнему много значил. Стоял себе где-то там, за бывшими лесами и болотами, за ракетными базами и лагерями, как вещественный знак связи с прошлым. И казалось, на мой-то век этого дома для памяти хватит.
И вдруг письмо – не из Волкова, не от Сани, – а от старшей ее дочери, из Гороховца, от Нины Лебедевой. И пачка фотографий. Рассыпавшись, они обдали меня ужасом раньше, чем я поняла смысл письма. Что это? Разного возраста женщины в черных платочках несут на полотенцах гроб. Выносят из избы с белыми наличниками, несут мимо бань… И тут только я узнала лицо в открытом гробу: умерла Саня. Хоронят Саню… Но кто-нибудь раньше видел такое, чтобы гроб из дома на Руси выносили женщины? Странное, непривычное, зловещее зрелище. Словно уже вымерла на нашей земле половина народа – мужская половина. Но где же мужчины, мужики, хоть какие уж есть? Что-то не так, неправильно на этой картине похорон Александры Макаровны, так почитавшей и знавшей порядок и обряд. Что-то не так… Или все не так?
Я читаю письмо Нины. История Саниной смерти проста, как и вся деревенская жизнь. Среди темной октябрьской ночи в Волкове раздались крики: «Горим! Пожар!» Одной из первых выскочила из избы Саня. Полыхал Одуваловский дом, и ветер тянул пламя в сторону деревни. Старухи, в основном ее населявшие, выли и причитали. Никаких противопожарных средств у них, конечно, не было, да и не было сил наносить из колодца воды. Но деятельная Саня не могла предаваться горю и ждать беды сложа руки. Она бросилась к себе в дом, вынесла икону Неопалимой купины и с иконой в руках стала обходить пылающий родительский дом. Старухи говорили Нине: «Шура нас всех спасла». По их словам только она обошла дом, и огонь, тянувшийся понизу, прямым столбом поднялся вверх. Дом-то был обречен, но остальная деревня оказалась вне прямой опасности. Саня облегченно перекрестилась, и тут внутри пожарища раздался взрыв и какой-то тяжелый металлический предмет, отлетев в сторону, ударил прямо в Саню. Ей оторвало ногу и руку. Больше никто в деревне не пострадал. Саня жила еще три часа. Но до села, где был телефон, – три километра, а до Пестяков, где больница, – семнадцать. Пока бежали лесом в село, звонили в район, ехал по ухабам врач, Саня истекла кровью и скончалась.
Что ж, скажут, самая традиционная и не худшая российская гибель – от огня, в героическом порыве общего спасения да с иконой в руках. Так? Но меня не отпускают как раз иные, противоположные ощущения. Следствие показало, что тот раскаленный предмет, что убил Саню, был частью газового баллона, взорвавшегося при пожаре. Газ в Волкове?! Могла ли я такое вообразить? Газ – при отсутствии пожарных, воды, милиции, да и просто мужчин, телефона, врачей – какой-либо цивилизации? Так безрассудно, так стихийно соединять несоединимое? Патриархальный быт и нравы – и технику XX века? Дичь и глушь – и неудержимое стремление без оглядки приобщиться к современному комфорту? Да, это Россия. Россия конца XX века.
Смерть Александры Макаровны произошла через полтора года после чернобыльской катастрофы. Несравнимые события? Да, по масштабу. А по смыслу? Для меня смысл один. Жестокая плата за опоздание исторического развития, за соединение несоединимого, за столкновение наивной крестьянской доверчивости и жестких требований точного расчета века атома и электроники. Выйдем ли живыми из этого столкновения? Кто обнесет нас иконой?
Вот так закончилась вековая история уходов, возвращений и снова уходов нас, Стариковых, из Нижнего Ландеха. Теперь уже окончательно, теперь уж навсегда.
1994 г.
ЧАСТЬ II
Я начала свои записки рассказом о прошлом отца, о его родине – Нижнем Ландехе, об очень давних и более поздних деревенских впечатлениях. Их исток далек от нашей обыденной жизни, и уже потому они манили память экзотичностью. К тому же все это могло однажды и вдруг сгинуть в полном забвении. Кто знает о селе Нижний Ландех, а тем более о таком, каким оно было хотя бы семьдесят лет назад? Когда я вспоминаю девичьи хороводы вокруг «завитой» березки на Троицу, трехдневную деревенскую свадьбу, начинавшуюся чинным венчанием, продолжавшуюся хмельным пиром и завершавшуюся разгульными плясками вокруг бани, куда отводили на утро молодых, когда я вспоминаю собственную бабушку, простоволосую, на коленях перед зажженной лампадой, ежевечерне, после тяжкого рабочего дня работы отбивающую долгие земные поклоны, – когда я все это вспоминаю, мне не верится, что все это я видела. Может, приснилось? Или выдумалось, вычиталось в старой книжке? Но ведь было, было. Свидетелей той жизни не осталось. И надо из того далекого хоть что-то сберечь от забвения. Я попыталась вспомнить, что смогла.
Но сама-то я родилась и всегда жила в Москве. Да и отец наш сорок лет просуществовал москвичом. И все родственники с материнской стороны находились рядом, и наша каждодневная жизнь прочно и разнообразно связана с ними. Казалось, московские обстоятельства уже в силу своей непрерывности не нуждаются в напоминании и запоминании. Но вот один за другим стали уходить от нас старшие представители большого семейного клана, вдруг я оказалась чуть ли ни самой старшей в нем, да и сам клан стал быстро распадаться своими все более отстраняющимися друг от друга ветвями. С испугом оглянувшись, я представила, что не только мало кому ведомый Ландех, но и Москва – не парадной стороной истории, а в мало заметных изменениях житейской обыденности – не только стремительно исчезает, но и забывается. Нет, так нельзя, нет, надо что-то делать. Надо хоть что-то закрепить в памяти… Чьей? Детей? Внуков? А нужны ли мы им с нашим бедным прошлым? Но это уж их дело. Наше – оставить им возможность знать и помнить.
Сейчас у многих родилось желание – вспомнить, что было, и закрепить в памяти. Так что оригинального в моем замысле ничего нет. Но и я должна была это сделать. Включить свою память в общую. Добавить к куда более значительным, драматичным и общим картинам прошлого собственные, обыкновенные и малые. Добавить, а может быть, и противопоставить?
Двойственность моего происхождения – предки крестьянские и предки дворянские – уже она одна давала возможность взглянуть на окружавших меня в детстве людей и протекавшие мимо события с двух сторон. Эта двойственность, кажется, наградила меня – независимо от собственных стараний – некоей стереоскопичностью взгляда на события, свидетелем которых я была, обязала к большей объективности, чем многих моих современников. О ценности этой способности не мне судить, осознавая ее, я не преувеличиваю ее уникальности и значительности. Но и от попыток сказать о том, как большая драма эпохи отражалась в детском сознании, отказаться не хочется.
НАШИ ПЕРЕУЛКИ
D дни детства мы скудно ели, тесно жили, носили грубую обувь и чужие обноски на плечах, люди вокруг часто исчезали и не всегда возвращались. Но у арбатских детей было царственное обрамление бедного существования: наши переулки. Что бы мы ни делали – лепили ли куличики из песка, ковыляли ли на привязанных к валенкам коньках до бульвара, смотрели ли в бездну водостока, где бесследно гибли бумажные кораблики после увлекательного плавания по извилистым от разноцветного булыжника струям апрельских ручьев, – мы бессознательно наслаждались уютом маленьких площадей на пересечениях кривых переулков, причудливым сочетанием домов разнообразных форм и различных эпох, образовывающих лабиринты этих переулков, запахом еле распустившихся тополей, омытых первомайским дождем, и главное, – особым мягким светом, постоянно окутывающим этот наш мир, где редкие высокие «доходные» дома начала века – еще совсем тогда новые, украшенные барельефами, кафелем и эркерами, – перемежались целыми кварталами низеньких, не заслонявших солнца древних особняков.
В пору, когда я родилась и вырастала, художники изображали город не иначе как искаженным, покачнувшимся, рушащимся. Ни одной устойчивой черты и параллельной линии, ни одной прочной опоры. Все устремлено куда-то в катастрофическом порыве и судорожном движении: и дома, и церкви, и фонари – все летит, несется, падает. Художники запечатлевали то, что недавно было, и то, что скоро предстояло этому городу. Правоту художников подтверждает современный облик Москвы, так мало сохранивший от прежнего. Но детское сознание не было согласно с этими представлениями.
В каком бы рушащемся или созидающемся, летящем ввысь или падающем в бездну мире ни родился ребенок, он-то воспринимает его как исходную, устойчивую, изначальную данность. Мир вокруг него будет меняться потом, в течение его жизни, но застает он его и запечатлевает в памяти неподвижным. И время у ребенка безмерное, вчера для него – давно, завтра – далеко, а то, с чем он вошел в жизнь, – извечно. Вот и Москва моего детства – для кого-то изуродованная, уже разрушенная, погубленная, для кого-то строящаяся, преображающаяся, заново созидающаяся, для меня осталась прочной первоначальной данностью, истоком всех моих представлений о жизни.
Мир нашего детства располагался, собственно говоря, между тремя недалекими друг от друга точками Москвы: между Малым Каковинским, Серебряным и Хлебным переулками. В Малом Каковинском жили мы сами, в Хлебном и Серебряном – почти все родственники. Я еще совсем не разбиралась в запутанных семейных связях этого обширного рода, да и не стремилась пока в них разобраться, долго представлялось естественным, что родственников много, и было привычным видеть их собранными вместе в замкнутых заповедниках нашего детства. Мне было пока неизвестно, что сами заповедники возникли не так давно, почти перед моим рождением, что образовывались они общими потоками великого перемещения народа – революционной перетасовки российской жизни, гражданской войны, жилищного кризиса в столицах и всяческих насильственных «уплотнений». Все это я узнаю и пойму потом. Когда же я начала себя помнить, был Каковинский, Серебряный и Хлебный.
«Каковинский» – звучало отвлеченно и некрасиво и ничего для нас не обозначало, кроме исконной среды нашего обитания: мамы, папы, меня, брата и потом – сестры. Понятно, что мы живем в Малом Каковинском. Как же иначе? Не то Хлебный и Серебряный! Разве нет чего-то волшебного уже в самих названиях этих переулков – Хлебный и Серебряный? Казалось, «Хлебный» обдавал тебя ароматом сдобного теста, вызывал ощущение его мягкой податливой пышности, «Серебряный» – звенел и нежно, тускло светился. На самом деле все было наоборот. В Хлебном было красиво, чинно и строго. А в Серебряном как раз и вольно, и тепло, и вкусно. Но в самом этом «наоборот» тоже заключалась сказочная игра, забавная загадка. Хлебный – да не очень хлебный, Серебряный – но совсем не холодный, а теплый и мягкий.
Первое отчетливое ощущение Хлебного связано у меня с зимой и поездкой туда на санях, с пушистой московской зимой и бегом извозчичьей лошади по гладко укатанному снегу. Незабываемое впечатление!
Я заболела тяжелой ангиной, а думали – дифтерит. Надо было немедленно увезти меня из нашей единственной комнаты подальше от маленького брата. Удивительно, что пристанище нашлось в Хлебном. Не иначе как нашей молодящейся эгоистичной бабушки не было в Москве. Впрочем, не знаю. Помню только, что меня закутывают с ног до головы, завертывают поверх зимней одежды еще и в большое одеяло и несут на руках вниз по лестнице. Я неловко ощущаю себя слишком большой для такого способа одевания и передвижения. У подъезда стоит лошадь, запряженная в сани, на облучке – толстый извозчик. До сих пор я видела этих зимних синих извозчиков только издали, они всегда стояли в ожидании седоков на углу Спасо-Песковской площадки и Трубниковского переулка. Я воображала, что именно там, вокруг нашего «кружка». Снежная королева кружила в санях Кая, прежде чем улететь с ним в свое ледяное царство. А тут саму меня вносят прямо в сани! Папа садится рядом, прочно затыкает вокруг меня медвежью полость, лошадь фыркает, сани слегка дергаются и потом уже плавно, как по маслу, скользят по отблескивающим в свете фонарей укатанным снежным колеям. Мы летим по нашим переулкам: Дурновский, Собачья площадка, Борисоглебский, Ржевский, пересекаем Поварскую – и в Хлебный. Впрочем, это я сейчас восстанавливаю в воображении тот наиболее возможный путь. Тогда лабиринт окружавших наш дом переулков представлялся мне таинственно-запутанным и принципиально непознаваемым. А тот десятиминутный санный путь воспринимался как длинное незабываемое приключение: плывем между высокими сугробами и мягко сияющими газовыми фонарями, мимо древних особнячков, огибаем утонувшую в снегу церковь – и в Хлебный, к дедушке. И когда потом, гораздо позднее, но еще в глубоком детстве, от мамы, с ее голоса, я заучила:
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник,
– то неизменно представляла себе тот скользящий и стремительный поворот из Дурновского переулка на Собачью площадку, когда мелкий снег из-под скрипнувшего полоза освежающе обдал мое горячее от высокой температуры лицо и запорошил меховую полость. Больше мне в санях по Москве не пришлось прокатиться. А скоро и сами извозчики исчезли.
Сказочен в Хлебном был и контраст между расхристанным безобразием кухни и красивым уютом комнат, в которых жил наш дедушка. Да и сам способ проникновения в дом был таинственен. Дедушкины окошки выходили во двор, они смотрели прямо на узловатый ствол древнего-древнего тополя. Посетитель заходил за дерево, стучал в последнее от ворот окошко, за окном чья-то невидимая рука чуть отодвигала занавеску – условный знак, что сигнал принят; посетитель огибал угол дома и останавливался перед низкой, утопленной в землю дверью. Несколько минут терпеливого ожидания, и вот за дверью шаги, отодвигается засов, ты попадаешь в темный гнилой тамбур, фигура открывшего тебе дверь тут же молча удаляется обратно в глубь дома, а ты по прогибающимся половицам проходишь в темную от копоти кухню и под косыми взглядами стоящих у своих примусов соседок – словно под присмотром сказочных чудовищ – пробираешься в маленькую и ярко освещенную переднюю; тщательно-тщательно вытираешь ноги о коврик, и только тогда перед тобой открывается еще одна дверь, очень высокая, двустворчатая, белая, с ярко начищенными медными ручками. Эта дверь – последняя граница владений маминой мачехи (в сказке должна быть мачеха). Здесь – неизменно натертый темный паркет, диван и кресла красного дерева, старинные зеркала – в явном переизбытке, цветы и фарфор на столах – тоже красного дерева, акварели в деревянных рамках – на стенах. А потолки в этом древнем особнячке низкие и окошки маленькие. Поэтому в комнатах сумеречно и оттого особенно таинственно.
Ко времени дифтеритного путешествия на санях комнат у дедушки еще было три, а окошек шесть, мебель еще не так избыточно теснилась, как потом. В обширной столовой, вскоре исчезнувшей, мне разрешалось иногда раскачать зеркало-псише так, что все отраженное пространство комнаты взмывало вверх и падало вниз вместе с окнами, длинным столом, с рядами стульев вдоль него, вместе с белой кафельной печью и ее медными вьюшками – совсем как на картинах модных тогда художников. Но когда комнат стало две, после ареста жившего вместе с дедушкой и его женой их бездомного друга, когда столовую отобрали, а дверь в нее заштукатурили и сама память о ней стерлась (о таком не принято было говорить), стиль и дух уплотненного жилища сохранялся. Здесь все было подчинено вкусам его хозяйки. Вычурное зеркало-псише (в которое сейчас, в момент, когда пишутся эти строки, я как раз взглянула – давно уже без всякого удовольствия) перекочевало в одну из двух комнат, тигровая шкура с пола переместилась на диван, фарфоровая сервская лампа по-прежнему стояла на овальном столе. Но теперь нам уже не разрешается раскачивать зеркало – слишком тесно, да и мы выросли, но можно вынуть на минуту меч из ножен черного бронзового гладиатора с приветственно воздетой рукой или всунуть – уже без прежнего ужаса – свой еще маленький палец в оскаленную зубастую пасть распятого на диване тигра и потрогать когти на его плоских, подбитых зеленым сукном лапах, нам позволяется недолго и негромко побренчать на клавишах пианино и с наслаждением повращать по полукругу медные подсвечники над клавиатурой. Вот, пожалуй, и все удовольствия Хлебного, где все замерло в упорядоченном артистизме, с усердием и упорством созданном вкусом, тщеславием и надеждами хозяйки дома, упорно борющейся на своей сжавшейся территории с грозным разрушительным хаосом внешней жизни, впрочем, довольно смело использующей свои вылазки в нее.
Здесь, в Хлебном, кажется, что и сам наш дедушка – импозантный, с усами, пахнущими табаком и крепким чаем, с небрежными барственными манерами и пылкой речью, что и он – лишь неотъемлемое украшение дома. Наша близость с ним проявляется не здесь, а у нас, в Каковинском, в нашей бедности, среди шума вечно переполненной детьми комнаты. Там мы можем влезть к нему на колени, потрепать его усы, поиграть вынутыми из жилетного кармана часами на массивной золотой цепи. Здесь, в Хлебном, и помыслить о таких вольностях нельзя. До самого конца этого дома все в нем будет подчинено эстетическим идеалам хозяйки. Даже после войны, когда исчезнувший на десятилетие (нет, больше, больше!) друг дома, пережив ссылку, побывав в подмосковной оккупации и получив чудесным образом право жить в Москве (ссыльный агроном, он прятал у себя советских офицеров, пробившихся из окружения, а они – удивительно! – обратились к властям с ходатайством за него), когда он вернется в Хлебный, он будет умирать здесь на составленных вместе посреди комнаты стульях, но никакая пошлая кровать не ворвется сюда, не сдвинет с места зеркала, статуэтки и старинные подсвечники. Они уйдут отсюда только вместе с хозяйкой, вместе со всем этим вскоре исчезнувшим с лица земли домом.
Не то Серебряный! Я не могу припомнить хоть в какой-то длительный период времени неизменным облик этой большой докторской квартиры на втором этаже пятиэтажного церковного доходного дома. И сама церковь, что стояла напротив его подъезда, вдруг исчезла. И в то же время устойчивым и цельным остается в памяти облик этой квартиры и ее обитателей: запахи и свет, голоса и шумы, атмосфера суховатой иронии, деятельной практичности и несентиментальной доброжелательности – все это вместе мы и называли «Серебряным».
В самом деле, где бы еще, как ни в Серебряном, узнать мне вкус забытой ныне сласти – грецкого ореха в сахаре? Ты только вошла в самую большую комнату квартиры, а пятнистая, пахнущая мылом рука уже вынимает из узенькой коробки кокетливую бумажную розетку с дивной конфетой. Твоя голова достигает как раз уровня стола, покрытого скользкой блестящей клеенкой и пестротой разложенной по ней карточной колоды, ты открываешь рот как раз на уровне протянутой к тебе руки, конфета как бы сама падает тебе в рот. Тот, кто одаривает тебя, все так же молча раскладывает свой вечный торопливый пасьянс между двумя медицинскими визитами, он даже не оглянется на тебя, только на миг положит руку на твою стриженную голову, но и без слов достаточно этого знака строгого гостеприимства: наслаждайся угощением и не мешай. А тем временем к столу уже подбежал Херри, ревниво принюхиваясь к сладости в твоем рту, и мягкие длинные уши собаки касаются твоей уже липкой щеки. Но это только первое и очень давнее вступление в Серебряный.
Шесть комнат – шесть отдельных мирков, но не замкнутых в своей ощетинившейся чужеродности, как у нас в Каковинском, в нашей коммунальной квартире, а перетекающих друг в друга. Шесть комнат и еще передняя, где разрешается нам играть в прятки, скрываясь за висящими на вешалке шубами обитателей квартиры и ее многочисленных посетителей, в том числе и последних пациентов хозяина. Шесть комнат, но еще и коридорчик, ведущий из передней в глубь квартиры, а в коридорчике – низенький топчанчик для собаки, на котором любит прикорнуть мой маленький брат, иногда один, а иногда в обнимку с Херри. Шесть комнат, а еще и ванная комната, там весело и мгновенно вспыхивает газ, греющий воду, а большое окно с толстыми гранеными стеклами пропускает внутрь зеленоватый свет, но не дает ничего разглядеть. Шесть комнат и большая кухня, где, как кажется мне, постоянно полыхали жаром дрова в большой плите (ванна – газовая, а плита дровяная, на газе готовить – как можно! – это же невкусно!). Мыслимо ли в самом деле где-то как не на дровах приготовить жаркое из зайцев? Вот они кучей выше моего роста навалены возле черного входа. Зайцы привезены с охоты хозяином квартиры и его сыном. Херри тоже участвовал в ловле зайцев. Видела кучу этих битых зайцев, наверное, однажды, но запомнилось, как одно из щедрых чудес Серебряного. Но если и нет зайцев, в кухне постоянно творится вкусная еда, там вечно хлопочет маленькая, с гладкой черной головкой, деятельная, насмешливая, строгая и гостеприимная хозяйка дома. Кроме широких открытых полок для посуды по стене, в кухне у окна стоит еще старинный шкафчик какого-то редкого темно-вишневого цвета (что за дерево?). Когда открываются скрипучие створки шкафчика, кругом разливается неповторимый запах – смесь аромата кофе, чая, всевозможных пряностей, сухих фруктов – запах достатка, гостеприимства, давно, до нас, ушедших радостей жизни, запах Серебряного, его сокровенный знак.
Когда я впервые запомнила путь от нашего дома в Серебряный? А никогда, потому что он был всегда. Порой кажется, что помню нечто совсем изначальное: я сижу у папы на плечах, мы идем по Дурновскому к Собачьей площадке, мама рядом. Я то узко щурю глаза, чтобы свет газовых фонарей расплылся в неясные сливающиеся между собой круги, то широко раскрываю их, чтобы фонари снова приобрели свои собственные очертания. Но, может быть, то слились не только светящиеся старинные фонари, так скоро исчезнувшие из наших переулков, сколько мои собственные воспоминания с рассказами взрослых? Говорили мне не раз, что именно таким образом – на плечах у папы и на Собачьей площадке – я впервые заметила луну и деловито спросила: «А кто так высоко подвесил эту лампу?» Ясно, что была я очень мала и вряд ли могу это помнить. Но как будто и помню. Как давний сон.







