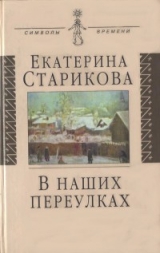
Текст книги "В наших переулках"
Автор книги: Екатерина Старикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Я вступила в комсомол в 1946 году на четвертом курсе университета. Я сделала это холодно и цинично. Однажды ко мне подошел уже давно отвоевавший однорукий Сережа Крутилин, будущий писатель, и спросил: «Ты собираешься в аспирантуру?» – «Да, наверное», – ответила я, только что получившая общегородскую награду – грамоту за дипломную работу «Жанр „Братьев Карамазовых“». «Тогда быстренько вступай в комсомол. Иначе тебе не видать аспирантуры, – посоветовал Сережа. – Пиши прямо сейчас заявление и давай мне». И, преодолевая легкое отвращение к себе, я сделала это тут же, на краешке стола в угловой полукруглой аудитории старого здания университета. Мы были уже не теми чистыми, идейными детьми, какими застала нас война, а трезвыми практиками, пережившими военные тяготы и знающими твердо, что ни на кого, кроме себя, нам надеяться не приходится, чтобы выбраться из голода, холода и бездомности. Задачи перед нами стояли простые и грубые. И действовать нам приходилось просто и грубо.
Надо ли объяснять, как я восприняла в конце тридцать девятого года Финскую войну? Одного соотношения размеров территорий Советского Союза и Финляндии для меня казалось достаточным, чтобы понять смысл событий. Может быть, для более искушенных политиков такого доказательства захватнического смысла нашей политики не хватило бы, но мне его хватало.
Холодная, мрачная надвигалась на нас зима. Когда мы с Тамарой в утренних сумерках мчались в школу по Садовому кольцу, путь наш лежал мимо ежеутренней колоссальной очереди в Смоленский гастроном: «давали» сливочное масло. Часто в очереди стояла и наша домашняя работница Вера, злая, кривобокая уродка, сменившая веселую Настю, вышедшую замуж. Вера неодобрительно глядела из слитной темной толпы женщин на нашу с Тамарой веселую беспечность. Но в школе тоже стало как-то угрюмо. Лежа на двором снегу, мы все метали и метали гранаты в сторону стареньких домиков, в одном из которых жила старуха Ланская, а в другом – бабушка девочек Пруслиных. Из мальчиков лучше всех метал гранаты высокий Ленька Леонидов (он будет убит в первые дни войны и первым из нашего класса), из девочек – Тамара. Я же была довольно неуклюжей и слишком скованной своей застенчивостью.
В домах стали плохо топить и часто выключать электричество. Иногда объявляли учебные воздушные тревоги и тогда под наш оранжевый абажур ввинчивалась синяя лампочка. Все это было поводом отложить уроки, забраться на тахту всем вместе и увлеченно болтать. Мертвенность синего света как-то сообщалась со страшными событиями в снегах Финляндии и одновременно придавала таинственный или мистический оттенок нашим разговорам, что не мешало ощущению уюта от дружеской близости друг друга. На тахту теперь забиралось еще больше народу, чем когда-либо. Почти ежедневными нашими посетителями стали Алеша Стеклов и Дима Редичкин. Дима откровенно оказывал знаки внимания белокурой кокетливой Лиле. Сдержанный, не по возрасту корректный Алеша ничем внешне не проявлял своей пристрастности ко мне. Но если бы не особые чувства, стал бы кто-нибудь из мальчиков делать контрольную работу для девочки раньше своей, чтобы с риском для репутации первого ученика в классе передать через ряд записку с решением? Доказательство неопровержимое, но я принимала Алешины заботы обо мне как должное и привычное, не испытывая никакого волнения.
Но один случайный эпизод той «финской» зимы произвел на меня большое впечатление. У нас в классе училась девочка, уже мало похожая на девочку. У Маши Колтуновой была большая тяжелая грудь, толстые розовые губы и такие же щеки. Она плохо училась и, кажется, не очень тяготилась этим. Но по обычаю тех времен меня «прикрепили» к Маше, чтобы я помогла ей исправить «успеваемость». Она зашла как-то к нам, но наше многолюдье справедливо показалось ей не подходящим для занятий, а шумный спор мальчиков нимало ее не заинтересовал. Она предложила мне заходить заниматься к ней: «Все равно тебе по дороге». Жила Маша в полуподвале маленького гнилого домика. Ряд таких домишек тянулся на месте теперешнего МИДа, то есть на углу Арбата и Смоленско-Сенной площади, как тогда еще говорили. Я стала бывать у Колтуновых. И попала в совсем новую для себя среду. Их узкая комната, выходившая окнами прямо на тротуар, так что мимо целый день мелькали ноги прохожих, странно сочетала в себе бедность и богатство. Комната была убога – уродливой формой, освещением, доморощенной фанерной дверью. Мы, жители барских арабских домов, хотя и теснились всей семьей в одной комнате, но в комнате с мраморными подоконниками и наборным паркетом, ощущали кожей исконную плебейскую нищету этих строений. В комнате Колтуновых не было ни одной книги, кроме учебников, ни какой-либо картинки или фотографии на стенах, ничего, намекающего на прошлую жизнь хозяев. Но комната эта была чисто выбелена, оклеена яркими свежими обоями, полы ее масляно блестели желтой краской. На единственном столе всегда стоял раскрытым новенький патефон, к спинке дивана с полочкой всегда приколоты накрахмаленные салфеточки, вышитые модным тогда способом «ришелье». Чувствовался не просто достаток, а избыток, не вмещавшийся в эту комнату. Состав семьи Колтуновых мне так и остался неясен. Матери никогда не видела. Отец часто вваливался домой посреди дня, иногда в сопровождении таких же здоровых, решительных мужчин, как и он сам. Он приносил с собой и небрежно бросал на стол или диван тяжелые свертки, отрывисто приказывая Маше: «Убери!» И тут же снова исчезал. Угощали у Колтуновых щедро, неведомыми мне колбасами, рыбами, фруктами, однако, обеда не готовили, ели все врозь и на ходу. Что-то тревожное и подозрительное таилось в этой, казалось бы, насквозь проглядываемой комнате. Привычным казалось только одно: у подоконника часто сидел и занимался Машин старший брат Володя, студент-медик пятого курса. Обычно он не обращал на нас никакого внимания, так, отпустит при нашем появлении какое-нибудь ироническое замечание: «Что, снова одолела тяга к знаниям?» И отвернется к окну.
В тот день начала зимы 39–40-х годов, который мне запомнился, мы зашли к Колтуновым из школы вместе с Тамарой: она уже давно и быстро нашла общий язык с обитателями этого подвала. В отличие от обыкновения в этот раз Володя стал с нами весело болтать, а когда мы выходили из дома, он выскочил в одной рубашке за нами во двор: дверь комнаты отделялась от двора лишь маленьким тамбуром, заменявшим здесь кухню. Под ногами лежал мокрый, только что выпавший снег. Володя слепил снежок и запустил им в Тамару, она ответила ему тем же, я поспешила ей на помощь, Маша – мне. Мы весело зашвыривали Володю снежками, и скоро он запросил пощады: «Ну хватит, хватит! Победили». А когда мы уже подходили у воротам, он вдруг окликнул нас: «Девочки! А знаете, кто из вас будет очень интересной женщиной? Когда вырастете, вспомните меня». И он назвал мое имя. Это было так неожиданно: я как-то особенно в последнее время страдала от своей нескладности, от обносков, которые носила, а Володя только что все свое внимание отдавал Тамаре. Что он увидел во мне? Он скрылся в доме, а Маша, провожая нас до ворот, уже почти на площади, заполненной суетливой черной толпой, шепнула нам: «А Володю забирают на днях в армию. Он ведь уже почти врач». Я мало тогда обратила внимания на это известие: кругом забирали молодых людей в армию, «Ворошиловский призыв». Мы привыкли, что людей забирают. Меня волновали слова взрослого Володи обо мне: что он все-таки увидел? неужели он прав? Сердце тревожно замирало предчувствиями.
А через несколько недель, когда уже почти спали жестокие морозы той зимы, Маша Колтунова пришла в класс заплаканная. «Что с тобой?» – спросила Нина Александровна. «Брата убили», – всхлипнула Маша. «Володю?» – испуганно переспросила я. Она только кивнула. Вскоре Маша бросила школу, я больше не бывала в домике на Сенной и потеряла ее след. Но когда мне случается проходить мимо МИДа, всегда вспоминаю мокрый снег, холод снежка за воротником, наш смех, неожиданное пророчество среди веселья и безвременную гибель студента. Как исчезли бесследно старые домишки Сенной, так же без всякого следа мелькнули эти безвестные молодые жизни.
28
И вот она наступила – весна сорокового года, весна моего расцвета, моего шестнадцатилетия, единственная пора в моем существовании, которую можно назвать юностью. «Пан сорокового года» – так я мысленно называла ту давнюю свою весну.
А все началось в тусклое утро февральской оттепели, первой оттепели жестоко-холодной зимы. Я с утра оказалась дома одна. Бывают дни, когда человеку просто неможется, голова тяжелая, ноги слабые, всё валится из рук. Мама, при всей ее строгости с нами, это понимала и разрешала мне в такие дни не пойти в школу. Я поздно встала и, не одеваясь как следует, лениво бродила по неубранной комнате, не зная, что с собой делать. Убрать комнату? Вымыть посуду? Еще успеется. День без школы казался огромным. Что бы почитать? Всё читано и перечитано. И тут я вспомнила о «папиных книгах», оставленных им при уходе от нас, они хранились на самом верху высокого старинного шкафа. Приставив к нему стул, я добралась до этих заброшенных пыльных книг папиной молодости. «Философия нищеты» – нет, я не хотела философии. «История текстильных мануфактур в России» – это тем более мне в тот момент было ни к чему. «Кипарисовый ларец», стихи. Стихов сегодня не хотелось. «Великодушный рогоносец» – я когда-то, только научившись читать, пыталась вникнуть в эту книжечку, потому что о ней много говорили взрослые, но ничего не поняла. И ее – в сторону. Я капризно листала пожелтевшие брошюрки и отвергала одну за другой. «Пан» – наверное, что-то польское про угнетение панами крестьян. В сторону. Но бросив взгляд на имя автора, я взяла книжечку снова в руки. Что-то смутное мне сказало это имя. Я раскрыла книжку и, все еще стоя на стуле, стала читать, выхватывая глазами отдельные случайные фразы:
«Ребенок, школьница. Я смотрел на нее. Высокая, но еще не развившаяся, лет пятнадцати-шестнадцати, длинные темные руки без перчаток…»
О ком это? Я погрузилась в книгу, словно затягиваясь в омут. Что-то совсем новое для меня, очень нужное и в то же время опасное было в этой книге. Всё в ней отвечало тому томлению, ожиданию чего-то смутного, непонятного, гнетущего и очаровывающего, что временами исподтишка приближалось ко мне. Я села к окну, закутавшись в старую бабушкину шаль. И так и не умываясь и не завтракая, я прочитала всю повесть Гамсуна. Жизнь перевернулась. Все ощущения и чувства обострились.
«И ко мне подбиралась весна, кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги». Серый, предвещавший весну, туман за окном приобрел волнующую таинственность. Сырой влажный ветер нес через открытую форточку обещания. Тяжелые капли воды на голых ветвях деревьев стали казаться чудом. Но хотела я любви. Любви томительной, страстной и несчастливой. Я стала ждать её.
И надо же, чтобы именно в эти дни, забежав к папе на Кропоткинскую, я услышала от Анны Ивановны, что она недавно побывала у Артамоновых на Абельмановской заставе – такая даль! – и видела над кроватью у Павлика мой портрет. «Сам нарисовал. Похоже. Только почему-то ты в римской тоге с обнаженным плечом», – с улыбкой добавила Анна Ивановна. «Это потому, что он срисовывал с косогорской фотографии, где я в сарафане, вот плечи-то и голые», – смеясь, объяснила я, и виду не показывая, что придаю хоть какое-то значение услышанному. А сердце гулко забилось. Вот оно! Как я забыла о Павлике?
К его постоянным посещениям нашего дома я привыкла и давно уже не гадала, кому из нас, девочек, он отдает предпочтение. Кажется, он делил его поровну. И что портреты он делает с фотографий, в том числе моих, знала, сама дала ему ту, где я в сарафане. Он же готовится в архитектурный институт, ему надо упражняться в рисунке. Но сейчас, после «Пана», всё приобретало значительность. Ведь не каждый же рисунок он вешает над своей кроватью? Неспроста же такое? И все закружилось.
Как почувствовал Павлик мой бессловесный зов? Не знаю. Помню только, что я вдруг стала получать от него письма – не по почте, а прямо из рук в руки, – какие-то смутные, туманные, с непонятными намеками и угрозами. Еще лучше помню, что уже 30 марта, в день Алешиных именин (Алексей-Человек Божий, с гор потоки), почему-то было решено уничтожить эти письма. И на нашей черной лестнице, на каменном подоконнике мы с Павликом сожгли всю нашу переписку в знак роковой неразрешимости наших отношений. Алеша присутствовал при этом, нимало не интересуясь смыслом происходящего, деловито занятый процессом разведения костра.
А еще через несколько дней был вечер в «чужой школе», куда был приглашен и наш класс, и я позвала туда с собой Павлика. И вот там, в чужой школе, у темного мокрого окна он как-то отчаянно невесело сказал мне о своей любви. Я хоть и ждала многого от этого вечера, была в полном смятении от прямоты выраженного чувства и не могла и слова вымолвить пересохшими шершавыми губами. А он требовал ответа. Какого? Я сказала, что отвечу через несколько дней. Когда? Где? Вопросы звучали грозно. И я тут же придумала: 17-го, в четыре, в Третьяковской галерее, в зале Врубеля. Услышав мой ответ, Павлик отвернулся и бегом выбежал из школы. А я шла домой вместе с Тамарой сквозь мокрый, лепящий, совсем ноябрьский снег, шла, потрясенная и несчастная. Первое объяснение в любви и первое свидание. Почему мне так плохо? Почему я не хочу его?
Но оно наступило, сверкающее синими лужами, звенящее ручьями 17 апреля. И я уже с веселым любопытством прибежала в Третьяковку. И в совершенно пустом сумрачном зале у поверженного Демона нашла мрачного и решительного Павлика. Видимо, отсвет сияющего апрельского дня еще был на моем лице, потому что, только взглянув на меня, мой угрюмый друг просиял. И мы тут же, избегая чего-либо серьезного, заговорили о картинах. Он просвещал меня и объяснял мне величие Врубеля. Ведь само выбранное мною место свидания означало многое и было косвенным лукавым обещанием чего-то. Это он любил Врубеля. Я-то любила Серова. И вот мы стоим перед его кумиром, как перед алтарем. И оказалось, что никаких роковых ответов не надо. Я пришла, я приняла Врубеля, мы вместе. Какие еще слова? А потом мы идем сине-золотыми апрельскими улицами, разбрызгивая лужи, – через мосты, набережные, площади. Павлик провожает меня до дому. А завтра вечером он, конечно, будет у нас.
Он бывал у нас в ту весну каждый вечер. Никаких признаний он от меня так и не услышал. Но я ждала его приходов, мне, как вино пьянице, нужно было волнение ожидания, любование мною, смена веры и неверия в его блестевших за очками глазах. Он объяснял мне задачи по математике и физике – он же был на два класса старше меня, он рисовал мои портреты, а копируя репродукции Врубеля, говорил, что я похожа на женщину с картины «Испания». Это я-то! Но накинув на голову мамин белый оренбургский платок (подарок учеников) узорными краями к лицу, я со смехом переспрашивала: «Вот так, наверное, больше похожа?» Павлик по-прежнему иногда спорил с мамой о политике. Вечный спор о колхозах! Но затягивая старый спор, Павлик ждал самого-самого позднего часа, когда так и не дождавшись его ухода, мама и дети ложились спать за ширмой, а мы по-прежнему сидели за письменным столом, делая вид, что по-прежнему решаем задачи. Павлик молча рисовал букет ландышей, стоявший перед нами в стакане, и на самом краю листа писал: «Ты подаришь мне эти цветы?» А я на том же краю карандашом: «Столько ландышей, сколько ты нарисуешь». И все в таком же роде. Но однажды он написал: «Ты разрешишь мне тебя поцеловать?» И я тем же карандашом: «нет». Но провожая его до черного входа (парадный запирали на ночь), я долго, слишком долго искала тяжелый крюк, которым закрывалась кухонная дверь на лестницу. И он наконец-то догадался, что значит это промедление. Нет, не того я ждала. В этом жадном прикосновении жестких чужих губ не было ничего приятного, а в неловкой позе тем более. К тому же черная закоптелая кухня, хотя и не видная, но отчетливо пахнущая керосином, плохо вязалась с тем культом природы, который в моем воображении почитательницы «Пана» соединялся с любовью. Еще несколько раз я повторила опыт. Но уже не в кухне, а спустившись с поздним гостем в пустой ночной двор. Может, звездное небо поможет? Однако кроме майского неба над нашими головами, рядом была помойка. Я боялась крыс и не могла забыть об их возможном присутствии. Как-то постепенно я перестала провожать своего ночного гостя, торопя его теперь на последний трамвай. И он не настаивал. Видно, он в свои восемнадцать лет мечтал уже о других поцелуях. Это я сейчас догадываюсь. Тогда как-то и что-то стало понемножку меняться.
Той весной мой молчаливый зов услышал не один Павлик. Я стала замечать, что Алеша Стеклов как-то особенно грустно смотрит на меня. Но такой привычный, надежный, благоразумный, он уже совсем не годился на роль лейтенанта Глана. Достаточно того, что это именно он приносил мне теперь один за другим томики Гамсуна, выпрашивая их из тщательно оберегаемого собрания любимых книг своей матери.
И еще к нам зачастил вдруг Роберт Медин. Он и всегда бывал у нас, но учился он на класс отставая от меня и был в моих глазах моложе меня, и уже потому я не обращала на него никакого внимания. И вдруг он как-то неожиданно вырос, стал совсем взрослым. «Сколько же тебе лет?» – спросила однажды мама. «Только что исполнилось восемнадцать, – ответил он гордо. – Я, наверное, брошу школу, стыдно у отца на шее сидеть. От сам так говорит». Тут-то все и вспомнили, что Роберт пропустил два класса, когда снимался в кино. Школу Роберт действительно в сороковом году бросил, поступил работать и однажды в мае явился к нам в новеньком светлом костюме, купленном на первый заработок. В настоящем мужском костюме! Ни у кого из мальчиков костюма еще не было. И когда Роберт предложил мне «прошвырнуться» с ним по Арбату, мне показалось это заманчивым и даже лестным. С таким костюмом! «Мы всего на полчасика!» – сказала я маме, захлопывая дверь из передней на лестницу и оставляя в передней рядом с мамой отчаянные глаза Павлика. «Она меня не любит, нет, она меня не любит…» – горестно приговаривал он, а мама не преминула мне об этом сообщить да и свой совет ему не утаила: «А ты на нее меньше обращай внимания. Попробуй». А на следующий вечер перед уходом от нас в той же передней уже Роберт сунул мне в руку записку, в которой прощался со мной навсегда и намекал на возможность самоубийства. Почему навсегда? Почему самоубийство? Я в слезах протянула маме эту записку. Мама, не отрываясь от штопки, искоса взглянула на нее и вынесла приговор: «Не плачь. Завтра не придет. Придет послезавтра». И как же я удивилась, когда Роберт пришел именно послезавтра и, как ни в чем не бывало, уселся на тахту играть вместе со всеми в чепуху.
В волейбол Павлик играл неважно, то ли плохо видя сквозь очки, то ли стесняясь в чужом дворе. Играть в волейбол мне было определенно приятней в привычной компании наших дворовых хулиганов. А однажды двое из них позвали меня и Тамару на Москву-реку кататься на лодке – от Смоленской набережной до Воробьевых гор и обратно. Я оказалась в одной лодке с тем синеглазым стройным мальчиком, которого когда-то встретила на пожаре в Ильинском. Как весело мне было с ним в лодке! День был ветреный, яркий, прохладный, а мальчик складный, ловкий и так сильно греб. Жаль только говорить с ним мне было совершенно не о чем. Какой там лейтенант Глан! Он, наверное, вообще ни одной книжки не прочитал.
Наступили экзамены. Цвела черемуха. Казалось, что всюду пахнет черемухой. На мой учебник физики с громадного букета обильно сыпались белые лепестки. Я клала на раскрытый учебник голову и сладко, взволнованно вздыхала в какой-то дреме. Лейтенанта Глана не было, но всё, что ему должно было сопутствовать, было: весна, волнение, ожидание любви. И как я только сдала эту физику?
К началу лета сорокового года выяснилось, что всем нам некуда деться на жаркие летние месяцы. Старики Краевские, видимо, устали от нас и пригласили к себе на Косую Гору одну маленькую Лёлю. Алешу отправили в пионерский лагерь. Я должна была остаться в Москве. И вдруг однажды мама торжественно принесла из школы бесплатную профсоюзную путевку в какой-то дом отдыха – для меня. Никто из нас никогда не бывал ни в каких домах отдыха, очень меня смущала туманная перспектива в нем оказаться. Но мама, довольная, твердила: «По крайней мере две недели побудешь на свежем воздухе».
Смешная и странная была эта моя поездка. На путевке было указано, что поезд на Киржач-Александров (дом отдыха был недалеко от города Киржач) отходит от Орехова-Зуева в шесть часов, следовательно, решили мы сообща, выехать в Орехово надо было с вечера. Папа посадил меня в совершенно пустой вагон последнего поезда, и я отправилась в неизвестность. Удивительно теперь такое и представить: отправить ночью шестнадцатилетнюю девочку одну. А где же были все её тогдашние кавалеры? Нет, никому не пришло в голову волноваться за нее и ее сопровождать. Так ведь ничего и не случилось. Нудно тащился через темноту поезд и к рассвету прибыл в неведомое мне тогда Орехово, нудно прошло еще часа два на жесткой скамье вокзала до открытия кассы. Но тут-то и обнаружилось самое неприятное: поезд до Киржача, оказывается, отправлялся в шесть часов не утра, а вечера. О ужас! Ждать половину суток в этом грязном вонючем вокзале? Ни за что! Я решила тотчас же: ждать не буду, не нужен мне какой-то дом отдыха, возвращаюсь домой. И встала в очередь уже за московским билетом. Какой-то невзрачный молодой человек с авоськой, набитой папиросными пачками, спросил меня, не еду ли я в Киржач в дом отдыха. Я ответила, что собиралась, но теперь вот решила из-за долгого ожидания поезда вернуться в Москву. Он удивился и возмутился: как можно бросить путевку и наплевать на отпуск? Не лучше ли подумать, как провести эти двенадцать часов? И тут меня осенило: а не пойти ли нам пешком? Говорят, до Киржача всего тридцать километров. Лично я десять хожу легко, а где десять, там и тридцать, за двенадцать часов мы как раз дойдем до места, а в это время наш поезд только отправится от Орехова. Прямая выгода. И этот восемнадцатилетний дуралей не без колебаний, но согласился со мной. Подхватив наши чемоданчики, да еще авоську с папиросами, мы бодро двинулись мимо морозовских кирпичных казарм по прямым и скучным улицам Орехова. Редкие прохожие с недоумением указывали нам направление на Киржач (имея в виду, конечно, одноименное село, но никак не город, до которого было пятьдесят километров поездом). Первое сомнение в смысле нашей затеи закралось ко мне уже в Зуеве – той части города, что находится за рекой и представляла тогда собой просто деревню, но с бесконечными, немощеными песчаными улицами. Идти по песку стало труднее, и тяжесть чемоданчика уже давала о себе знать. Но стоило нам выйти за город, и я снова взбодрилась. Мир был прекрасен. Что может быть лучше раннего июньского утра? В полях пели жаворонки. Прохладный душистый ветер остужал разгоряченное ходьбой лицо. Небо было высоко и прозрачно. Все будет хорошо, уговаривала я себя, хотя ручка чемодана уже ощутимо жгла ладонь. Скоро после выхода из города дорога уперлась в железнодорожный мост через Клязьму, недоступный пешеходам. Что делать? Искать обходной путь, идя вдоль реки, решаю я. И мой молчаливый спутник подчиняется. Идем и идем зеленым берегом Клязьмы – нет моста, нет селений, нет людей. Что делать? Надо попробовать перейти реку вброд, она кажется мелкой. И мой спутник, поставив чемодан на бережок, засучив брюки, лезет в воду, держа в одной руке драгоценную авоську с папиросами. Шаг, другой, третий по мелководью, и вдруг его нога соскальзывает в яму, вода – выше колена, брюки мокрые, авоська плывет. Я безудержно хохочу. Чертыхаясь, молодой человек вылезает на берег и в первый раз решительно заявляет, что вброд больше не полезет. Не буду подробно рассказывать, как искали мы хоть какой-нибудь дороги, как найдя ее и примерно определившись, в какой стороне где что может располагаться, на опушке леса у молодой елочки устроили привал и военный совет и как закусили припасами моего спутника (имени его я так и не узнала), ибо у меня-то с собой ничего не было. После еды, глядя на свои громадные никелированные наручные часы, молодой человек объявил мне тоном приказа, что надо возвращаться в Орехово и что если мы поторопимся, то еще успеем к шестичасовому поезду на Киржач. И мы успели. Задыхаясь, с горящими от мозолей руками, обгоревшие, ввалились мы в вагон. И к вечеру, но еще засветло были в доме отдыха. Мы прожили там две недели, ни разу не заговорив друг с другом, словно соучастники тайного преступления и уж во всяком случае большой глупости.
Я так подробно вспоминаю путешествие в Киржач потому, что оно-то и оказалось для меня завершением «Пана сорокового года», концом опьянения той весны. Оставшись совсем одна, – а я не заговорила в этом провинциальном доме отдыха вообще ни с одним человеком, – я получила возможность еще раз мысленно пережить все случившееся со мной в последние месяцы. Я аккуратно ходила в домотдыховскую столовую и съедала всё мне положенное, а в девять часов вечера, когда вся молодежь отправлялась «на танцы» под гармонь, я вместе с обитавшими со мной в комнате старыми фабричными работницами ложилась спать. Молча нырнув в чистую холодную постель под тощее байковое одеяло, я, против обыкновения, тут же засыпала. Потому что все остальное время длинного, светлого и холодного в тот год июньского дня без устали бродила по лесам, опушкам, откосам, полянам, наслаждаясь сдержанной прелестью робко проснувшейся земли. Иногда я ходила в город Киржач, в старинных рядах покупала полкило халвы и съедала ее всю в течение трехкилометрового обратного пути. Сам же город был так беден, пустынен, заброшен, выморочен, что никакого желания подробно рассмотреть его у меня не было. Тогда еще не настала мода и не появился культ выискивать всякие забытые «апсиды» и «закомары» и восхищаться ими, и в разорении и нищете я видела разорение и нищету. И потому чаще я бродила по высокому берегу реки Киржач между елочек, только-только пустивших маленькие светлые росточки на концах своих крестовидных верхушек. В руках я постоянно носила томик Гамсуна, данный мне в поездку Алешей Стекловым. Я рвала крошечные фиалки на сухих травяных склонах прозрачного Киржача и закладывала цветы между страницами книги, загадывая, какая именно фраза выпадет мне на этот раз из незнакомого текста: «И меня переполняет странной благодарностью, сердце мое открыто всему, всему, я все люблю…» Но только не Павлика Артамонова. Это стало здесь очевидно. Меня, в отличие от гамсуновских героев, мучила совесть, ощущение безнравственности своего отношения к человеку, требовавшему искренности. Хотя нет, не о нем я думала в первую очередь, а о самой себе, о своей утраченной чистоте. Сидя на песчаном берегу звонко журчавшей реки, я писала письма. Собственно говоря, всего два письма. Одно, обещанное, домой, маме, с юмористическим рассказом о своем путешествии. Другое, исповедальное, покаянное – Нине Ашмариной. В этом втором письме я вылила всё свое раскаяние, недоумение перед собой – вину за несколько поцелуев, в которых, как оказалось, не было любви, а только любопытство к неизведанному.
Я успела еще в доме отдыха получить два ответа – вот как тогда работала почта! Неожиданно для меня мама страстно, негодующе отчитала меня: неужели я не понимаю опасности прогулок с незнакомыми молодыми людьми по пустынным полям и лесам? Нет, я не понимала. Глупость, конечно, но опасность? Я же не лезла сама в реку. Письмо Нины было тоже покаянным: и она мучается теми же сомнениями, и ее любит мальчик, одноклассник, а она не может понять, как к нему относится и как ей себя с ним вести.
Нина решит этот вопрос через четыре года, когда ее мальчик вернется с войны и приковыляет к ней, в нашу по-прежнему общую с Ниной квартиру, с тем же, всё с тем же вопросом: любит или не любит? И тогда Нина ответит твердым отказом. И тут же выйдет замуж за другого, за встреченного в эвакуации комсорга нашей школы. А что ей было делать, если не любила? Но лучше бы она ответила так тогда, в сороковом году! Я никогда не могла забыть фигуры в отглаженном, еще довоенном темно-синем костюме, шатающейся на двух новеньких скрипучих протезах, – случайно я встретила в нашей передней этого бывшего «мальчика», в последний раз выходившего из комнаты Нины. Бедные, бедные наши мальчики…
Я свой «вопрос» решила вовремя. Только я вернулась из Киржача, как Павлик явился к нам, снова взволнованный, суровый и с готовым письмом в руке. Мы много тогда писали писем, словно готовясь к военным разлукам. Павлик сунул письмо в мою руку прямо в присутствии мамы. Я зашла за ширму и стала читать это длинное письмо, но волнуясь, ничего не могла понять из запутанных упреков. Осознала только, что Павлик снова, как в апреле, требует от меня ясного ответа: любишь – не любишь. Я оторвала крошечный уголок от его письма и нацарапала на нем карандашом «нет». Выйдя из-за ширмы, я ухитрилась украдкой вложить в Павликову руку этот клочок бумаги, а он, не переставая разговаривать с мамой, лишь опустив глаза, взглянул на записку и, оборвав фразу, кивнул нам с мамой головой и выбежал из комнаты.
Не испытав любви, я испытала летом сорокового года одиночество разрыва. Одиночество тем более заметное, что ему предшествовала такая бурная весна, когда я все время чувствовала на себе чье-либо пристальное внимание. А тут сразу – никого. Исчез Павлик, почему-то перестал бывать у нас Роберт Медин, уехал на дачу в Барыбино Алеша Стеклов, получив назад своего Гамсуна; подруги тоже разъехались. Лето. Опустел двор. Я одна наедине со своими трезвыми мыслями и памятью о весеннем опьянении. Что же было со мной? Что-то было, но я не знаю что. Я ощущала непривычную пустоту и легкость. Нет, я не грустила, я уже умею ценить одиночество. У меня есть дневник, я много читаю.
В то лето я впервые прочитала «Анну Каренину». Да, так поздно и впервые. Конечно, я знала сюжет романа (и именно потому не читала его, боясь прикосновения к семейным драмам и женской измене). Как можно было в те годы не знать «Анны Карениной»? Знаменитая постановка в МХАТе занимала всех, вокруг меня взрослые спорили о ней, восхищались Хмелевым, возмущались Тарасовой. Я, конечно, не видела столь модного и труднодоступного спектакля, но его транслировали по радио и в нашей комнате раздавались истерические рыдания Тарасовой-Анны. Мама, как всегда, комментировала услышанное: «И так кричит петербургская светская дама? Да если бы ее пытали, она и то так не могла бы кричать». И вот я наконец прочитала роман, и он что-то сдвинул в моей душе. Я не могла воспринять драму Анны отстраненно от нашей домашней драмы и я впервые мысленно простила маму. И по обыкновению записала все перечувствованное в дневник. А через несколько дней нашла в нем вложенное письмо. Мамин почерк. Оно начиналось памятными мне по 1937 году словами «Дорогая моя девочка…» Мама благодарила меня за понимание и прощение. Больше ничего не помню, что объяснялось мне в том письме. Да мне и не нужны были объяснения. Многое я давно сама стала понимать, остальное дал понять Толстой. Важно было одно: стена между мной и мамой была пробита, мы простили друг друга. Конечно, мы никогда не говорили вслух ни о самом письме, ни о чем-либо, с ним связанном. Я плакала над маминым письмом в одиночестве, запершись в холодной ванной комнате. Но в нашем доме стало легче дышать. Оставшись наедине, мы с мамой уже не молчали, мы могли уже свободно говорить друг с другом. Только не об этом. Только не о себе. Такого никогда не было.







